Текст книги "Вера, Надежда, Любовь… Женские портреты"
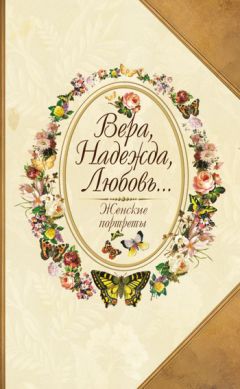
Автор книги: Юрий Безелянский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
Разрыв
Характерно письмо Алексея Толстого Крандиевской, написанное 15 декабря 1919 года в Детском Селе:
«Что нас разъединяет? То, что мы проводим жизнь в разных мирах. Ты – в думах, в заботах о детях и мне, в книгах, я – в фантазии, которая меня опустошает. Когда я прихожу в столовую или в твою комнату, – я сваливаюсь из совсем другого мира. Часто бывает ощущение, что я прихожу в гости. Второе, что нас разъединяет: – ты понимаешь происходящее вокруг нас, всю бешеную ломку, стройку, все жестокости и все вспышки ужасных усилий превратить нашу страну в нечто неизмеримо лучшее. Ты это понимаешь, я знаю и вижу. Но ты, как женщина, как мать, инстинктом страшишься происходящего, всего неустойчивого, всего, что летит, опрокидывая. Повторяю, – так будет бояться всякая женщина за свою семью, за сыновей, за мужа. Я устроен так, – (иначе бы я не был художником), – что влекусь ко всему летящему, текучему, опрокидывающемуся. Здесь моя пожива, это меня возбуждает, я чувствую, что не даром попираю землю, что и я несу сюда вклад.
Когда ты входишь в столовую, где бабушка (мать Крандиевской – Анастасия Романовна, которую Толстой недолюбливал, она раздражала его своей «достоевщиной». – Ю. Б.) раскладывает пасьянс, тебя это успокаивает. На меня наводит тоску. От тишины я тоскую. У меня всегда был этот душевный изъян – боязнь скуки.
Не думай, что эта разность в ощущениях жизни не должна сказаться на взаимоотношениях. На тебя болезненно действует убожество окружающей жизни, хари и морды, хамовато лезущие туда, куда должны бы входить с уважением. Дегенерат, хам с чубом и волосатыми ноздрями – повергает тебя в содрогание, иногда он заслоняет от тебя все происходящее. Я стараюсь этого не замечать, иначе я не увижу того, что заслоняет. Хамская рожа мне интересна, как наблюдение.
Понимаешь, какая разница в восприятиях? От этого накапливается раздражение, – непонимание, ссоры.
Ты говоришь, мы друг друга не понимаем. Не верно. Очень понимаем, иногда не хотим понимать, потому что сердце зло.
Вот может быть, что ты мало знаешь обо мне: – это холод к людям. Я люблю только трех существ на свете, – тебя, Никиту и Митю и отчасти Марьяну. Но ее как-то странно, – что меня удручает, – когда вижу, люблю, но никогда не скучаю, могу расстаться, как с чужой, на много лет. Никогда не говори ей этого.
Когда я бываю на людях, то веселюсь (и меня считают очень веселым), но это веселье будто среди призраков. И это тоже меня удручает. И вот почему я все забываю, даже лица, имена, не говоря уже о словах и жестах.
Единственная живая плоть на земле – это ты и Митька с Никиткой. Я вас очень люблю и очень вам предан. Истинная это любовь, полулюбовь, низкая любовь, – ей-Богу, не знаю. И про то, что такое любовь, не имею понятия. Но знаю, что это все же главное в моей жизни, потому что к работе своей отношусь как-то с холодком: у меня нет острого самолюбия, процесс творчества доставляет истинное наслаждение, но ставлю себе вопрос: будь я обеспеченным человеком, как бы я работал? Наверное, в 10раз меньше. Я, может быть, нашел бы другую забаву, чтобы скрасить много, много лет дребезжащую во мне тоску земного существования».
И концовка письма:
«Боюсь ли смерти? Теперь почти нет. Но боюсь смерти твоей и детей. Твоей смерти боюсь оттого, что меня будет поминутно преследовать твой образ где-то в непоправимом одиночестве смерти, твоя беззащитность в том неведомом мире. То, что ты ушла. Вот что непереносимо страшно. Что делать, чтобы этого не было, – не знаю. Нужно прощать друг другу и, как мы только можем, любить друг друга, любить как два растения, прижавшиеся друг к другу в защиту от черной, непогодной ночи».
Такое вот письмо. Последние строки сильно отдают литературой. Но не будем разбирать стиль. Чем вызвано письмо, что послужило толчком для его написания? А вот чем: Толстой прочитал страницу из дневника Крандиевской (она его не прятала?). Вот как комментировала это событие Крандиевская:
«Пути наши так давно слиты воедино, почему же все чаще мне кажется, что они только параллельны? Каждый шагает сам по себе. Я очень страдаю от этого. Ему чуждо многое, что свойственно мне органически. Ему враждебно всякое погружение в себя. Он этого боится, как черт ладана.
Мне же необходимо время от времени остановиться в адовом кружении жизни, оглянуться вокруг, погрузиться в тишину... Я тишину люблю, я в ней расцветаю. Он же говорит: ”Тишины боюсь. Тишина – как смерть”.
Порой удивляюсь, как же мы и чем мы так прочно зацепились друг за друга, мы – такие противоположные люди?..
Вчера Алеша прочел эту страничку из моего дневника и ответил мне большим письмом, а в добавление к нему сказал сегодня утром: «Кстати, о тишине. Ты знаешь, какой эпиграф я хочу взять для нового романа? Эпиграф – ”Воистину, в буре – Бог”. Тебе нравится?»
– Замечательный эпиграф, – ответила я и подумала: «Да, Бог в буре, но в суете – нет Бога”».
Вот так отреагировала Наталья Крандиевская на письменный выпад своего мужа. Из его письма и из ее дневника уже явственно можно различить пробоины в их семейном корабле. Он еще на плаву, но вода уже начинает проникать через днище в машинное отделение корабля. Крандиевская по-прежнему ведет большой дом, занимается детьми, ее кружит суета хозяйственных и организационных забот, а Алексей Николаевич денно и нощно сочиняет романы и рассказы, пишет сценарии, встречается с коллегами по перу, выезжает в различные поездки, то по стране, то за рубеж. Кушает... Пьет... И пишет домой письма, любимой Тусе.
12 июля 1930 года, с Волги:
«Милая, голубенькая, очень жалко, что тебя нет со мной. Здесь отдыхаешь с каждым днем на год. Питаемся мы хорошо, осетрина, судак, иногда стерлядь, икра, балык. На пристанях много яиц, молока, копченой рыбы, огурцов, ягод. Вчера я слопал кило малины с топленым молоком...»
И после гастрономических искушений: «Очень тебя люблю, ужасно. Нам необходимо с тобой отправиться путешествовать. Это решено твердо. Милый, голубенький, не утомляйся, наплюй на мелочи жизни, думай больше о себе. Поцелуй деточек, скажи, что их очень люблю. Я катастрофически толстею. Ужасно. Твой А. Толстой».
«Наплюй на мелочи жизни». Он наплевал давно. Ей этого не удается никак: мешают многочисленные заботы и обязанности.
Начало 1932 года:
«Моя любимая, родная, одна в мире. Тусиненька, неужели ты не чувствуешь, что теперь я люблю тебя сильнее и глубже, чем раньше? Люблю больше, чем себя, как любят свою душу. Ты неувядаемая прелесть моей жизни. Все прекрасное в жизни я воспринимаю через тебя. Иногда мне смертно тебя жалко, когда чувствую твою беспомощность, как тогда, когда ты сидела в больнице со сломанной ножкой.
...Любовь моя, умоляю и заклинаю тебя – беречься, не носить тяжестей. Пусть будет одна картошка, на все, на все наплевать, кроме твоего здоровья. Будь эгоисткой, ругайся и требуй, но из-за удобства семьи не смей жертвовать здоровьем. Обещай мне. Слышишь? Слышишь?..»
Она слышала, но не могла жить иначе, с удобством для себя, ибо по натуре своей не была эгоисткой.
В январе 1932 года Алексею Толстому исполнилось 50 лет. 10 января Крандиевская пишет ему в письме:
«...Всем домом тебе послали 7 штук поздравительных телеграмм. Весь вечер с ребятами дурили, сочиняли текст, говорили о тебе. Я сказала: – ”Все-таки хорошего мне мужа дал Господь-Бог”. – Никита заметил: – ”Ну, Господь-Бог вряд ли в этом участвовал. Скорее это горькая шутка Вельзевула”... Мы живем дружно. За вечерним чаем устраиваем «семейный университет» или «вечер научных вопросов». Выходит очень занятно. Дети со мной заботливы и трогательно ухаживали за мной вчера. Сегодня мне лучше – я встала. Алешечка, у нас радость. Нас опять прикрепили к закрытому распределителю на Мойке... Вот как вышло, что к твоему пятидесятилетию я как бы подвела итог нашей жизни, и вижу – она была прекрасна и грешно ее комкать и уродовать напоследок, не доведя до конца...»
Пророческое предчувствие.
Март 1935 года. Толстой в Москве, весь в творческих делах. 8 марта в Горках читает оперу «Декабристы» (вместе с композитором Юрием Шапориным) Ворошилову. «Пиноккио читал там же 6-го». Клим Ворошилов хотя и не обладает литературным вкусом, как Туся, но он – власть. И Толстой очень жаждет понравиться власти. А тем временем Туся посылает в марте четыре письма подряд своему мужу-писателю. Она «докладывает», что обтянула «кушеточку» в его кабинете, отбивалась от назойливых журналистов, принимала гостей, озабочена весьма детьми: Никита женился на дочери Михаила Лозинского – Наталии, а «Митька хочет жениться на Улановой».
И во всех четырех письмах тоска по уехавшему мужу: «Целую тебя, радость моя, и очень люблю издали...», «Прощай, радость моя; не забывай, что у тебя ”семья за плечами”, любящая тебя и очень скучающая по тебе» и т. д.
Ну, и маленькие просьбы. В ответ Алексей Толстой отвечает: «Тусинька, больше писем таких мне не пиши. Пока нужно передохнуть и дать возможность другим передохнуть от меня... Я по вас всех, мои родные и милые, соскучился и с наслаждением вернусь в родное гнездо...» Короткий залет в гнездо, а уже 21 июня 1935 года – Париж, Первый Международный конгресс писателей в защиту культуры. Письмо домой: «Наташенька, друг мой милый, спасибо за письмо, ты дивный и прелестный человек...» А чтобы «дивный и прелестный человек» не очень расстраивался, что он не с ним в Париже, Толстой живописует столицу Франции мрачными красками: «Париж: – это какой-то город призраков, мертвецов... здесь у людей потухшие глаза. Умерла радость жизни...» Август 1935 года. Толстой дома, в Детском Селе. Пишет письмо: «Тусинька, чудная душа, очень приятно находить на подушке перед сном стихи пушкинской прелести. Но только образ равнодушный не светится за окном – поверь мне. Было и минуло навсегда...»
Что значит «было и минуло»? А то, что между супругами произошел окончательный разрыв. Наталья Крандиевская с детьми покинула Детское Село в августе 1935 года и переехала в Ленинград, на Кронверкскую улицу.
Запись из дневника Крандиевской:
«В конце лета 1935 года Толстой вернулся из-за границы. Неудачный роман с П. пришел к естественному концу. Отвергнутое чувство заставило его, сжав зубы, сесть за работу в Детском. Он был мрачен. Казалось, он мстил мне за свой крах. С откровенной жестокостью он говорил:
– У меня осталась одна работа. У меня нет личной жизни».
Во-первых, кто такая П.? 34-летняя Надежда Пешкова, художница, вдова сына Горького – Максима. Поговаривали, что она любовница Генриха Ягоды. Может быть, после Ягоды Алексей Толстой был слишком пресен? Не будем гадать. Во всяком случае, разлучницей стала не Надежда Пешкова, а совсем другая женщина.
Ну, а во-вторых, откровение Толстого: «У меня нет личной жизни». А как же любимая жена? А как же все заверения в любви до гроба? Все кончено? Корабль пошел ко дну?..
Конечно, Наталья Крандиевская была в отчаянии и в поисках лекарства от душевной муки обратилась к стихам. Она пишет стихотворения «Торжественна и тяжела...», «Больше не будет свидания...», «Люби другую, с ней дели...». Более того, она посылает свои горькие стихи Толстому. Зачем? Чтобы его вернуть? Убедить в своей неизменной и верной любви?.. Все напрасно. Толстой уже любит другую.
Кто эта другая? Другая – это Людмила Крестинская, только что разошедшаяся со своим мужем писателем Баршевым. И разумеется, молодая – ей 26 лет, она моложе Крандиевской на 21 год.
Обратимся к воспоминаниям Марианны Толстой:
«В августе я уехала на юг и вернулась только в начале сентября. Туся встретила меня по-матерински и посоветовала сразу же поехать в Детское Село. К моему изумлению, она сообщила мне, что уговорила Людмилу Ильиничну Баршеву стать секретарем мужа, и она тоже живет в нашем детскосельском доме. Мне трудно было представить себе эту женщину в роли секретаря – много лет она бывала у нас, дружила со старшими детьми, участвовала в наших молодежных забавах. Но я согласилась, что выбор Туси обоснован: Людмила умна, хорошо воспитана, знает французский, печатает на машинке...»
Какая горькая ирония судьбы! Крандиевская сама выбрала и привела в дом разлучницу!
«Я уехала из Детского в августе 1935 года, – читаем мы в ее воспоминаниях. – Помню последний обед. Я спустилась к столу уже в шляпе. Утром уехал грузовик с последними вещами. У подъезда меня ждала машина. Толстой шутил с детьми. Об отъезде моем не было сказано ни слова. На прощанье он спросил:
– Хочешь арбуза?
Я отказалась. Он сунул мне кусок в рот:
– Ешь! Вкусный арбуз!
Я встала и вышла из дома. Навсегда.
Дальнейшие события развернулись с быстротою фильма. Нанятая мной для секретарства Людмила через две недели окончательно утвердилась в сердце Толстого и в моей спальне. (Позднее она говорила кому-то, что вины за собой не чувствует, что место, занятоеею, было свободно и пусто.) Через два месяца она возвратилась из свадебного путешествия в тот же дом полновластной хозяйкой».
Слово «хозяйкой» не проговорка. Крандиевская могла написать «женой», но написала именно «хозяйкой», ибо это было больнее для нее: она создавала дом, была в нем хозяйкой и вот на ее место пришла другая...
И снова взгляд со стороны. По приезде Марианна пошла с отцом в парк. «Говорили преимущественно о моих планах на будущее, о братьях. Он шутил, рассказывал смешной анекдот... О семейных неурядицах – ни слова. На обратном пути я спросила, какова Людмила в роли секретаря. Ответ был односложен: ”Эта девочка мне сейчас просто необходима”...»
И далее Марианна Толстая пишет: «Действительно, Людмила внесла в опустевший дом свою жизнерадостность, готова была выполнять любое поручение, с ней было легко и весело. Отец знал ее давно, считал девочкой, подругой дочери. И вдруг оказалось, что с ней можно коротать за трубкой вечерний досуг, можно прочитать вновь написанные страницы... А воображение писателя наделило ее другими милыми сердцу качествами. Приезжая к ним, я видела, что моя подружка становится почти членом нашей семьи, и, конечно же, ревновала – мне казалось, что она заняла именно мое место в отцовском сердце. Не только меня занимала сложившаяся в доме обстановка – вскоре пошли нежелательные толки. Узнав об этом, Людмила уехала в Ленинград, оставив прощальное письмо. Отец был очень рассержен, немедленно поехал следом... В начале октября он уехал на три недели в Чехословакию, а по возвращению принял, очевидно, окончательное решение: разошелся с Натальей Васильевной и женился на Людмиле Ильиничне...»
Двадцать лет, прожитые вместе с Тусей, были отброшены и стали достоянием личной памяти. Крандиевская постоянно возвращалась к прожитым годам и подвергала их беспощадному анализу в своих воспоминаниях, в главе «Наш разрыв»:
«В одном из последних писем ко мне Горький пишет: ”Экий младенец эгоистический ваш Алеша! Всякую мягкую штуку хватает и тянет в рот, принимая за грудь матери”.
Смешно и верно.
Та же самая кутья жажда насыщения толкнула его ко мне 22 года тому назад. Его разорение было очевидным. Встреча была нужна обоим. Она была грозой в пустыне для меня, хлебом насущным для него. Было счастье, была работа, были книги, были дети. Многое что было. Но физиологический закон этой двадцатилетней связи разрешился просто. Он пил меня до тех пор, пока не почувствовал дно. Инстинкт питания отшвырнул его в сторону. Того же, что сохранилось на дне, как драгоценный осадок жизни, было, очевидно, недостаточно, чтобы удержать его.
Наш последний 1935-й год застал Толстого физически расслабленным после болезни, переутомленным работой. Была закончена вторая часть «Петра» и детская повесть «Золотой ключик».
Убыль его чувства ко мне шла параллельно с нарастанием тайной и неразделенной влюбленности в Н. А. Пешкову. Духовное влияние, «тирания» моих вкусов и убеждений, все, к чему я привыкла за двадцать лет нашей общей жизни, теряло свою силу. Я замечала это с тревогой. Если я критиковала только что написанное им, он кричал в ответ, не слушая доводов:
– Тебе не нравится? А в Москве нравится. А 60-ти миллионам читателей нравится.
Если я пыталась, как прежде, предупредить и направить его поступки, оказать давление в ту или другую сторону, – я встречала неожиданный отпор, желание делать наоборот. Мне не нравилась дружба с Ягодой, мне не все нравилось в Горках.
– Интеллигентщина! Непонимание новых людей! – кричал он в необъяснимом раздражении. – Крандиевщина! Чистоплюйство!
Терминология эта была новой, и я чувствовала за ней оплот новых влияний, чуждых мне, быть может, враждебных.
Тем временем семья наша, разросшаяся благодаря двум женитьбам старших сыновей, становилась все сложней и утомительней. Это «лоскутное» государство нуждалось в умной стратегии, чтобы сохранять равновесие, чтобы не трещать по швам...»
Далее в воспоминаниях идет кусок, который мы уже цитировали, – об обязанностях и хлопотах Крандиевской по дому. А вот дальнейшие разоблачительные строки Крандиевской:
«И долгие годы во всем этом мне удавалось сохранить равновесие... Теперь равновесие было утеряно. Его можно было бы поддержать, опираясь если не на любовь, то хотя бы на чувства из «неприкосновенного ее запаса»: дружеское тепло, простое человеческое участие. Этих чувств не было. В пустом, ледяном пространстве кто может вольготно дышать и весело трудиться? Я изнемогала. Я запустила дела и хозяйство. Я спрашивала себя: – если притупляется с годами жажда физического насыщения, где же все остальное? Где эта готика любви, которую мы с упорством маниаков громоздим столько лет? Неужели все рухнуло, все строилось на песке? Я спрашивала в тоске:
– Скажи, куда же все девалось? Он отвечал устало и цинично:
– А черт его знает, куда все девается. Почем я знаю?
Главным оружием против меня поворачивалось мое же страдание. Так всегда бывает.
Я думала о наших женских добродетелях: между нами ни очень плохих, ни очень хороших. Есть в той или иной мере счастливые и несчастливые. Наша правота измеряется удачей.
Но страдание – это всегда начало нашего снижения, нашего позора. Заплаканного лица не прощают.
Хороший вкус человеческого общежития требует сдержанности и подтянутой психики – это знает каждый. Страдание оскорбляет равнодушных свидетелей, а неравнодушные быстро устают от него. Одним словом, все, все подталкивает нас, когда мы катимся вниз под гору с вершины благополучия... Так было и со мной.
Я в полной мере узнала жестокость равнодушных свидетелей. Могла ли я ждать от мужа, поглощенного своими переживаниями, участия и внимания к себе?'Дай ему Бог справиться с собой!
Мне хотелось ехать с ним за границу, на писательский съезд. Он согласился с безнадежным равнодушием – поезжай, если хочешь. Разве можно было воспользоваться таким согласием? Я отказалась. Он не настаивал, уехал один, вслед за П.
Это было наше последнее лето, и мы проводили его врозь. Конечно, дело осложняла моя гордость, романтическая дурь, пронесенная через всю жизнь, себе во вред. Я все еще продолжала сочинять любовную повесть о муже своем. Я писала ему стихи. Я была как лейденская банка, заряженная грозами. Со мною было неуютно и неблагополучно. Тоска гнала меня из дома в белые июньские ночи. Ехать, все равно куда, без мыслей, без цели, только ехать, ехать, пожирать пространство. Я садилась в машину, и Константин, шофер, мчал меня... по берегу взморья... до последней пограничной полосы и обратно... Сердце мое сжималось предчувствием неизбежного краха. Встречный ветер хлестал и студил лицо, мокрое от слез. Слава Богу, никто меня не видел в этой темноте и безлюдье. Константин гнал машину, спидометр показывал – сто».
Расставание бывает разным. Хирургическим – как отрезали. Или терапевтическим – медленным излечением от любви. В случае с Крандиевской и Толстым это был второй вариант. Они не могли сразу оторвать себя друг от друга, опять же дети, дом, нажитые вещи. Поэтому они еще долго писали друг другу письма, что-то делили... «Я хочу взять из Детского кабинет, рояль, библиотеку и кое-какие вещи, т. к. покупать и заказывать было бы и хлопотно и дорого. Мне нужно чудовищно много работать...» – писал Толстой осенью 1935 года бывшей супруге.
На эту же тему письмо от 9 декабря 1935 года:
«Милая Туся... мне буквально не будет времени и денег на приобретение вещей... нужно вернуть в Детское:
1) Столовый сервиз, тот, что ты взяла теперь (серо-голубой). 2) Ковры, если ты их взяла. 3) Стулья и кресла, обитые бархатом. 4) Круглый шахматный столик из библиотеки. 5) Если ты взяла люстру из гостиной, то замени ее новой, скажем, как у Никиты на Кронверкской. 6) Два петровских стула из столовой. 7) Я не знаю, какие картины ты взяла. Я хочу оставить у себя так называемого Греко («Христос и грешница»), затем «Цереру» школы Фонтенбло (ту, что в столовой), «Марию Египетскую» (Джанпетрино), Теньерса (пейзаж), «Искушение Антония» и ту, что под ней («Крестный путь»), затем непременно «Женщину с лимоном». Я предлагаю тебе два итальянских натюрморта (с арбузом и с капустой) и картину с лисой и уткой. Затем я очень прошу привезти в Детское «Корабли» (те, что у вас над диваном). Все это я прошу вернуть до 14-го, т. к. 14-го я уже буду в Детском... Ты сама понимаешь, что разоренный дом, где негде сесть, с зияющими стенами, мало подходит для работы, а работать мне нужно сейчас по 8 – 10 часов в сутки, т. е. дела мои запущены и все грозит финансовой катастрофой. Поцелуй детей. А. Толстой».
Мне кажется, что этот перечень вещей может у многих читателей вызвать целую бурю в душе. А что вы хотите? Родство родством, а имущество врозь!.. Нет, поистине это было странное прощание.
«Милая Тусинька, мне сегодня легче, завтра принимаю порошок, который ты прислала...» – пишет Толстой 1 сентября 1935 года. И в том же письме бесчувственно сообщает: «Людмила очень мне помогает, т. к. все заботы я переложил на нее». И далее с нескрываемым удивлением: «Оказывается, у нас не заплачено 7 месяцев за аренду и накопились пени...» Куда смотрела Туся?!
Старая как мир история: у каждого своя правда и свое понимание случившегося. Точку зрения Крандиевской мы привели выше. Теперь очередь за толстовской правдой.
«Милая Наташа, – пишет Алексей Николаевич в письме от 27 октября 1935 года, – я не писал тебе не потому, что был равнодушен к твоей жизни. Я много страдал, много думал и продумывал снова и снова то решение, к которому я пришел. Я не писал тебе потому, что обстановка (внутренняя) нашего дома и твое отношение и отношение нашей семьи ко мне никак не способствовало ни к пониманию меня и моих поступков, ни к честной откровенности с моей стороны.
...С тобой у нас порвалась нить понимания, доверия и того чувства, когда принимают человека всего, со всеми его недостатками, ошибками и достоинствами и не требуют от человека того, что дать он не может. Порвалось, вернее разбилось то хрупкое, что нельзя склеить никаким клеем. В мой дом пришла Людмила. Что было в ней, я не могу тебе сказать, или вернее – не стоит сейчас говорить. Но с первых же дней у меня было ощущение утоления какой-то давнишней жажды. Наши отношения были чистыми и с моей стороны взволнованными. Так бы, наверно, долго продолжалось, и, может быть, наши отношения перешли бы в горячую дружбу, так как у Людмилы и мысли тогда не было перешагнуть через дружбу и ее ко мне хорошее участие. Вмешался Федор (27-летний сын Крандиевской. – Ю. Б.). Прежде всего была оскорблена Людмила жестоко и скверно, грязно. И тогда передо мной встало – потерять Людмилу (во имя спасения благополучия моей семьи и моего унылого одиночества). И тогда-то я почувствовал, что потерять Людмилу не могу. Людмила долго со мной боролась, и я честно говорю, что я приложил все усилия, чтобы завоевать ее чувство.
Людмила – моя жена. Туся, это прочно. И я знаю, что пройдет время и ты мне простишь и примешь меня таким, какой я есть.
Пойми и прости за боль, которую я тебе причиняю.
А. Толстой».
И в следующем письме, почти вдогонку:
«...Ты хотела влюбленности, но она миновала, что же тут поделаешь. Ни ты, ни я в этом не виноваты и, с другой стороны, оба причиной того, что она миновала.
Затем, я хочу, чтобы Никита и Митя не считали, что я выкинул их из сердца, забыл, бросил. Пройдет время – они поймут, что это не так. Оба они избалованные дети, они привыкли к активности чувств с нашей стороны и сами не привыкли и не были обучены давать хоть небольшую часть самого себя отцу и матери.
Когда отец их полюбил человека, они возмутились (да и все вдруг возмутились) – как он смеет! А мы? А наше благополучие? Отец живет с другой, отец их бросил, брошенная семья и т. д. ...Все это не так, все это оттого, что до моей личной жизни, в конце концов, никому дела не было...»
Боже ты мой, какая часто встречающаяся в жизни ситуация, почти стандартная, банальная: муж и брошенная жена... отец и дети... Как она решается? По-разному: в одних семьях так, в других иначе, все зависит от степени боли, от материального положения, от воспитания, наконец. Алексей Толстой предложил такой вариант:
«...Пусть дети немножко пострадают, это не плохо. Пусть лучше поймут, что плохого и дурного я не делаю и что моя женитьба на Людмиле ни на шаг не отдаляет меня от них, как не отдаляет меня от тебя, Туся...»
Ни Туся, ни дети не приняли рецепт поведения, предложенный Толстым. 5 декабря все того же 1935 года из Гагр он с гневом пишет:
«...Я никогда не утверждал себя, как самодовлеющую и избранную личность, я никогда не был домашним тираном. Я всегда, как художник и человек, отдавал себя суду. Я предоставлял тебе возможность быть первым человеком в семье. Неужели все это вместе должно было привести к тому, что я, проведший сквозь невзгоды и жизненные бури двадцать лет суденышко моей семьи, – оценивался тобой и, значит, моими сыновьями, как нечто мелкое и презрительное? Вот к какому абсурду приводит человеческое высокомерие, – потому что только этим я могу объяснить отношение ко мне тебя и моей семьи, отношение, в котором нет уважения ко мне... Художник неотделим от человека. Если я большой художник, значит – большой человек... Поведение моей жизни может не нравиться тебе и моей семье, но ко мне во всем процессе моей жизни должно относиться с уважением, пусть гневным, но я принимаю отношение только как к большому человеку. Пусть это знают и помнят мои сыновья...»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































