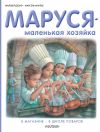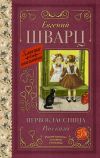Текст книги "Карьера Отпетова"

Автор книги: Юрий Кривоносов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)
Ей сразу бросилось в глаза, что оба человека похоронены в один год – пятнадцать лет тому назад, и она по всем приметам догадалась, что с тех пор никто сюда ни разу не приходил. Она заметила маленький крестик на правом памятнике, прочитала ничего не говорящую ей фамилию – «Ястребов», и перевела взгляд на другой камень. Вместо крестика здесь была высечена золоченая же лавровая ветвь, а фамилия… Маруся вдруг захлебнулась воздухом, словно кто-то ударил ее под дых. Ее шатнуло, и, чтобы не упасть, ей пришлось ухватиться за черный лед гранита. Она хотела присесть на прислонившуюся к прутьям ограды деревянную скамейку, но вовремя заметила, что та совсем покосилась и что рейки, из которых она сколочена, давно сгнили. Она еще раз взглянула на так сильно потрясшую ее надпись. Да, она не ошиблась: золотом по черному красивым чужим угловатым шрифтом было обозначено: – «Анна-Амалия Софоклова»…
– Так вот почему Элизабет Отпетовскую мать таким странным именем называет! У нее просто обе половинки в одно звучание слились – Анамалия… – промелькнуло было у Маруси, но мысль эта мгновенно осеклась, потому что в тот же самый момент в глухую тишину кладбища ворвалось нечто жуткое: прямо на Марусину голову обрушился леденящий кровь грохот и рев, перешедший в разрывающее слух сатанинское рыдание, – это промчался прижатый низкой облачностью почти к самой земле реактивный самолет.
До Марусиного сознания не сразу дошло, что это было, и она долго не могла стряхнуть с себя навалившуюся дурноту. Постояв несколько минут и немного успокоившись, Маруся покинула ограду и поспешила к выходу. Ей сделалось холодно и страшно, мелькнула мысль, что если она сейчас же не прекратит поиски, то никогда в жизни уже не выберется из этого мира могил.
– Эх, как он мать-то свою уважил… – подумала она и вдруг сообразила: – А вместо креста веточка потому, что басурманка.
Уже приближаясь к воротам, она почувствовала, что должна хоть немножко посидеть – ноги ее буквально подламывались. Взглянув на часы, она обнаружила, что бродит по кладбищу уже более четырех часов. У самого выхода, слева, возле забора Маруся заметила припрягавшуюся между тесно стоящих елей скамью и направилась к ней. Скамья, вытесанная из толстого серого камня, втиснулась под лапы одной из елей. Она была почти сухой и вся покрыта толстым слоем давнишней грязи, как будто кто-то накинул на нее грубую попону, да так ее тут и забыл. Маруся подстелила газетку, осторожно пристроилась на краешке скамьи и как-то сразу отключилась от действительности. Несколько минут она просидела бездумно, вперив невидящий взгляд в мохнатый сумрак хвои, пока не почувствовала, как сырость головного платка пробирается в волосы. Она сняла платок, отжала его и принялась переплетать косу; из волос выскользнула тяжелая медная заколка и звякнула о камень у самых ног. Маруся нагнулась за ней и тут увидела под скамьёй в ямке между плохо подогнанными каменными плитами что-то серое. Присев на корточки, она рассмотрела, что это мышь, и удивилась, что та не убежала при ее появлении. Мышь лежала, свернувшись клубочком, обхватив розовыми кружевцами лапок голубоватую ниточку хвоста. Мышей Маруся не боялась – она же выросла там, где этого добра было хоть пруд пруди, и отец, бывало, поймав в ловушку, сделанную из большой молочной бутылки, мышку, давал детям поиграть ею. Маруся обычно стискивала в кулачке маленькую пленницу и гладила ее пальчиком по вздрагивающей спинке, приговаривая: – Не бойся, я же не кошка, – и не было случая, чтобы мышь укусила ее. Деревенские люди вообще редко боятся мышей, лягушек, ящериц и прочей бегающей, ползающей и скачущей живности, повергающей в безосновательный ужас горожан почти поголовно.
Маруся подумала, что мышь спит, и тихонько потрогала ее заколкой. Та не пошевелилась. Тогда Маруся вытащила ее из ямки и поняла, что мышь мертва, и что умерла она совсем недавно – маленькое недвижное тельце еще хранило тепло жизни, из которой она только что была вычеркнута невидимой бесстрастной чертой. Маруся знала, что мыши в предчувствии смерти ищут какую-нибудь ямку в тихом месте и пристраиваются в ней. Может быть, в них вдруг пробуждается чувство возвращения к истоку и в подступающей дреме им чудится, что они снова в родном гнезде, в котором когда-то затеплился фитилек их жизни?
Маруся положила мышь обратно, наскребла заколкой земли, которой были густо затянуты мраморные плиты под ногами – они только кое-где проглядывали желтоватыми проплешинами сквозь слой наплывшей грязи, – насыпала над мышью маленький игрушечный холмик и опять задумалась. Ей вдруг пришло в голову, что мышку мог убить тот самый грохот, от которого у нее самой внутри все еще что-то сжималось. Бедному же зверьку вообще могло показаться, что рушится в тартарары весь этот громадный мир, державший ее всегда под железной лапой страха. Марусе захотелось оказать какую-нибудь последнюю почесть этому несчастному существу, незаметной искоркой мелькнувшему на этой огромной земле, и которого уже никогда больше на ней не будет. Она поискала глазами, нет ли поблизости цветка, но ничего, кроме торчащих между камнями пучков крапивы, не увидела. Тогда она сгребла ладонью перемешанные с бурыми иглами пожухлые листья, чтобы хоть как-то украсить мышкин холмик. Иголки больно кольнули руку, и под пальцами вдруг тускло блеснула поверхность серого камня. Она еще немного разгребла плотный слой листьев, и появились буквы, составившие слово «Антоний». И тогда Маруся, торопясь и оглядываясь, начала расшвыривать в стороны грязные вороха давно отшумевших листопадов, пока не открылась полностью большая прямоугольная плита полированного гранита, упиравшаяся дальним от скамьи концом в черный гранитный же памятник, на который Маруся почему-то до сих пор не обращала внимания. Она впилась взглядом в надпись, расположенную в левой части памятника, та ей ничего не открыла – фамилия оказалась незнакомой… Правее надписи потускневшей медью зеленовато отсвечивал барельеф. Его так давно не чистили, что под ним белой бородой натекли, словно повисли, струйки окиси, отчего казалось, что это портрет старика. Но, вглядевшись, Маруся убедилась, что лицо женское – то самое женское лицо с фотографии, прилепленной к черной плоскости спины памятника-буфета в комнате Элизабет. Тогда она снова обратилась к надписи. Фамилия – «Овечко», действительно, была ей не знакома – там, на макете, значилась другая – «Плаксина», но имя «Парашкева» вкупе с портретом не оставляли сомнений – это та самая могила, которую она так долго и безуспешно разыскивала.
– «Овечко», наверно, девичья, – догадалась Маруся. – Но ведь она же ее обратно не взяла, на первой мужней числилась, а хоронят по паспорту, и по регистрации в кладбищенской книге она, видимо, Плаксиной значится… Зачем же на памятнике другая? След замел? А на что ему это? Должен быть тут какой-то смысл – он без выгоды ничего не делает… Вот я же не нашла сразу, и другой не найдет, – может, чтоб затерялась побыстрей могила? Чтобы ничего людям не напоминало о той женщине? Руки себе развязать? Только тех, кто знает, богатым памятником потрясти, а уж потом – в забвенье? Тогда для чего купил у входа участок? Чтобы сразу видно было, как он ее увековечил? Поначалу посмотрят, щедрость его запомнят, а потом кто ж на могилу-то пойдет? А фамилия девичья промелькнет раз перед глазами и уйдет из памяти… Хитро придумал! Вот и ели насадил, разрослись – чащоба, сразу и не увидишь, что за ними… Не наткнись ведь я на «Антония» – так бы и ушла, не зная, что у ее могилы сидела? Она опять взглянула на слово «Антоний» и обнаружила, что стоит оно подписью под каким-то текстом. Намочив в ямке носовой платок, она оттерла плиту. Открылись четыре строки. Маруся поднялась в рост, чтобы охватить взглядом весь текст, и прочла: «Мир праху твоему, мое светило, Спи вечным сном, как будто спишь со мной. Господь задул души твоей кадило, – На небесах ты, хоть и под землей. Антоний».
– Так вот почему Парашкевин сын сюда не ходит! – теперь она поняла слова Элизабет о паскудной надписи на могиле, из-за которой Макарка вынужден был отказаться от скорбных встреч с матерью.
– Господи, что он с тобой содеял, девочка! – запричитала Маруся в голос, уже не владея собой, и зарыдала навсхлип, привалившись к черному со щербатым верхом камню памятника. Выплакивалась она долго, а возбужденные мысли все не оставляли ее. Она поняла и то, почему в самом начале прошла мимо этой могилы – она ведь, войдя на кладбище, видела ее. Памятник не имел ничего общего, кроме портрета, с эскизом, который она все время держала в уме, совсем забыв тот мелькнувший на элизином экране чужой камень, что купил по дешевке у ханыг-могильщиков в Софийске прохиндей Многоподлов, приказавший отломить кусок со старым текстом. Вспомнила Маруся и сцену, сохраненную магнитной памятью магнощупа, – гулянку в художнической, когда главный богомаз тряс, похваляючись, зажатыми похоронными отпетовскими деньгами. Удивительно, почему Отпетов не заметил, что памятник не соответствует эскизу, скорее всего после похорон ни разу сюда и не наведался. А, может, просто наплевал на это? Хоть бы платил кому – тому же сторожу, чтобы за могилами ухаживал – деньгами бы от молвы откупился… Деньги…
И только теперь до Маруси впервые дошел страшный смысл Мандалининой шутки – «овечьи слезки».
Наплакавшись, Маруся вспомнила про мышку. Нашла неподалеку какие-то цветы, один положила ей, остальные к памятнику. Принесла от сторожки веник, подмела и почистила весь участок под елями, достала из своей суконной сумки беленькую рюмочку-лампадку, налила в нее деревянного масла из припасенного пузырька, опустила в масло фитилек и зажгла его, благо спички, предусмотрительно завернутые в провощенную бумагу, были сухими. Лампадку она поставила в изголовье могилы, и желтый трепетный язычок тут же отразился теплым пятнышком в полированной черноте, будто горело где-то внутри камня.
Тем временем сгустились сумерки, со стороны церкви глухо, точно сквозь вату, услышался голос колокола, и снова стало совсем тихо: дождь – и тот примолк. Маруся опустилась на колени возле лампадки и нежным певучим голоском помолилась за упокой души рабы божьей Парашкевы-мученицы. Потом она поднялась, надела на локоть свою сумку и, не оглядываясь, пошла к станции. Ее черная фигурка почти совсем растворилась в сумерках, и тогда – словно она только этого и дожидалась – крупная протяжная капля сползла с серебристых игл и, ударив по желтому язычку, умертвила его.
На кладбище наползала ночь…
Тетрадь четвертая«Почем опиум?..»
– Однажды, лет сорок назад, очень известный и очень уважаемый человек на одном из семинаров молодых поэтов посоветовал мне: бросьте писать стихи, Я не послушал его. Не знаю, как читатели, а я не жалею…
Анатолий Софронов.1975 г.
Когда б предвидели Мефодий и Кирилл,
Какою чепухой их будут славить внуки,
Они б не тратили ни времени, ни сил,
Стараясь преподать им АЗ и БУКИ.
Федор Корш.1886 г.
Дверь за служителем культа закрылась… Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал:
– Почем опиум для народа?
За дверью молчали…
Илья Ильф, Евгений Петров.«Двенадцать стульев», 1927 г.
На большую дорогу литературы Антоний Софоклов вышел благодаря Анамалии. Как свершилось чудо сие, вы узнаете из этой тетради, но чуть позже, а пока – небольшое авторское отступление.
Прежде всего, я должен извиниться за то, что не сдержал своего обещания и не рассказал вам в тетради предыдущей ничего о Парашкеве. Однако моей вины в этом нет – неожиданно в наш разговор встряла Элизабет и раскрыла такие тайники, о которых я и представления не имел. Она столь правдиво и красочно поведала о судьбе Парашкевы-великомученицы, что после нее тут, как говорится, и делать нечего.
Как вы могли заметить, Элизабет черпает материал для своих сообщений как из далекого, так и не далекого прошлого, прибегая как к электромагнитной, так и к своей собственной памяти, и запасы материалу этого, судя по всему, у нее неисчерпаемы. Моя же авторская задача – в случаях, когда Элизабете невтерпеж выплеснуть свою информацию, не препятствовать ей в этом, а наоборот – оказать всяческое содействие, а затем передать все вам, дорогие читатели, отсеяв предварительно второстепенное и малоинтересное, иначе книга грозит затянуться до бесконечности. Обращение к Элизиным запасам для нас необходимо потому, что в мое повествование все время врывается одно обстоятельство, что-то вроде обстоятельства времени – мы застали Отпетова уже, так сказать, готовым продуктом – на его нынешнем посту и на стадии зрелости, скажем прямо, не молочно-восковой. В силу этого мы наблюдаем такие его действия, характер и побудительные причины которых понять до конца невозможно, если не проникнуть в их корни, уходящие к самому истоку Отпетовской биографии.
Значит, тут неминуемы возвраты в прошлое, и нам придется волей-неволей к ним прибегать, пользуясь для этого не машиной времени (за неимением таковой), а машиной памяти.
Это, конечно, будет время от времени несколько притормаживать ход нашего рассказа. Но – будет так! Я лично, например, не вижу в этом ничего особенно страшного, ведь и в «Суете» мы прибегали порой к такому способу изложения, но ничего плохого за этим не воспоследствовало. Думаю, что здесь нам помогает та закономерность мышления, которая доказана теорией одновременности восприятия событий из-за отдаленности времени, в котором они происходили. Так, например, все, что случилось два и четыре тысячелетия назад, воспринимается нами как происходившее в общем-то одновременно. Разделение этих действий во времени для нас с вами практически ничего не дает и не значит, если мы не историки-глубинники. В силу этого и явления, имевшие место быть даже на наших глазах, но отодвинутые от нас если и не на годы, то уж, во всяком случае, на десятки лет, также смещены по отношению друг к другу, и, значит, особенно буквоедничать тут тоже ни к чему: если мы кое-чего и сдвинем в Отпетовской биографии, то греха в этом особого не будет, и я рассчитываю тут на вашу снисходительность – в самом деле, попробуйте-ка не сбиться, если вам приходится много раз просматривать в деталях жизнь вашего литературного героя от самых ее начал и до сегодняшнего дня, особенно когда в каждом таком просмотре берется новая линия и как бы другой аспект характера, поступков, сфер применения его деятельности и так далее… Тяжкую, ох, тяжкую задачу взяли мы на себя, взвалив на свою душу неподъемный груз деяний этого облеченного духовного пастыря заблудших душ читателей «Неугасимой лампады» и автора назидательно-поучительных сочинений, написанных им лично и изданных во множестве экземпляров везде, где только для него было возможно… Но в этом тяжком труде теперь появился момент, сулящий мне некоторое облегчение повседневного тягла моего – под глубочайшим секретом могу вам сообщить, что, заимев ключ к Элизиным магнощупам, я смогу значительно быстрее двигаться вперед, потому что получил возможность иногда (когда ее нет в каморке) самостоятельно прокручивать кое-что из ее записей. Кроме ускорения написания этой книги, новые резервы информации, будучи приведеными в действие, сделают наше повествование предельно документальным, а, следовательно, и абсолютно правдивым.
Но, Боже мой, как медленно пишется книга! Уже главный герой ее празднует безнаказанного, и не только в смысле того, что через три года и два месяца избавился, наконец, от впившейся в него клещом Позорной Епитимьи, наложенной за чрезмерное нарушение церковной дисциплины и христианской морали, но и в смысле прямом: он радостно и пышно обмывает саму безнаказанность, как таковую.
Хотя и не чрезмерно тяготился он своим наказанием в епитимийный период, но освобождение от него отмечает как победу. Тут, скорее всего, сказывается его басурманский сентиментализм – ведь ныне такие наказания носят чисто символический характер – это в свое время, когда их устанавливали, служители правословных институтов, бывшие не в пример совестливее, болезненно переживали душой любое словесное выговаривание со стороны коллег и единоверцев. Потом, в результате падения нравов, такие чисто моральные меры воздействия сильно девальвировались, произошла инфляция взысканий, и их в какой-то период пришлось заменить мерами более действенными – такими, скажем, как отобрание приходов и доходов, ношение вериг и власяниц, ежедневный пост и отбивание сотен поклонов, снятие со всех должностей, разжалование в рядовые монахи-производители матценностей, и даже сажание в холодную и ссылка в дальние скиты сурового режима. Но так как все эти крутые меры вскоре стали применять в отношении совсем не тех, кто того заслуживал, а как раз наоборот, при следующем повороте истории на очередном Полувселенском Соборе суровость наказаний была объявлена явлением злоупотребительским и отменена под тем предлогом, что сознательность и законопослушность правословиых безусловно и несомненно взошли на новую высокую ступень.
Однако вскоре оказалось, что утверждение это, мягко выражаясь, не соответствует истинному положению вещей, а вновь введенные наказующе-щадящие меры воздействия трех степеней: «Указать», «Строго указать» и «Указать строго с наложением Позорной епитимьи» уже вообще почти ни на кого не действуют, хотя кое-кому и создают некоторые временные неудобства. Не случайно же была вспомянута старая бурсацкая поговорка: – «Брань на вороту не виснет!», которая и стала главной и повсеместной реакцией на мероприятельскую проработку. И тем не менее, Отпетов празднует победу, ибо таковая – налицо: все свое выведенное путем многолетней селекции благодойное хозяйство он сохранил в целости и неприкосновенности, если не считать потери двух-трех хотя и удойных, но отнюдь не незаменимых буренок, каковым уже и по возрасту можно было бы быть отбраковану из доходоприносящего стада. Скажите, чем не победа? Только над кем победа-то?
Жаль, конечно, что к этому христову дню я еще не снес своего золотого яичка, расколов которое, можно было бы прочитать про все то, чему посвящено наше Житие. Но два с половиной года – не срок, во всяком случае, в литературе, а именно столько времени тому назад, отложив все дела, вывел я на белом листе первые два слова: «Карьера Отпетова»…
Я уже вижу, как внимательный читатель недоуменно задирает брови – «Это что еще за новость? Откуда тут взялся этот последний длиннющий абзац, и о чем, собственно, в нем речь? «.
Исключительно для этого вдумчивого читателя поясняю: – Да, абзац этот целиком обращен в будущее, но будущее оно – только для самого этого читателя, а для меня – уже прошедшее, потому что тут мы имеем дело с так называемым «временнЫм отставанием», явлением, характерным для всей литературы в целом, и даже для литературы информационной, именуемой журналистикой. Ведь нельзя же написать о том, что происходит одновременно с движением пера – надо как минимум обдумать фразу (что, правда, не всеми соблюдается, но это уже случаи особые), в которой изложишь то, что было. Даже такие оперативные средства информации, как радио или телевидение, запаздывают в своих сообщениях, если не на несколько часов, то уж на минуты – обязательно. А как же прямые передачи? – спросите вы. Так это же показ, а не рассказ, а значит не литература. Ну, ладно, – не уйметесь вы, – а писатели фантасты? Так ведь они же пишут не о том, что будет, а о том, что может быть, и практически никогда не бывает так, как они пишут. Даже газетное объявление о предстоящем событии не гарантирует, что обещанное обязательно сбудется – скажем, заболел главный артист, и спектакль отменят… Я вот в одной книжке читал, как один руководитель назначил в одной организации одно совещание и ни на минуту не усомнился, что оно скоро начнется, а сам через минуту того… Как говорят отрицательные персонажи: – «гепейгерт»…
Поэтому все то, что написано в выше означенном абзаце, уже не то, что будет, а то, что было, и я про то знаю даже не из первых рук, а из своих собственных. Это, так сказать, мимолетный забег в будущее, о котором вы сейчас же забудете, а я вам об этом моменте напомню и опишу его в дальнейшем, как я предполагаю, через несколько сотен страниц. Я ведь и конец всей этой истории, все бытие героя Жития до конца проследил, но ведь чтобы все это описать, мне же, согласитесь, надо определенное время, и не столь уж малое…
Ну, а теперь, давайте-ка, включим машину памяти, и – вперед – назад!
Возврат первый
Люстдорф. Хауза Елизабет. Комната Анамалии – не очень просторная, но и не тесная; фундаментальная двуспальная кровать дубового дерева под балдахином из сероватой антикомариной марли; в дальнем от двери углу полуприкрытый ширмой, расписанной драконами, мини-жен-сан-узел…
За столом, придвинутым вплотную к окну, сидят с трех его сторон – Анамалия, Элизабет и Отпетов – совсем еще мальчишка, лет двенадцати-пятнадцати. Облачен он в темносиний, почти черный кителек, того же цвета прямые и тесные навыпуск штаны с узкими желтыми лампасиками – форменную одежду послушников Патриархии, которой принадлежит свечной завод, к коему причислен сей отрок. На столе бутылки пива, колбаски «боквурст», картофельный салат и сладкая горчица.
АНАМАЛИЯ: – Вполне ты уже большой, сын мой, вот уж и до пива дорос, пора тебя к какому настоящему стоящему ремеслу приспособить, а то – что это за работа – целый день у машины об воск обсаливаться, свечи отливаючи…
ОТПЕТОВ: – А нам, мути, воспитатели говорят, что любая работа почетная, по причине облагораживания и спасения души…
АНАМАЛИЯ: – Душу спасать можно, и не так сильно тело утруждая. Кровью обливаюсь, как смотрю на эту твою работу – с пяти утра до пяти вечера, и заработки – швах!
ЭЛИЗАБЕТ: – Работа делает человека не богатым, а горбатым!
ОТПЕТОВ: – А что я могу поделать, когда они как бы спасители и усыновители мои, – и вырастили и прокорм мне обеспечили, и к вере своей приобщили, в послушники зачисливши. Да и как вырвешься-то, мне и пачпорта не выдадут, будь я даже и не по малолетству. К нам на завод как попал, так уж вламывай до призыва Господня… Да и сытно все-таки, куда уйдешь?..
АНАМАЛИЯ: – Не хлебом единым человек живет, а и другим, более калорийным питанием. Ты думаешь у вас там все такую монашескую норму, как ты, вкушают? Да у них ведь все по рангам, а пока от ранга до ранга доползешь – все локти да коленки собьешь, не говоря уже, что на это и годы большие нужны. До хорошего положения не раньше как полным старцем доберешься. Для сына своего я такого допустить не могу, у меня для тебя другой график намечен.
ОТПЕТОВ: – Да они меня никуда и не отпустят, я у них образцово-показательный, – меня уже давно заметили и выделили, как самого послушного из всех послушников…
ЭЛИЗАБЕТ: – Да ведь как раз на этом-то нам сам Бог и сыграть бы велел. По теории тихого омута…
ОТПЕТОВ: – Боюсь я супротив порядков чтой-то делать – у нас надзирание строгое, тут же засекут – сперва глазом, потом розгой.
АНАМАЛИЯ: – Да ничего тебе супротив делать не надо! Наоборот даже, – прольешь бальзам на душу настоятелям своим: что бы они ни делали, твое дело – восхвалить!
ОТПЕТОВ: – Восхвалишь их! Враз под подозрение возьмут – чтой-то раньше не восхвалял, а тут вдруг ни с того, ни с сего расколоколился…
ЭЛИЗАБЕТ: – А ты не вдруг, а постепенно: начни с подголосочков, а потом переходи с дискантов на тенора, с теноров на баритона, а там глядишь и до басов набатных звон дойдет. Так сказать, эскалация…
АНАМАЛИЯ: – Я же тебя не к примитивному эвонарству приспособить хочу, а к искусству минезингерскому, чтоб ты сегодня – свечар, завтра – пономарь, а послезавтра уже культтрегер – надо тебя на литературный фундамент поставить, ты для этого уже вполне созрелый – читать-писать выучился, теперь самое время, взявшись за перо, в дихтеры выходить…
ОТПЕТОВ: – В докторы?
ЭЛИЗАБЕТ (смеется): Да не в докторы, а в дихтеры, в писатели, что стихи пишут, в пииты иначе.
ОТПЕТОВ: – Как же так, чтобы сразу и в пииты?
АНАМАЛИЯ: – А кто тебе сказал, что сразу? Как раз наоборот – неспеша, потихоньку, но решительно, хотя и незаметно. Люди не любят, чтобы у них на глазах кто-то сильно выделялся, а когда постепенно, все потихоньку привыкнут, а потом вдруг – глядь, а среди них уже писатель вырос! Поэтому тебе от станка сразу отказываться категорически невозможно, и писателем ты у нас будешь становиться без отрыва от свечного производства. У вас там кружок ведется по псалмопению и риторической словесности, где даже, кажется, сочиняют что-то по мелочам. Вот ты и должен в этот кружок устроиться, и на этой почве проявиться, для чего тебе надо там незаметно в старосты выйти, чтобы тебя затереть в нужную минуту некому было: на старосту кто же кинется – начальство, все-таки…
ОТПЕТОВ: – А как же я писателем объявлюсь, если отродясь ничего не сочинил?
ЭЛИЗАБЕТ: – Не сочинил, так сочинишь, или сам, или с божьей помощью, как говорится в библии – «Хильфготт»!
ОТПЕТОВ: – Да я даже не знаю с чего оно начинается!
АНАМАЛИЯ: – Все начинается с нулевого цикла. Котлован у нас считай, готов – это наша идея и как бы план. Сейчас мы в него и фундамент положим…
ОТПЕТОВ: – Чтой-то я все-таки никак в толк не возьму, на что мне все это сдалось, и какая мне с этого капитальная выгода?
АНАМАЛИЯ: – Я же тебе сказала, пока дойдешь до степеней – в старцы запишешься, – на общих основаниях что в миру, что в духовности приходится матценности производить, или, иначе говоря, – вкалывать с минимальным покрытием телесных потребностей, от чего я тебя избавить решила. Чтобы тебя на производстве матценностей заметили, надо кишки на клубок вымотать, а когда пишешь, тебя сразу видно, тут отдача очень быстрая. Мне один клиент, – который сам из пишущих, – всю эту науку за одну ночь преподал. Я ему уже и все удочки закинула, – обещал помочь, как только от тебя первая отдача пойдет. Да мы, чтобы тебя продвинуть, никакого темпераменту не пожалеем! Клиент же у нас разный имеется, и все больше с положением… А для женщины чего не сделаешь, особенно не для жены… Так что покровитель всегда тебе обеспечен.
ЭЛИЗАБЕТ (поет): – Покровитель… покрыватель… покрователь…
АНАМАЛИЯ: – Лизон! Это не есть гут при ребенке касаться профессиональных вопросов!
ЭЛИЗАБЕТ: – Не буду, не буду, уж и пошутить нельзя!
АНАМАЛИЯ: – Сейчас никакие шутки, а решение серьезной программы.
ЭЛИЗАБЕТ: – Я сама знаю, о чем речь, и по тому, что в жизни видела, могу подтвердить, что если хочешь в люди выйти, то надо громче всех «аллилуйю» кричать – тут тебя сразу все и видят, а попробуй другой работой показать, что ты «за» – годы уйдут, да и то могут так и не заметить – вся жизнь пройдет в одной ишачке…
ОТПЕТОВ: – Это я понимаю, только боюсь – не сумею ничего, для писаний, я слыхал, специальный талант требуется…
ЭЛИЗАБЕТ: – Так ведь сколько народу на свете пишет, и писанием кормится, что ж у всех у них талант? Да на такую ораву Господь никаких талантов не напасется! Большинство горбом берут, трудом усидчивым.
ОТПЕТОВ: – Значит и тут вкалывать?
АНАМАЛИЯ: – Отдача в любом деле нужна: ты ему отдаешься, а оно тебе доходом отдает. Тебе же и переключаться нетрудно будет – все писатели с шести утра и до двух сочиняют, а ты на своем свечмаше вкалываешь с пяти до пяти. Вставать и то на час позже станешь, и с заду три часа снимется, да и работенка не пыльная – и в тепле, и без коллектива. Правда, поначалу с двойной нагрузкой поживешь, но я так думаю, что это ненадолго, потому что, как себя заявишь, мы тебя двойной тягой к знаменитости потащим с клиентурой совместно.
ОТПЕТОВ: – А сейчас-то, мути, что я должен делать?
АНАМАЛИЯ: – Осваивать производство, как свечной промысел осваивал.
ЭЛИЗАБЕТ: – Технику отрабатывать!
ОТПЕТОВ: – Почему технику, если это писание?
ЭЛИЗАБЕТ: – Да нет, техника не в смысле машины там, механика всякая, а как умение к ремеслу. В каждом деле есть своя техника, вот даже и в нашем…
АНАМАЛИЯ: – Лизон! При ребенке…
ЭЛИЗАБЕТ: – А чего? Дело-то житейское, да и какой уж он ребенок, когда мы уж ему до подбородка… Без пяти минут кабельеро… А ремесло у каждого свое – кто чему учился…
АНАМАЛИЯ: Ну, хватит философии, давайте оттачивать технику – прямо сейчас и начнем. Прежде всего, ты, сын мой, должен усвоить, что писание для тебя обязательно и неизбежно, потому что относишься ты к нашему бусурманскому вероисповеданию и, следовательно, обязан соблюдать и наше жизнеобеспечивающее кредо – поменьше философии, побольше практического натиска. Хотя мы когда-то и дали миру почти всех философов позднего времени, однако нашлись и у нас трезвые люди, повернувшие народ лицом к кормушке»…
ЭЛИЗАБЕТ: – И к копилке!
АНАМАЛИЯ: – И к копилке… То-есть, иначе говоря, к настоящему делу, и потому наш народ стал на свете, пожалуй-что, самым деловым.
ОТПЕТОВ: – А при чем тут писание?
АНАМАЛИЯ: – Писание только для дураков кажется чем-то духовным и как бы возвышенным, а для людей трезвомыслящих оно такой же деловой бизнес, как, скажем, точить гайки или выкармливать свиней. Главное, чтобы был профит. И хотя оно и так ясней ясного, я тебе сейчас это в айн момент в теоретике подтвержу.
Люди, среди которых мы обитаем, инертны и несообразительны и делятся на, как я уже сказала, деловых и, как я тебе в настоящий момент говорю, так называемых, порядочных. Если первые берутся за писание, то это всегда оборачивается солидным делом и дает солидный оборот. Люди же, так называемого, порядочного круга, делятся на ленивых и принципиальных. И одни из них не хотят писать из принципа, а другие из лени. Исключения тут редки, и такие исключительные авторы пишут, как правило, три-четыре книги за жизнь. Это мне один теоретически подкованный клиент как-то рассказывал. Исключители эти бьются главно за качество, а и за качество все равно платят за количество, и такие писаки, при своих книгах живя, всю жизнь седьмой нуль без соли доедают… А писатель деловой, но соображающий, что совсем уж без качества нельзя, держится коэффициента оборотного действия, и умеет при минимуме качества выжимать максимум количества, обеспечивая себе соответственно и доходы…
ОТПЕТОВ: – А как он, этот минимум, узнается?
ЭЛИЗАБЕТ: – А критики на что? Они же тоже с писания живут, хоть и с чужого. Им если хорошо заплатить, они могут любой минимум до нужного уровня подогнать…
АНАМАЛИЯ: – Ты-то откуда знаешь?
ЭЛИЗАБЕТ: – Да от того же подкованного клиента сподобилась.
АНАМАЛИЯ: – Ты что же это, Лизон, из моей лунки рыбу удишь?
ЭЛИЗАБЕТ: – Рыба, она не меченая, ее, если в воду упустил, и на другой крючок полакомиться может…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.