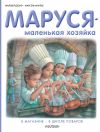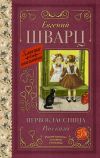Текст книги "Карьера Отпетова"

Автор книги: Юрий Кривоносов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
376. Здесь появляется отец Геростратий. Для меня отец Геростратий – это был как бы собирательный образ, в котором за основу был взят Жданов, потому что он будто бы у нас оттуда. Жданов имел отношение к прохиндействам Софронова по части антисемитской компании. 48-й, 49-й годы – вот в это время. И поэтому (или раньше ещё было) Жданов погромами идеологическими занимался, и его подвигал – по моей версии это было так. Тут, кстати, на той же странице история с её шубкой. Это всё так оно и было. Когда он говорил, что она буржуйка, у неё шубка и т. д.
377. Здесь начинается разговор о древней Греции и об Античности и всём прочем. Это целиком я выписал из какой-то очень старой книги болгарской, на болгарском языке. Это там история человечества в таких кратких очерках. Очерки немножко наивные, но очень интересные. И я тут просто цитировал. Это интересно звучит – и про Македонского, про большие города, малые города и всё такое прочее.
379. Тут идёт перекидка на мой первыё эпиграф о том, что государства погибают и т. д. Это проходит через этот кусок романа. И юный Отпетов начал в этом кружке наводить террор. Всё так описано, как оно и было. Ну, может быть, как говорится, чуть-чуть с добавками. И он как там научился терроризировать людей, так вот это делал в Союзе писателей, в «Огоньке» и везде.
390. Главлитургия. Ну под главлитургией подразумевается Главлит, т. е. цензура.
399а, Там был юбилей, я не помню, 20 или 30-летие Ростсельмаша, и была выпущена книга в честь этого дела, и одним из закопёрщиков этой книги был сам Софронов. Он написал о становлении Ростсельмаша, и о людях, и о литобъединении – всё, что для него было выгодно, как он хотел. И уже потом, как тут говорится, эту книгу цитировали – как будто так и было. А это было им придумано всё тогда.
Тут ещё мелькает: «У станка и за пюпитрой». Это очень смешная история. Наш собкор из Ленинграда, который очень плохо писал, прислал нам про какого-то токаря статейку, которая называлась «У станка и за пюпитрой», Мы её перепечатали, выправили, сделали «за пюпитром» и послали ему. Он нам вернул обратно, и было переправлено и опять написано: «за пюпитрой». И вот «У станка и за пюпитрой» у нас было как некое ходовое выражение потом в редакции. Вот я его сюда и вставил.
404. Там пишется, что Ашуг Гарный Кирьян создал сборник стихов, который назывался «Оробел». Вроде он оробел, поддался. На самом деле есть в армянском литературном эпосе, даже традиции такое произведение, такие песни, которые называются «Оравел». Я «Оравел» перелопатил в «Оробел». Тут всё это близко к армянскому литературному наследию. Под «Оробел» имеется в виду «Оравел». Это при мне, когда я снимал портрет Маршака, там в Ялте был с ним. Он сидел и беседовал с одним молодым армянским писателем, который был репатриант, скитался по миру, знал несколько языков. Они говорили с Маршаком на греческом, на английском, ещё на каком-то. И он ему пел эти оравелы. Вот тогда я и узнал, что такое оравелы. Это был 62-ой год. Звали его Карпис Суренян.
406. Здесь приводятся стишки противопожарные. И эти стишки я списал. По-моему, в Чебоксарах на вокзале был противопожарный щит. Или это была Йошкар-Ола. И там было написано «Я электрическая печь. Вы, ребята, знайте, от пожара дом сберечь меня вы не включайте»… Тут я заменил слово ребята на прихожане.
А вот второй стишок «Братья, вам совет даю, в этом уясните…». Там на плакате было написано «Вам совет, друзья, даю, в этом уясните…». Тут тоже чуть-чуть подогнал эту самую губернию.
407. Здесь приводится стишок: «Свеча – отличное лекарство, путь облегчает в Божье царство». Это я обыграл – был у нас такой юмористический стишок. Делали шуточные подарки и кому-то там подарили свечи геморроидальные. И стишок был такой –
Свечи – мода сезона,
Отличных не найти нигде,
Прими эти без фасона,
Подсвечник всегда при тебе.
408. Тут сказано, что его устроили в фарцовскую духовно-учительскую семинарию. Фарцов-на-Бану – это Ростов-на Дону.
Это педагогический институт, куда его и устроили. Это было его единственное образование, да и то неполное.
409, 410. Здесь речь идёт о литературном объединении, которое было при этом педагогическом институте. Как руководитель был Линин. Преподаватель литературы. Сара Бабёнышева вспоминала, что он говорил: «Ах, какие нехорошие писатели!» и читал им стихи запрещённых поэтов, Он вёл такую линию и просвещал их. И вот тут Отпетов накатал на него телегу – вот так он продвигался. Многие вещи, которые когда-то были, я подзабыл в деталях.
Тут ещё идёт речь на стр. 414 о том, что стихотворение у него было программное «Бондарь». Но вот не «Бондарь», а как-то по-другому, Я этого не помню. И опять же должен вспомнить и искать, где у меня это всё позаписано. Мне неохота терять на это время. Поэтому обойдёмся. Но это было какое-то его программное стихотворение.
А дальше в Фарцов заехал столичный литератор Лавсанов. Он не был Лавсанов, я не помню фамилию человека, который взял какие-то его стишки, отвёз в Москву и там хотел пристроить, и над ним долго, весело смеялись – над этим писателем. А кто это – я не помню. Какой-то известный. Потом стал известный.
420. Когда началась Отечественная война, там, в Ростове сформировали то ли бригаду, то ли какую-то воинскую часть, куда попали писатели, молодёжь ростовская. Туда попал и Софронов. Их отправили на фронт. И в первом же бою под каким-то предлогом он смылся оттуда, а все, кто остался, погибли. Это мне рассказывали ростовские писатели. Там все погибли, кроме него. Он будто бы куда-то смылся, как будто, он поехал за каким-то литературным материалом для местных боевых листков, и больше он на фронт не вернулся. Он уже отирался в тылу и умудрился издать две толстенные книги. Он пустился в деляческую жизнь.
Стр. 422. Здесь рассказывается, как он, выручая свою мамашу и её подругу из ситуации, в которую они попали в Ростове вскоре после того, как наши освободили город. Он каким-то образом перетащил в Москву, прикрыл ихнее сотрудничество там с немцами – ведь мать его была же немка и была то ли переводчицей там при немцах, то ли ещё кем-то. Он всё это дело смог замять. Он их перетащил в Святоградск. У меня под Святоградском подразумевается Москва, А под Софийском подразумевается Киев. Ну вот, так я видел за этими названиями эти города. На этой же странице внизу говорится о том, что Анамалия говорит, что у нас не заведено жалеть о том, что было. Кстати говоря, немецкая черта. Немцы никогда не жалеют о том, что они сделали, и то, что не получилось. Они просто прошли, и всё. Не вспоминают. Это наши потом колупаются. У них этих сантиментов нет. И просто об этом больше не говорят. И где-то ещё в одном месте у меня говорится, что у нас свинья считается хорошим животным. И когда говорят: мне досталась свинья – это значит, что мне повезло. Ich habe Schwein. Я имею свинью – это значит, мне повезло. Это такое разъяснение к их немецким корням.
423. Это, якобы, сон Элизабет – ей приснилась книга притч от пророка с именем Илия ильПетро. Это значит Ильф и Петров.
Здесь кончается одна целая кассета.
Это об Ильфе и Петрове. И потому что далее она цитирует вроде бы их слова: «Пьеса написана так, как будто на свете никогда не было драматургии» и т. д. Это цитата Ильфа и Петрова, которую я сюда вставил.
427. Там Венька Таборнов. Это какой-то был режиссёр, фамилия его была Цыганов, как его звали, я уже не помню. Единственное, что я помню, что он устраивал какие-то блатные дела.
430. Здесь речь идёт о том периоде, когда Софронов начал по наущению сверху антисемитскую компанию против этих самых космополитов. Его вызвали в ЦК и предложили ему начать. Организовали какое-то собрание критиков театральных, мол, на откровенный разговор, они и разговорились: они как лопухи высказали какие-то свои мнения. И всё. Их тут же стали громить и шарить и т. д. Это была самая настоящая провокация. И он был как первый зачинатель как раз вот этого погрома еврейского. И поэтому ему открыли зелёную улицу, и тут же пошли его пьесы. Пошла его пьеса «Московский характер», потом какая-то вторая, не помню, как называлась. За обе эти пьесы ему дали сталинские премии. И он попёр вовсю. И стал он тут секретарём Союза писателей. И начал он все эти репрессивные действия. Это было всё при нём.
432. Здесь уже говорится о том, как он вернулся, в так сказать, обычное состояние. Т. е. эти погромы кончились, Сталин помер, он престал быть секретарём Союза писателей. Его оттуда попёрли. Но Фадеев пристроил его в «Огонёк» главным редактором, вот что явилось потом для «Огонька» полным кошмаром. Вот это была история, и поэтому он был вынужден уже на общих основаниях пробиваться в театре, а не как раньше было всё позволено. Но ему уже помогал (отца Геростратия уже не было) Митридат Лужайкин, т. е. Дмитрий Полянский, с которым они были завязаны всякими грязными делами.
И тут же театр на Обрате. Это театр на Арбате – тут я имею в виду, что это театр Вахтанговский, в котором шли его «Стряпуха», потом «Стряпуха замужем», потом хотел протолкнуть «Стряпуху за границей». Но на читке или собрании театра кто-то, кажется, Лановой, сказал: «Доколе мы это говно будем ставить?» И ему перекрыли вход в этот театр.
435. Опять этот самый Митридат Лужайкин из Поднебесной, имеется в виду политбюро, конечно. И как они организовывали свои премьеры, как устраивали дела с билетами, рассылая именные, закупали билеты, с банкетами. Т. е. вся их организация тут точно описана.
Стр. 437, 438. Описывается премьера, где друг Верова-Правдина начинает нести в антракте то, что только что они видели на сцене. Это действительно было на самом деле. Это был его знакомый Лакшин, но не тот Лакшин Владимир Яковлевич, которого мы хорошо знаем, а этот – Владимир Семёнович. Так вот наш Владимир Семёнович Лакшин был, кстати, фронтовым другом моей мамы, вместе в одной фронтовой газете были на 3-ем Украинском фронте. Так вот, этот Лакшин рассказывал эту всю историю, как он начал поносить эту пьесу, и как Веров-Правдин, в жизни он Леров, но это тоже не его фамилия, кинулся затыкать ему рот бутербродом, и как он испугался. Это всё было абсолютно точно.
На стр. 440 появляется его конкурент мирской драматург Алексис де Мелоне. Это был Алексей Арбузов. О нём и шла речь. Мелоне по-немецки арбуз. Алексис, Алексей Арбузов. О нём и шла речь. И судьба его, что он зажат был одно время, писал в стол, а потом, когда власть переменилась, пошли косяком его пьесы, причем с большим успехом.
На стр. 441 дано даже название этой пьесы Арбузова, которая тогда прошла с большим шумом, «История с экономической географией». Имеется в виду «Иркутская история». Я её название переделал в «Историю с экономической географией». Она была напечатана в журнале «Дивадло». Это по-чешски и словацки – театр.
На стр. 442 уже говорится о том, что эту пьесу ещё будут ставить в театре на Малой Бренной. Ну, это театр на Малой Бронной. Постановщик был Мораторий Вопрос. Это Анатолий Эфрос. Толя Эфрос. Они про него говорили, что он плохо не поставит, он такой, сякой. И они поставили задачу сорвать эту премьеру. И тут рассказывается, как они это всё делали.
Стр. 451. О том, как там вонь пошла от разувшихся алкашей, и то, что они там начали выдавать отсебятину, это надо понимать, и они там бздеть начали – они там устроили полное свинство и зал, конечно, опустел. И вот сверху было видно, что какое-то вокруг них половодье пустоты, вокруг каких-то группочек и как это всё происходило, как они организовали всю эту историю.
А вообще-то эта история перекликается с другой историей. Я сейчас о ней расскажу. А история эта такая. В 20-е годы мой папа, будучи ещё студентом, подрабатывал тем, что он ночью сбрасывал снег с крыш. Во дворе снеготаялка была, снег таял. И он на этом зарабатывал. А у него были одни единственные сапоги. И во время этой работы сапоги у него промокли. Он пришёл домой и засунул их на батарею, которая была тёплая, посушить. И лёг спать. А другой обуви у него просто не было. Днём они с мамой должны были идти в консерваторию. И вот когда он проснулся, оказалось, что сапоги ссохлись. Тогда он их намазал дёгтем, они расправились, он их обул, и они пошли в консерваторию. Они там сели где-то в партере, а сапоги воняли. Публика же в то время туда ходила «чистая», и вокруг них люди начали уходить, потихонечку расходиться, потому что выдержать этот запах было трудно. Мама на него разозлилась, его обругала за это дело, ушла и села на балконе. И она вспоминает: «Сижу на балконе и вижу – сидит мой Мишка блаженно и слушает музыку, а вокруг него круглое пустое пространство, т. е. весь народ, который не мог выдержать запах дёгтя, разбежался. Вот этот эпизод натолкнул меня на мысль, что можно путём запаха сорвать эту премьеру де Мелоне. А я и придумал сюжет с этими алкашами, с их грязными носками и прочими всеми делами. Вот это уже было придумано мной, но с перекидкой на эту историю.
Стр. 455. Здесь упоминается Чавелла Шкуро. Везде она у меня проходит как Чавелла, и только в этом месте упоминается по фамилии – Шкуро. Настоящая ее фамилия – Шауро. А я только поменял буквы в фамилии. Шауро – её дядя, заведовал отделом культуры ЦК. Он был известен в то время. Причём он был такой хитрожопый – приходил в театр таким образом: он ездил в членовозе и там в машине раздевался, а не в раздевалке театра. Машину подгоняли прямо к служебному входу, и он, раздевшись в машине, шёл в театр. После спектакля он уходил из ложи и быстренько через служебный вход нырял в свою машину и уезжал. Это чтоб его не спросил кто-нибудь о его впечатлениях о спектакле. Он тогда вынужден был бы что-то говорить. А он этого избегал вот таким хитрым способом. А она была его племянницей. Вот такие это были люди.
458. Тут речь идёт о статье в журнале «Божий мир». Подразумевается журнал «Новый мир». И тут к нему имеет отношение Творцовский. Это, конечно, Твардовский. Может быть, и не было такой рецензии, наверняка не было, я её придумал. Эта часть романа у меня использована в жанре рецензии. А я уж говорил, что у меня роман из разных кусков складывается – где-то поэма, где-то типа пьесы, а здесь рецензия. И вот эта часть романа используется в стиле рецензии.
Стр. 459. Тут начинается рецензия, которая носит название «Почём опиум».
466. Тут я говорю: «Моя программа предусматривает просмотр всех идущих в данный момент на сценах театров пьес Отпетова». Мы с Зиной не пожалели времени и действительно по всем театрам (Москвы) посмотрели эти пьесы. И всё, что я пишу в этой рецензии от лица какого-то рецензента, это всё мы с Зинкой видели, обсуждали и смеялись над всеми этими глупостями.
На стр, 467 идёт рассказ о других билетах, как их там сплавляли около театра, шла опера «Уркаган». На самом деле была такая его опера «Ураган». И всё, что тут описывается, абсолютно документально точно. И то, как толпами люди пытались продать билеты, как билеты всучали в школах, и как дети бегали по театру. Как их там ловили билетёрши, ловили и сажали на места, и как сидящая перед нами девчонка уснула. Всё это документально списано с нашего посещения этого спектакля. В этой самой опере были очень интересные арии: ария секретаря обкома, ария председателя колхоза, ария доярки – всё это было нечто ужасное. Мы, конечно, ржали, и выдержать это было нелегко.
Софронов, видимо, так боялся разоблачения своего происхождения и чтоб не узнали про его папашку, что у него во многих пьесах как раз эта тема проходит как защитительная… У меня вот здесь сказано и показана вся его эта возня, вокруг этого точно здесь оценивается. И самое интересное, что тут в конце я говорю о его пьесе «Судья-ищейка». На самом деле у него была пьеса «Судьба-индейка», где что-то тоже в этом духе всё было, но я немножко перетолковываю по-другому, а в принципе это так и есть.
475. Здесь идёт разговор – штука для штуки, штука как искусство на языке свентов. Это поляки. Свента – это Святая Польша, Свента Посполита. На языке свентов – это значит на языке поляков. Это штука для штуки. Мне очень даже понравилось: в Варшаве иду и вижу – написано: – Министерство культуры и штуки. Это значит Министерство культуры и искусства.
Стр. 478. Тут опять идёт речь о театре на Обрате. И что здесь любимец руководства и публики Заливохо-Грицко – это Николай Гриценко, который там в пьесах нашего героя в подпитии откалывал неимоверные номера, рушился на колени, в общем, валял дурака на дневных спектаклях, когда начальства в театре не было, или в тех отделениях, когда начальство уходило домой. Они просто издевались над этими пьесами – «Стряпухой» и другими. Это мне рассказывали сами люди из театра.
Стр. 484. Вот тут внизу стишок: «Мне как-то поведал восточный факир» … и т. д. Этот стишок – я его придумал по канве, которую мне рассказал Кондратович Алексей Иванович, который был у Твардовского заместителем в «Новом мире», пока его не разгромили, и тогда его тоже вышибли, целая история была. Так он рассказывал, как они как-то гуляли с Твардовским, шли по улице Горького. И тут около переулочка продавали книжечки. Твардовский подошёл и купил какую-то книжечку Софронова. И они начали над ним смеяться. Он открыл и прочитал в этой книжке:
Сказал мне однажды индийский философ,
Что в жизни есть много сложных вопросов.
Они начали над этим ржать, и Твардовский говорит: «Это что, надо было ехать в Индию, чтобы узнать, что в жизни есть много сложных вопросов?». Они стали смеяться и над Твардовским, что он книжку купил, и тогда Твардовский швырнул эту книжку в какую-то подворотню. Вот подоплёка этого стишка у меня в книге.
Стр. 486, 487. Речь идёт о песне или стихах «Ах, эта красная рябина». Мы её прочитали. Это не его песня. Это ему кто-то перелопатил или какую-то его примитивную вещь переделал, потому что это написано совершенно не его лексикой, не в его духе. Он такие вещи написать не мог, о чем свидетельствует следующий случай.
Чтобы написать эту книгу, мы изучали его, так называемое, творчество. Это был, конечно, сизифов труд, жуткая совершенно работа была. Я взял на себя читать его пятитомник – пьесы там, стихи. А Зина взялась читать его статьи, которые он печатал в «Огоньке». Она читала, читала и вдруг говорит: «Слушай, вот эта статья, это не Софронова статья. Он не мог это написать, в его языке нет таких слов». Эта статья была посвящена юбилею великого драматурга Александра Островского. И я тоже подумал, что не мог же он написать такую статью. Думаю, что же делать? Пошёл к девкам в отдел проверки. Говорю: «Девки, кто автор этой статьи? Это же не Софонов. А кто автор этой статьи?». Они говорят, что это Илья Самойлович Зильберштейн. Это был такой искусствовед и собиратель нашей культуры и проч. Он привез огромное количество материалов из Франции: ему все выдавали эти материалы, отдавали картины, рисунки, рукописи. Он открыл в Москве Музей частных (личных) коллекций. Он был очень известен. И в это время в «Огоньке» шли его парижские записи о том, как он всё это находил. Это называлось – «Парижские находки». И печаталось это зелёной улицей, потому что он за Софронова написал эту статью. И когда в секретариате хотели что-то сократить у этого Зильберштейна, Софронов их вызвал и сказал, чтобы они не трогали ни строчки, не прикасались к Зильберштейну и т. д. Т. е. я тебе, ты мне.
Потом прошло много лет, это было начало 80-х годов. В Москве в Доме художника открывалась выставка фотографий Наппельбаума Моисея. Это организовал его сын Лев Михайлович (Моисеевич!!!). Лев Михалыч в миру, а вообще Лев Моисеевич Наппельбаум. Выставку открывали он и Зильберштейн. Зильберштейн был уже слабенький. Это было на балконе в Доме художника. Там стоял ряд кресел. После того как уставший Зильберштейн сел там в кресло, я подсел к нему в соседнее кресло и говорю: «Илья Самойлович! Меня десять лет мучает вопрос: в «Огоньке» была статья к юбилею Островского. Это Вы её написали?» Он говорит: – «Я, она у меня даже поименована». Ну, в смысле что я написал, а шла она за подписью Софронова, мало ли за чьими подписями когда-то шли мои вещи». Вот так вот. Таким образом я узнал историю этой самой статьи. В общем, опытному глазу сразу видно, где он, а где не он. И вот эта «Красная рябина». Зина сказала: – «Да не может он такого написать! Это просто не его лексика и не чувство, ничего». Поэтому я эту песню перелопатил совершенно спокойненько, и она получилась в таком виде.
На стр, 495 идёт речь, как одного молодого режиссёра заставили ставить его драматический «Ураган». Но, по-моему, речь шла не о спектакле «Ураган». Это был спектакль в филиале Малого театра. Мы ходили с Зиной. Кажется, этот спектакль назывался то ли «Эмигранты», то ли «Эмиграция» тоже Отпетова. Мы же всё его ходили смотреть. И там, в театре ходил такой молодой режиссёр, такой унылый, и действительно оказалось, что его, в общем, заставили поставить, и он поэтому говорит: «Коллеги надо мной изгаляются, называют мою постановку «Дело Бейлиса», хотя фамилия у меня Дрейфус». На самом деле фамилия этого режиссёра была Бейлис, имя я не помню. Он был молодой парень, ходил там по этому самому вестибюлю в джинсовом костюме И всё вслушивался, что люди говорят об этом спектакле. Но, видно, у него на душе было кисло.
В конце рецензии стоит крестик, и Отпетов никак не мог вспомнить, что это ему напоминает. На самом деле этот крестик – это подпись. И те крестики, которые когда-то проставляла Маруся. Когда её спрашивали, она ставила крестики. Так вот этот крестик – знак того, что это написала Маруся, про которую там и мелькнуло, что она филолог. И она, послушав эту поэму, поняла, в чём дело. И она проделала всю эту работу, которую проделали мы с Зиной. И она написала, и потом, когда отпетовская свора пытались разузнать, что и как, кто мог это сделать, то ходили по театрам, и им говорили, что приходила какая-то девица. Так вот, эта девица была Маруся, и ни кто иной. И написано это Марусей и Маруся совершенно не случайно поэтому в этой книге вместе с её катастрофой. Она в этой книге совершенно не случайная, а очень важный персонаж.
Вот, в общем-то, и весь комментарий к роману. Остаётся только добавить, что на последней странице у меня написано: «Продолжение следует?». И поставлен знак вопроса. Меня упрекнул Кондратович, который написал рецензию на этот роман, в том, что он игривый что ли – знак вопроса, или что-то в этом духе. Ничего он не игривый. Просто я не знал, смогу ли я продолжить и написать вторую и третью книги, которые как я говорил, были запланированы и даже расписаны по главам. А потом всё это дело прекратилось, потому что я, как пишу в одном из своих эссе, по-моему, в «А + Б» про Ахматову и Булгакова, о том, что рецензент сказал – надо мной нависает тень Булгакова. Что подвигло меня писать второе вступление ко второй книге Отпетова. И я начал писать. Решил сделать ещё одно вступление – булгаковское и посмотреть, почему надо мной нависает тень Булгакова. Булгаковым я тоже немножко увлекался, читал, но не занимался специально. Но как только я к нему прикоснулся немножко поближе, то он меня ухватил за шкирку, и всё… И больше он меня не отпускал. Дальше у меня пошёл только Булгаков, занимался я только Булгаковым. Решил плюнуть на этого Отпетова, и ничего не продолжил.
Но частично написана история, что происходило с этим моим романом дальше. С этой частью. Я найду. Там страниц двести. Это, наверное, надо продолжить и сказать, как это происходило и чем всё это кончилось. Вот что касается моих комментариев, Серёжа. Вот тебе одному я это посвящаю и отдаю. Дальше я тебе что-нибудь сейчас наговорю, но это потом. Сейчас я должен отдохнуть.
Продолжаю на следующий день. Вчера было 13 декабря, сегодня 14 декабря. Таким образом, я немного передохнул. Так вот, я хотел рассказать, что когда я закончил роман и его надо было перепечатать, для этого нужна была машинистка, а в то время с машинистками было очень опасно – они продавали своих клиентов, своих авторов, таким образом был предан Лен Карпинский, который за свои сочинения пострадал, его таскали как диссидента и всё такое прочее. Это было очень опасно. Егор Яковлев предупредил меня: «Смотри, не влипни как Карпинский».
У меня была подруга детства, с которой мы вместе выросли в коммуналке, Лиля Норбер. Она взялась мне перепечатать. Она была профессиональная стенографистка-машинистка высокого уровня, и она была как раз в это время в отпуске. Она мне в пяти экземплярах перепечатала всю мою рукопись. Вообще это рукописью можно назвать с натяжкой, потому что рукописных там было страниц пять, первые, в общем-то, страницы. А потом я всё писал на машинке. Но машинка моя была с мелким шрифтом, и было там много правки. И потом нужны были экземпляры. Таким образом, перепечатала она в пяти экземплярах примерно три четверти книги, и оставалось ещё 150 страниц. Но у неё кончился отпуск. И тогда эти 150 страниц мы с Зиной пополам разделили, сели и допечатали на двух машинках.
После того как всё это было перепечатано, мы решили сделать фотокопию. Я переснял всю книгу, получилось несколько плёнок с этими фотографиями: на каждом кадре было по две страницы, как разворот. И мы решили, что эту книгу надо обезопасить, т. е. вывезти за границу. А мы как раз собирались ехать в Германию. Я тогда накрутил эти плёнки на бобину, сверху накрутил плёнку неснятую, непроявленную. И запаковал в фирменную банку от семнадцатиметровой плёнки ГДРовской. И взял эту плёнку с собой. И взял, кроме того, 400 или 500 листов бумаги, и мы приехали в Берлин. Я решил отдать в какую-нибудь мастерскую, чтоб там мне напечатали. Оказалось, что это, во-первых, очень дорого, во-вторых, очень долго. А времени у нас было не много. Тогда мой коллега и друг Альфред Пасковьяк у себя дома за ночь в своей домашней лаборатории всё это отпечатал. Таким образом, получился первый фотокопийный экземпляр. Плёнку я отдал не сохранение Карлуше моему, а Эрвину дал читать этот текст. Мы как раз поехали в дом творчества, там он его читал. Мы потом его разбирали. А когда вернулись из дома творчества, отдали этот экземпляр Карелу. Кроме этого, конечно, эту книгу прочитало примерно 150 человек. Не приняли её человек двенадцать, как мне помнится, в основном это были технари. Многие мне говорили, что они за меня боятся, кабы со мной что не случилось. Но, слава Богу, всё уже шло на помягчение режима, потом появился Горбачёв, пошла перестройка. Но до этого у меня были, конечно, какие-то с ней перипетии, я тыкался с ней в издательства, но это отдельный разговор. Это долгое дело. И там мне писали рецензии. Но первую рецензию, очень весёлую и смешную, выдала наша приятельница жена моего однополчанина Юрки Сутулы Валя. Она написала очень смешную рецензию, но очень милую. Ну а потом мне писали рецензии вот эти рецензенты в издательствах. Их было несколько, этих рецензий. Они были разные. Алексей Иванович Кондратович написал, но это нужно отдельно разбирать. Там он сказал, что надо мной нависает тень Булгакова, чем это кончилось, я упоминал выше.
Кроме того, были другие рецензии. Была очень подлая рецензия Андрея Туркова, где он выдал моего прототипа, хотя никто его за язык не тянул. Вообще это отдельно надо говорить об этой рецензии.
Так же была рецензия одного очень симпатичного парня, Морозов Саша его звали, из издательства «Советский писатель». Он очень хорошо положительно написал, потом всем нахваливал мой роман и давал почитать. Но он в конце написал, что его не надо сейчас печатать, потому что автор должен разобраться, в каком жанре он работает. Я с ним встретился, пришёл к нему домой, хорошо посидели. Жена у него очень милая, как раз она тоже с восторгом роман прочитала. Я ему объяснил, что этому жанру уже 2000 лет. Как же он не знает такой простой жанр. Тогда он сказал: – «Ты давай снова сдай, сделай вид, что ты внёс поправки, а я напишу положительную рецензию». Я сказал: – «Саша, не будем возиться с этим, потому что всё равно сейчас не напечатают». И мы это дело бросили.
И ещё была очень пакостная рецензия – это такой Эрнст Сафонов написал, по моему, он из той софроновской компашки и прочих всех этих деятелей. О том, что он написал, я сказал где-то в моём эссе «О роли козы в литературе». Там были очень интересные вещи. Так что ты, Сережа, посмотри в этом эссе, Ты там найдёшь про этого Сафонова, и что он про меня написал, и что из этого получилось.
А вообще необходимо сделать какую-то вот работу, где бы я описал, что происходило потом с этой книгой. И всякие очень интересные коллизии с этим возникали. Люди по-разному расценивали. Например, очень высоко оценили Стругацкие. Я дал Аркадию на один месяц почитать. Он мне позвонил дня через четыре, ночью. Говорит: «Старик! Какой месяц, я уже прочитал, это мощно, мощно!» Начал говорить хорошие вещи. Ну, это у меня записано в блокноте, что он говорил. Потом прочёл Борис, ему тоже понравилось. Он сказал, что это литература, хотя сейчас нет литературы, но это литература. Но он не мог понять, почему я взял такую духовную, религиозную форму в этой книге. Ну, Аркадий ему объяснил, наверное. С Борисом я не встречался, а только с Аркадием.
Вот такие рассуждения по поводу этой книги. Что потом буду делать, я не знаю. Если я что-то сделаю интересное в описании этого всего дела, я тебе когда-нибудь пришлю. Вот, Серёжа, на этом всё, на этом мы прощаемся сегодня…
Ну, пока все, пора бежать с Бонькой, пописать ее, а то уже 9 утра, а они с Зинаидой всё почивают… Обнимаю тебя, привет Людмиле и СС. Чао. Юра.
Юрий Кривоносов.13–14 ноября 2008 года.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.