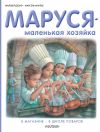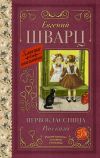Текст книги "Карьера Отпетова"

Автор книги: Юрий Кривоносов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Приезжаю, получаю Отзыв, прочитываю первые строки и тут же прошу вернуть мне мою папку. Милая дежурная редакторша приносит ее, я расписываюсь в амбарной книге под записью: «Рукопись возвращена на доработку» и мчусь домой – дочитывать Отзыв и «дорабатывать»… Что? То, что дорабатывал целых девять лет? Книга уже вернулась, как говорится, на круги своя, а, заметьте, редактора своего я еще и в глаза не видел! И хотя он практически к ней почти никакого отношения не имел, я все же решил с ним повидаться, познакомиться. Созвонился, еду в «Современник», по дороге строя хитрые планы, как выведать у него тайну звонка, который, якобы, занулил мои шансы «выйти на читателя».
Знакомимся – милый молодой человек, глаза чистые, голубые, никакой косины – взгляд открытый и прямой, как Октябрьская железная дорога.
Кстати, и комната редакторов – обширна и многолюдна, как ее концевые вокзалы. На стене плакат: «Даешь Рубикон!» Спрашиваю – это чего?
– А это от слова «рубать» – мы же тут, можно сказать, каждый день рукописи рубаем…
Да, лесосека гудит – одни висят на телефонах, другие схватились с авторами в рукопашную – очно. Словом – кипение литературной жизни. Редактор, в размышлении, где бы нам поговорить – тут мы друг друга почти не слышим – уводит меня в коридор, где мы уединяемся между шкафом и холодильником. Это, правда, несколько неточно – уединение наше непрерывно нарушается гранильщиками родного слова, которые тащат в холодильник из близлежащих магазинов всяческую снедь, предназначенную, очевидно, для поддержания их творческого горения на достаточно высоком градусе…
Я еще дошлифовываю в уме свой хитрый вопрос, но прежде чем успеваю облечь его в звуковую форму, Иван Шилов – так зовут моего редактора – глядя на меня умиротворенным взглядом, произносит:
– Звонок был, директору, чтоб роман ваш печатать не вздумали, скандальный, говорят, до нет спасу!
– А вы разве его куда-то посылали?
– Да вы что!
– Так откуда же они знают?
– А им знать не обязательно…
– Но должны же они были прочитать?
– Может и должны, только от нас роман никуда не уходил – я его не то что бы прочитал, а просто пролистал, вникая по поверхности, думал – после рецензии и прочту, если положительная будет. Рецензенту и послал. Курьер по дороге никуда не заворачивал, прямо ему и отвез – он мне уже через час роспись в рассыльной книге показал… А вы сами-то им, – Иван Шилов тычет большим пальцем в низкий потолок, – читать не давали?
– Им – это кому? – задаю я наводящий вопрос.
– Как кому, тем, кто звонил!
– Так откуда звонили-то? – домогаюсь я.
– Как откуда? – удивляется моей тупости Иван Шилов, – Сверху!
– С какого верху?
– С самого… Ну, ежели по-вашему, то, конечно, не из Поднебесной, а только из Догмат-Директории (в романе под таким названием подразумевается Отдел пропаганды ЦК КПСС)…
– Так такой и организации-то нету, придуманная она, так сказать, домысел и вымысел… Голая литературщина…Хорошо, допустим, что эквивалент я довоображу, а кто именно звонил, на каком уровне? Что говорил, чем обосновывал?
– Этого я уже не знаю, прерогатива эта не моей компетенции, что знал, то сказал, да и сказал больше, чем мне полагается. Сам не пойму, чтой-то я к вам так проникся, я ведь не звонарь какой-нибудь, от меня мой прямой начальник уж который год ни да, ни нет вытянуть не может… Только я думаю, мы вас и без звонка печатать бы не стали.
– Это почему же?
– По многим причинам, во-первых, уже потому, что Отпетов ваш фигура очень крупная, я, правда, с ним лично не встречался и дел не имел…
– А как вы могли иметь с ним дело, когда его не существует – это же так сказать литературный образ…
– Во-во, с образами-то как раз и надо бы поосторожней… Ну, допустим, не существует он, как и ваша Догмат-Директория… Но ведь очень дорогая вышла бы книга – в ней стихов – тьма, а как вы сами пишете «с рифмой платят за строку» – гонорару много уйдет.
– Так вы же сколько разных отпетовых издаете в стихах целиком в листаже несусветном. Значит тоже не причина?
– Потом у вас многовато диалогов…
– Тогда, выходит, Шекспира, Гоцци и Мольера вообще издавать нельзя – у них только одни диалоги и есть? Может, у меня диалоги не читаются – нескладные?
– Да нет, читаются, диалоги у вас, вроде, нормальные…
– А чего бы им не быть нормальными? Диалоги вообще вещь нормальная, мы вот с вами сейчас чего ведем, как не диалог?
– Ей богу, правда! Ну, ладно черт с ними, с диалогами, но герой у вас все-таки прозрачный… Вон даже эпиграф из него вставили…
– Так мало ли из кого у меня эпиграфы – и из Симеона Полоцкого, и из Саши Черного, и из Николаса Гильена… Так что ж это и про них что ли? Почему вы именно кого-то конкретного берете «за основу», похож, что ли очень на Отпетова? Ваш рецензент тоже упирает на узнаваемость, так может это от собирательности образа идет? И потом, мало ли кто на кого похож – писатель же всегда берет кого-то в прототипы, обычно того, что поближе лежит, потому и те, кто к нему самому поближе, могут на кого-то и подумать, а уж читателю-то на это больно наплевать, он же от узнаваемости защищен незнанием прототипа, а если кого-то в герое и узнает, то это не от «прозрачности намека», а от степени типизации, так это, по-моему, и определяется теорией литературы?
– Теория теорией, а типизация у вас очень уж явная получается, что-то вроде анатомички эпохи – по вашему типу можно изучать вывихи времени.
– Так это же хорошо!
– Оно, может, и хорошо, только анатомичка на непривычного человека страх нагоняет и пахнет нехорошо…
– Как оно там ни пахнет, а без анатомички не бывает ни рядового врача, ни выдающегося художника.
– Может быть, вы и правы, только наше издательство ни врачей, ни великих художников своим профилем не охватывает, диапазон у нас более средний. Слушайте, а почему бы вам не написать для нас что-нибудь на нормальную тему, тем более, слог у вас недурной…
– Так на нормальную тему пишут девять тысяч членов писательского объединения, на что вам еще одного?
– Ну, тогда, может быть. роман свой малость приструните?
– То есть, вы мне предлагаете быка, выращенного и воспитанного для корриды, использовать на пашне, или пустить на мясо? Но ведь для этого уже есть сколько угодно волов – пусть они и пашут, и на бойню идут с покорным мычанием. Нет уж, пусть этот бык бодается!
– Но вот даже ваш рецензент говорит, что в таком виде публиковать нельзя, значит надо что-то переделывать?
– А почему вы считаете, что я должен верить ему, а не себе, и не тем уже довольно многочисленным читателям, которые от меня никаких переделок не требуют, а требуют только продолжения?
– Позвольте, но существуют же такие инстанции, как редактирование, почему бы вам самому не пройтись разок-другой по рукописи, что-то поправить, сократить…
– Вы, наверное, бегло просматривая книгу, невнимательно читали или просмотрели мое вступление – там ведь ясно сказано, что я неоднократно перечитывал рукопись, и одну за другой стирал свои первоначальные пометки, пока она вновь не стала совершенно чистой. И потом править и сокращать автор должен в процессе работы, а не когда закончил ее и отдал в издательство. Я, например, сокращаю или точнее убираю все ненужное или не очень нужное еще до того, как начинаю писать – под последним действием я подразумеваю изложение на бумаге уже упорядоченных мыслей – первых попавшихся я вообще к ней не допускаю! И там же во Вступлении сказано – публиковать факсимильно! И потом, в истории литературы известны случаи, когда даже знающие и весьма маститые читатели и даже писатели советовали авторам каждый свое – один говорил, что он написал не то, другие – не так, и послушай автор каждого, мы бы ни одного толкового сочинения не имели…
– Упрямство ваше мне нравится, и все-таки, чтобы издаться, надо поступать применительно к… ну, как бы вам помягче сказать, к обстановке что ли. Допустим, сделать некоторые купюры…
– А вы уверенны, что купированный роман лучше некупированного? Он, может быть, будет и удобней, как и купированный вагон, но основная масса народа ведь ездит некупированными, они вроде бы как ближе к народу-то… И потом, может быть, с купюрами вылетит всё то, что делает произведение «романом века» – то есть, опять из бойцового быка вы предлагаете сделать вола…
– Слушайте, чего вы так уперлись? Это какой у вас вариант, первый?
– Первый!
– А…
– И последний!
– Да вы что! У нас до издания у каждого автора бывает по нескольку вариантов, обычно семь-восемь…
– Ну и на здоровье! Значит у вас главный авторский косяк – писатели черновики…
– Какие-такие черновики?
– Самые обыкновенные, сразу видно, что моего романа вы все-таки не прочитали, там это точно определено. Вариантов у меня не может быть уже даже потому, что на каждый вопрос я имею всегда только одну точку зрения, окончательную и бесповоротную. В общем, как говорится в одном анекдоте – «Рэзать не дам!»
– Нет, вы просто, наверное, не хотите издаваться, раз уперлись в свои принципы. А у моего начальства принцип совсем другой – они нас учат, что если вариант первый, то должны быть и последующие, потому что первый – всегда сырой.
– Но в сыром продукте все витамины целы, и чем дольше их варишь, тем больше они стерилизуются, вы знаете, что такое стерилизация?
– Это, смотря в каком смысле, если в китайском, то запланированное бесплодие.
– Вот именно!
– До чего же вы настырный! Неужели вы не можете понять, что после верхового звонка ни я, ни рецензент, ни даже директор издательства ничего не решаем? И если только все переписать…
– То и это не поможет? Не так ли? Зачем мы тогда вообще весь этот разговор ведем?
– Ну, прежде всего, мне, как редактору положено завершать работу с автором, даже при отказе печатать его произведение, а это как раз именно такой случай, правда, нетипичный…
– Почему же он нетипичный, или вернее чем не типичный?
– А тем, что рукопись отвергается только в трех случаях: если она бездарна, если она несвоевременна или вредна…
– И она конечно вредна…
– А вот и нет, во всяком случае, рецензент об этом не говорит, как, впрочем, и другая соответствующая инстанция.
– Какая именно?
– Как какая? Известное дело – Главлит. Я, честно говоря, думал, что там вас и застопорят, а получилось все наоборот, зарезали вас на первом туре, если считать рецензию, или, точнее, даже на нулевом, потому что рецензия уже ничего не решала, а только отвечала целиком и полностью требованиям звонка.
– Слушайте, а может, звонок этот был «по системе Черноблатского» – кто-то выдал себя за кого-то?
– Э, нет! У нас такое дело не проходит, ни в положительном варианте, ни в отрицательном, директору издательства обязательно должен быть известен человек, висящий на другом конце провода, тут его на мякине не проведешь…
– И часто у вас бывают отрицательные варианты?
– На моей памяти, этот – первый. Всегда звонят в поддержку какой-нибудь муры, и требуют ее обязательного издания, и если звонит важный туз, скажем литературный бонза, как ему откажешь? За кресло, как понимаете, платить нужно чем-то, за так у нас ничего не делается. Конечно, если книга очень уж хороша, она, как правило, проскакивает, доходы-то нам тоже необходимы, а мура она обычно потом в отвалы идет, и чем-то эти убытки покрывать надо, вот и пропускаем необходимое количество ходового товара, иначе не проживешь, тем более, что и аппарат, что над нами, тоже кормиться должен… Поэтому-то я и думал, что до Главлита вы все-таки дотянете, книжица ваша забавная, и навар бы с нее нам был, я лично вреда в ней никакого не вижу, может и главлитургисты так бы рассудили…
– Выходит, я позвоночник с отрицательным знаком?
– Да, значит, слыхали, что таких авторов у нас, как, впрочем, и везде – протежированных – называют «позвоночниками»…
– И все-таки, если судить по вашим словам, и по тому, что рукопись возвращена мне (в журнале так записано) на доработку, то вредным мое сочинение не является, и бездарным так же, значит остается третий случай?
– Если откровенно, то, на мой взгляд, это именно так – вещь ваша несвоевременна, ее сейчас не дадут…
– А потом дадут?
– Потом могут и дать.
– Сейчас, значит, еще рано? Время ее что ли не приспело?
– Да, скорее всего, должно пройти еще какое-то время, чтобы и читатель подрос, и в Догмат-Директории поняли, что она на пользу…
– Опять вы с этими книжными терминами… Но ведь тогда получается так, что книга моя рановато объявилась, но в то же время Отзывист говорит, что она бичует то, что, к сожалению, в нашей жизни имеет место, значит, она все-таки своевременна?
– В этом смысле, да, а несвоевременна она тем, что вопрос этот ставить пока не хотят, и получается, что вы поперёд батьки в пекло полезли, а этого, сами понимаете, кое-кто не любит, получается, что вы вперед времени выскочили, а впереди своего времени идти, как известно, не полагается, и Отзывист вам как бы намек делает, говоря, что в таком виде рукопись не пойдет.
– А в каком пойдет?
– Да ни в каком не пойдет – сказано: звонок! Значит, кто-то ее боится вусмерть, раз такой звонок организовал, не сами же верхние инициативу проявили, раз они рукопись и в глаза не видывали, не то что не читали, и действовали они явно по чьему-то наущению. Но как бы там ни было, мой совет вам один – заберите вашу книгу, пока вас самого не забрали…
– Неужто и такое бывает?
– Давненько бы вроде уж не было, да бережённого бог бережет! Словом, не будем испытывать судьбу…
Через пару дней звонок Кондратовича:
– Прочитали рецензию?
– Конечно…
– Вы на меня не обижаетесь?
– Нет.
Тогда он сказал:
– Может быть, я в чем-то и неправ…
– Думаю, что не правы… (цитирую по рабочему блокноту, как я тогда это записал).
Я, действительно, не обиделся, а только удивился. Обиделась моя жена Спаса-Зина, даже не обиделась, а разозлилась. Ну, не как Маргарита, которая «хриплым голосом и, стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского…», но разозлилась не на шутку. Я ей объяснил, почему он так написал, и вдруг понял, что он мне сделал колоссальный подарок, отразившийся потом на всей моей последующей жизни. Таким подарком были слова: «…чуть ли не с самого начала над повествованием нависает тень Булгакова…».
Прежде чем процитировать некоторые места из его рецензии, скажу, в чем была причина кардинальной перемены оценки моего опуса, по сравнению с той, что он мне высказывал при наших встречах – а их было несколько.
После того звонка, а он был, как уже известно, из ЦК, напиши он положительный отзыв и рекомендуй мою книгу для печати, ему бы еще раз перекрыли кислород, и на этот раз – окончательно. А это уже не шутки, мы помним, чем это оборачивалось для людей в ту пору… Нечто подобное случилось и с другим «отзывистом», уже не в издательстве, а в редакции толстого журнала. Но об этом позже…
И пришлось Кондратовичу искать доводы, на вид вполне пристойные и логичные, а по существу, не очень-то и благородные.
О них я скажу дальше, а пока – очень важный момент во всей этой истории – я уже, было, написал ответ-разбор его рецензии, разобрал по пунктам все его замечания (обвинять всегда удобнее чохом, а опровергать – по пунктам) и хотел их опубликовать во вступлении во Вторую книгу, как увидел в «Литературной газете» сообщение о его смерти. И, естественно, не смог уже предать гласности мои доводы в том виде, как они были высказаны при его жизни, и быть довольно резким в этих своих высказываниях. Тогда мне подумалось – знай Алексей Иванович, что жизни ему осталось менее трех лет, так ли он написал бы свой отзыв, не наплевал бы на тот самый кислород… И еще понял – как же ему было трудно выкручиваться из создавшейся ситуации – недаром же он спросил – не обиделся ли я на него, значит знал, что есть на что обижаться…
В его рецензии много противоречий. Вот одно из них.
КОНДРАТОВИЧ: «Это очень редкий вид романа в нашей литературе – сатирический. Юрий Кривоносов, безусловно, человек способный, хотя в большой литературе и в таком объемном жанре выступает впервые. Он остроумен, находчив, свободен в обращении со словом, смел и независим в применении редких композиционных приемов. В романе почти безраздельно царит авторская свобода изъяснения, безусловно, вызывающая читательские симпатии. Чувствуется, что автор, как говорят, за словом в карман не полезет, он выдумщик, фантазер, и хотя чуть ли не с самого начала над повествованием нависает тень Булгакова, мы и на это готовы не обращать внимания: в конце концов, Булгакова, не кого-нибудь»…
И тут же контраргументы:
«Автор ни в чем не знает меры и удержу. Если рассказывается полуприключенческая история Маруси, то на сорок страниц, идет история премьеры – «Скрипухи» в театре «На Обрате» (тоже прозрачнее некуда!) – опять десятки страниц. Всюду не просто перебор, а «перевыполнение» на триста-пятьсот процентов. Все можно и нужно бы короче. Тогда бы и сатирический удар был бы сильнее. Обилие слов готово убить любую иронию и самую смешную ситуацию превратить в скучнейшую. У меня есть сильное подозрение, что и весь роман мог бы с успехом уложиться в нынешний объем, а он грозит увеличиться вдвое. Или втрое?»…
Стоп! Здесь совершается нечто такое, как бы это помягче выразить… Ну, словом, как теперь говорят – сдал он меня. Я ведь ему в доверительном разговоре рассказывал, что будет вторая и третья книги, и он сам мне посоветовал, как я уже говорил, сделать вид, что мой роман окончен, что я и сделал…
И эта «сдача» повторяется дважды, причем первый раз уже в первом же абзаце рецензии.
КОНДРАТОВИЧ: «… Роман, (так мы его и будем дальше называть) еще не закончен, по всему видно, что последует еще одна книга, если не третья. Издательству это следует иметь в виду, поскольку в практике того же «Современника» не так часты случаи выпуска незаконченных вещей, разве лишь когда издательство имеет дело с произведениями уже хорошо встреченными критикой и читателями по журнальным публикациям.
Это не в предостережение, а лишь для того, чтобы с самого начала издательство представляло, что рукопись не проста, хотя бы потому, что, несмотря на довольно большой объем (свыше двадцати листов), сулит еще неизвестно какое продолжение».
Разве это не замаскированный смертный приговор? Или вот еще.
КОНДРАТОВИЧ: «Но тут же обнаруживается и одна особенность романа: он всем своим сатирическим пафосом направлен не столько против определенного явления в литературной жизни, сколько против определенного лица. И это так прозрачно в рукописи! Антоний Софоклов, «Неугасимая лампада», Тихолаев – заместитель Отпетова, Низоцкий – другой заместитель – «Железная рука Отпетова», Веров-Правдин – «член бредколлегии», Минерва-Толкучница – «грязная рука Отпетова и т. п. герои и персонажи сатирического романа. Вы легко угадываете, кто это такие? Да кто ж это не угадает»?
Покажите мне сегодня человека, который бы угадал! Да и тогда…
Я проделал такой эксперимент – написал на бумажке эти закодированные имена и показывал ее всем встречным-поперечным, кто поинтеллигентней выглядел, и никто не узнал! Больше того, я дал рукопись Юре Садовникову, в то время ответ. секретарю «Юности», а он давал читать членам редколлегии, и, опять-таки, никто не угадал. А вот «гадание» с обратным знаком: мой друг, главный инженер авиационного КБ узнал в Отпетове своего Генерального конструктора; респектабельная дама, кандидат юридических наук, утверждала, что это их завкафедрой, а моя племянница Таня – молодая библиотекарша – сказала, что это ее заведующая библиотекой.
Но ведь она же женщина – удивился я.
Ну, и что, какое это имеет значение…
Значит, рецензент хотел бы, чтобы это было как в небезызвестной песне из милицейского сериала: «Если кто-то, кое-где у нас порой честно жить не хочет…». Здесь неизвестно кто, неизвестно где и неизвестно когда…
Так ведь я и хотел, чтобы их узнавали! И именно так, потому что для тех, кто знал моих прототипов лично, написанное мной было ничем иным, как капустником, что тоже занятно, но не глобально. А вот те, кто их не знал – а это основная масса потенциальных читателей, – узнавать могли только как типичных представителей той или иной области человеческой деятельности.
Мне кажется, что рецензентам не подобает мерить всё на свой аршин. И еще интересное наблюдение – как правило, все авторы этих «внутренних рецензий» почему-то норовят блеснуть своей эрудицией. В данном случае, я бы обратил внимание на такой пассаж:
КОНДРАТОВИЧ: «В русской литературе известны случаи, когда и великие писатели (скажем, Достоевский) обвинялись, именно обвинялись в том, что они вывели в своих произведениях известных лиц в пасквильном, карикатурном виде. Были случаи и в советской литературе. И всякий раз поднимался шум по поводу этого, хотя в случае с тем же Достоевским до сих пор так и не доказано, что под именем Кармазинова он вывел Тургенева: специалисты и по сей день не пришли к общему ответу. А тут, у Юрия Кривоносова, так сразу прозрачно и обнаженно… Автору может не нравиться тот или иной человек, это его личное дело. Но так уж сложилось в литературно-этической практике нашей (и не только нашей) словесности, что негативное выведение реального лица в художественном произведении, да еще при жизни этого лица, расценивается как дело непозволительное. Если, разумеется, мы не имеем дело с прямым нашим врагом. Общим врагом. В ином случае, как бы доказателен и находчив не был автор, он неизбежно теряет из виду общественное явление и видит, прежде всего, неугодное и немилое ему лицо, и уже не столько с явлением борется, сколько сводит счеты с лицом. Не потому ли наша литература всегда с этическим неодобрением относилась к такого рода попыткам?
Дело не в скандале, который неизбежно вызовет такого типа публикация, а в обывательском интересе, опять же неизбежном: слышали, что написали о..? То, что возможно и подлежит осмеянию средствами сатиры, так или иначе заслонится именно этим сенсационно-нездоровым интересом к выведенной на страницах личности, и общественное звучание произведения резко потеряет в цене и значительности. Вот в чем дело.
Автор в своей увлеченности изобличением Отпетова-Софоклова, по-видимому, этого не чувствует, а может, и не понимает».
Всё я понимаю, и тогда, тридцать лет назад, понимал. И вот это табу на осмеяние реального лица, да еще живого, оставляю на совести Алексея Ивановича, жаль, что он этого уже не прочтет. И пример с Достоевским-Тургеневым его же самого и опровергает. Так ведь и осталось невыясненным, что Кармазинов – это Тургенев, а вот то, что сочинил и даже опубликовал Тургенев о Достоевском, не только при жизни последнего, а и еще даже в начале литературного пути Федора Михайловича…
Далее процитирую то, что я тогда написал, но не успел обнародовать – это же предназначалось для Второго вступления во Вторую книгу, и вступление это должно было быть «Булгаковским». Обращался я в нём напрямую к Алексею Ивановичу Кондратовичу, тогда еще живому и деятельному.
(ИЗМЕНЕНИЕ ШРИФТА – здесь и далее я подчеркиваю, что это было написано еще в начале 1980-х годов).
«Вот Вы признаете, что Тургенев в Кармазинове не доказан… А теперь посмотрите, как не Достоевский Тургенева, а Тургенев Достоевского изображал «в художественном произведении, да еще при жизни этого лица». Вот эпиграмма И.С.Тургенева – «Достоевскому»:
Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Ты вскочил, как яркий прыщ,
Хоть ты новый литератор,
Но в восторг уж всех поверг:
Тебя хвалит император,
Уважает Лейхтенберг.
Не знающих, кто такой Лейхтенберг, я, за неимением времени, отсылаю к Брокгаузу и Ефрону, а остальным сообщу, что приведенная эпиграмма напечатана в девятом томе собраний сочинений Тургенева, вышедшем в 1898 году, уже после смерти его (С.-П. изд. А.Ф. Маркса).
Думаю, что она не очень огорчила Достоевского, которого к этому времени тоже не было в живых, и которому была известна первая, значительно более бранная редакция. Та, что Вы только что прочли, была сильно сокращена и несколько смягчена составителями указанного издания.
А вот первая публикация сделанная еще в 1846 году самим Тургеневым и названная им – «Послание Белинского к Достоевскому» (что тоже не очень прилично). Не поленюсь и приведу ее целиком.
Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ,
Хоть ты юный литератор,
Но в восторг уж всех поверг:
Тебя знает император,
Уважает Лейхтенберг.
За тобой султан турецкий
Скоро вышлет визирей.
Но когда на раут светский,
Перед сонмище князей,
Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносым носом
Перед русской красотой,
Как трагически недвижно
Ты смотрел на сей предмет
И чуть-чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.
С высоты такой завидной,
Слух к мольбе моей склоня,
Брось свой взор переловидный,
Брось, великий, на меня!
Ради будущих хвалений
«Крайность, видишь, велика»
Из неизданных творений
Удели на «двойника».
Буду нянчиться с тобою
Поступлю я, как подлец,
Обведу тебя каймою
Помещу тебя в конец.
Вот такой вот стишок… Вы, конечно, можете сказать, что они друг с другом сводили счеты, но тогда почему Вы вините одного Достоевского, а страдательным лицом делаете Тургенева?
Кстати, не все усматривают в приведенном случае вину Достоевского. Вот, например, один из наших современников, исследователь Булгакова Игорь Бэлза пишет так: «Поистине глумятся» Бесы» отчаянными словами», глумятся даже над Тургеневым, саркастически высмеянным в образе Кармазинова…»
И я что-то не слыхал, чтобы кто-то порицал Тургенева за его эпиграмму.
Теперь насчет «прямого общего врага» – что прикажете под этим понимать? Это что – «враг народа»?? – раз общий – выходит народа… Но ведь это пройденный этап! А почему Вы терпите Отпетовых и Афишкиных? Это же по Вашей епархии? Это что, не общие враги? Ну, если не народа, так ведь литературы? Не так ли? Они ведь на нее пятно кладут! Я имею в виду литературу в буквальном смысле, а вот какой смысл вкладываете в это слово Вы, когда пишете: «Не потому ли наша литература всегда с этическим неодобрением относилась к такого рода попыткам»?
Есть в данном контексте некая безликость, и по какому праву Вы за всю литературу расписываетесь? И разве осмеяние Отпетовых и Афишкиных – «реальных лиц» – не есть борьба с «общественным явлением», разве объективно они не враги? Что такое враг вообще, неважно скрытый или открытый? По-моему, это тот, кто наносит вред тому или иному делу, в нашем примере – литературному. Ведь говорит же, так часто и охотно цитируемый Вами Александр Твардовский, об «огромном вреде от плохих книг» – а разве этот огромный вред не есть литературное вредительство, анализу которого посвящена Четвертая тетрадь «Карьеры Отпетова» – «Почем опиум»? Так что, пожалуйста, давайте не прятаться за «литературно-этическую практику» нашей словесности…
Ну, разве можно укорять меня Булгаковым? Ведь и над ним самим нависали великие тени – это же так естественно! И правильнее сказать не нависали, а осеняли его своей тенью – через все его творчество просматриваются и Пушкин, и Достоевский, и Гоголь и многие другие, а уж Гёте со своим «Фаустом» под мышкой прямо-таки разгуливает по страницам «Мастера и Маргариты», да и в «Белую гвардию» заглядывает. Этот Ваш упрек настолько меня раззадорил, что я решил использовать его по своему – привлечь великие тени себе на помощь в этой нашей полемике – пусть Вам будут отвечать главным образом они – пусть постоят за своего потомка и наследника…
Но, все-таки пару слов еще об этом сказать вынужден. Вы почему-то очень плоскими видите слова – они у вас смотрятся как плоские фанерки – никакого объема – так видит только фотообъектив в силу своего одноглазия, А ведь каждое слово имеет объем – положите-ка его на ладошку, да повертите во все стороны, и оно сразу покажет вам свои разные грани. Вы говорите «в таком объемном жанре» – в каком смысле объемном? У вас это звучит – как количество страниц. Да разве это объем, это же просто протяженность. Объем – это количество образной информации. Разве басни Эзопа, например, не объемный жанр? А стихотворения Пушкина? А эпиграммы?
А потом, что значит здесь слово «жанр»? Сказано же Хиросимом – вне жанров, ибо для романа, подразумевающего повествовательность, наше произведение может показаться слишком «расхлябанным» – тут и сказка, и анекдот, и эпиграмма, и пародия, и поэма, и сон, и повесть, и рассказ, и стихотворение, и басня, и драма, и рецензия, и детектив, и литературоведческое исследование, и сценарий, и… да чего тут только не намешано.
Пушкина тень нависала над Булгаковым, а и Гоголя, и Достоевского, которого он прямо называл своим учителем, а если копать дальше, то мы доберемся и до Мениппа – помните Послесловие А.Вулиса к первой публикации «Мастера и Маргариты» – он, этот крупнейший знаток сатирических романов, определяя структуру этого произведения, прямо называет его «мениппеей «. А над Мениппом нависает тень Великого Антисфена Афинского, основателя не только философии кинизма, но и его эстетики, и если говорить до конца, то и литературной практики киников.
А Антисфен в свою очередь был учеником Сократа, а Сократ… Впрочем, пожалуй, и этого достаточно, а то у нас пойдет бесконечная цепь, как в первой книге Ветхого завета – генеалогия человечества от Адама до нас с Вами, и уже на мой роман у нас с вами никакого времени не останется.
Так вот, еще немного о Достоевском. Тогда уж Вы обвиняйте и Булгакова в том же грехе, что и меня – ведь он, будучи, как мы уже сказали, учеником Федора Михайловича тоже позволял себе выводить в карикатурном виде своих весьма известных современников. Если Вам невдомек, что Егор Агапёнов из «Театрального романа» – это Борис Пильняк, то я Вам дарю эту информацию. А как быть с тем, что Алексей Толстой вывел в Бессонове Блока? А куда девать такой жанр как эпиграмма – там ведь сплошь «знакомые все лица», и сплошь в карикатурном виде?! Так это что, всё враги изображены? Чьи, позвольте Вас спросить? Как Вы выражаетесь – общие? Что-то тут у Вас, помилуйте, не шибко вяжется… И уж совершенно никуда не годится Ваш термин, да еще и подчеркнутый, – «обвинялись». А как же быть с презумпцией невиновности? Ведь пока не вынесен приговор, никого виноватым считать нельзя. А у Вас, тем более: «Специалисты и по сей день не пришли к общему ответу.» Но ведь тогда получается по тому анекдоту – «То ли он что-то украл, то ли у него что-то украли». Так что я сильно подозреваю, что этот пример Вы привели не только в противовес мне, но и с целью блеснуть эрудицией. А с ней-то у Вас в данном случае прокол случился: должен Вас огорчить – «украли»-то как раз у него!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.