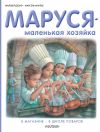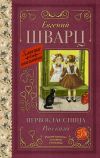Текст книги "Карьера Отпетова"

Автор книги: Юрий Кривоносов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
Книга 2-я или продолжение?
Человек почему-то считает для себя обязательным каждую стенку прошибить своим собственным лбом, в то время, как уже есть – и не малый – опыт предыдущих поколений. Следуй ему всякий новый человек – от скольких бы шишек уберегся, как сильно двинул бы себя вперед по пути всяческого прогресса. Но дети всегда считают себя умнее родителей и потому порядочное время топчутся как пьяные в густой грязи по колее дороги жизни, вместо того, чтобы обойти ее посуху. Иначе говоря, почти половину жизни проходят снова уже пройденный до них путь, чтобы потом в конце пути своего пожалеть загубленное время, когда оно уже утекло. Говорил же отец Хиросим Холомону Бахмелюку, что все попытки протолкнуть в печать известное нам Житие потерпели полную неудачу и, более того, завершились насмехательством и замогильным перепугом. Спрашивается, для чего мне-то было самому снова в это соваться? Правда, опыт неудачный – тоже результат, и я теперь знаю, что издателя точно почти нельзя найти, что чрезвычайно странно при огромном обилии ее читателей и людей, желающих стать таковыми…
ДАЛЕЕ ПИСАЛОСЬ «У ФРИДРИХА ВОЛЬФА», через несколько дней, в начале сентября…
Но во мне все же теплится надежда, что есть где-то трезво зрящий издатель, который прямо-таки с руками оторвет эту книгу, оценив ее по достоинству, как оценили ее уже многие читатели, создавшие ей некий ореол недостижимости, подогревающий любопытство множества людей, желающих до нее добраться, что не так просто при мизерном количестве наличных экземпляров и осторожности автора, опасающегося, как бы его труд не расползся преждевременно и не зарулил не в ту степь…
Мне, как автору было очень интересно, что представляют собой люди, прочитавшие роман бегло и каторжно, и каковы те, кто дотошно пройдет ее всю, не только по поверхности, а и заглянет в «подвалы» чувств и мыслей автора. Неизданность, конечно, затруднила мою задачу, т. к. относительная малочисленность читательской массы не дает возможности сделать широкие обобщения и произвести глубокий социологический анализ социального поведения вокруг предложенной книги, что для меня чрезвычайно важно. Некоторые из тех, кто имел возможность ознакомиться с этим сочинением, высказали сомнение в правдоподобии или подлинности некоторых вещей и описаний, имеющихся в тексте. На это можно ответить только то, что если кому-то что-то и показалось неправдоподобным, то это не неправдоподобней того, что происходит в самой жизни, просто не может быть более неправдоподобным…
Ввиду ограниченности читательского круга и его избранности я почти не услышал отрицательных отзывов. Вернее совсем не услышал таковых по существу книги, т. е. по ее идейно-художественному уровню. Были, конечно, отдельные прагматики, усомнившиеся в необходимости подобного произведения, как с точки зрения его действенности на окружающий нас реальный мир, в смысле попыток исправления его несовершенств, так и в целесообразности затраты умственного и рукописующего труда при слишком малых шансах на обнародование книги, как таковой.
К счастью и радости для меня, все, получившие доступ к рукописи, прочли ее до конца и без перескоков, чего с гарантией не случилось бы при издании с достаточным тиражом, ибо человечество состоит не только из мелких атомов, но также и из крупных недостатков, одним из которых, достаточно широко распространенным, является недостаток интеллекта. У некоторых людей запас его столь невелик, что его едва хватает на два-три часа мозговой деятельности. Ведь это слишком сложно – думать о непривычном, о том, к чему не приучивали, да и лень петлять по своим собственным извилинам с сомнительной целью проникнуть в то, что к тебе, в смысле твоей повседневной будничности, не имеет не только прямого, но даже и косвенного отношения. И жить так спокойней.
Первая книга – это как бы научно-практический тест, заданный с целью выяснения вопроса – выдержит ли читатель книгу, в которой нет действия в привычном для него смысле. Здесь отсутствует интрига, как таковая, хотя навалом интриг, как таковых. Здесь попросту нету динамизма в его простейшем наивном виде, к которому так хорошо адаптирован массовый читатель, воспитанный на… (смотри Тетрадь четвертую – «Почем опиум»).
Ведь почему так охотно читаются и смотрятся детективы? Да там, как раз, полно вышеупомянутой динамики – вспомните, с каким вниманием следят люди за таким обычным житейским явлением, как гонение кошки собакой – можно проследить все стадии этого гона до самого последнего момента – обычно им бывает загон кошки на дерево – ага, вот и концовка, дальше ждать уже нечего, потому что уж на дерево-то собака не залезет, и можно спокойно отправляться домой – так возвращаются из кино, когда выскочил титр – КОНЕЦ. И потому-то смотрят детектив, как бы он ни был плох – всё ясно, и есть завершенность. А тут, я имею в виду нашу книгу, ничего не ясно, потому что ничего никуда не движется. Всё запутано, топчется на месте, бесконечно идут по кругу какие-то совершенно непонятные рассуждения. Такой читатель немалочислен и кроме детективов охотно смотрит также и спортивные передачи по телевидению, не утруждая себя хождением на стадион, что связано обычно с определенным дискомфортом, а у телевизора каждый имеет возможность создать себе необходимый кайф.
Почему я говорю о двух-трех часах испытания интеллекта на прочность? Да потому, что именно столько требуется человеку просидеть в кино на фильме, содержание которого требует внимания большего, нежели при поглощении очередного детектива. Именно настолько не хватило интеллекта у некоторых людей, оказавшихся рядом со мной в зале на фильме «Сталкер» непророчистого в своем отечестве Андрея Тарковского, и тем не менее режиссера с мировым именем. Одни из этих зрителей уходили по ходу, другие компенсировали расходы на билеты тем, что во весь голос отпускали похабные, несусветно тупые реплики и получали удовольствие от того, что другие, «шибко умные», приходили от их высказываний в неистовство. На их взгляд, смотреть тут было совершенно нечего – ну, люди в зоне, ну и что? Скажите, пожалуйста, эка невидаль! Ну, по болоту бредут до бесконечности, а произошедшая от обезьянки девочка глазами со стола кувшины сшибает, и жизнь тут вся какая-то нешикарная, природа заплеванная, затянутая тиной, да и картина затянутая – сущая жвачка, ну, никакого действия, и если самому не подействовать, то, хоть уходи! И большинство уходило, кроме тех, кому уж очень было жалко впустую израсходованных денег, они-то и занялись саморазвлечением.
Надо сказать, что и на другом фильме этого режиссера происходило примерно то же самое, но чтобы не быть обвиненным в субъективизме и пессимизме во взгляде на зрителя, я предоставляю высказаться о нем другому человеку, знатоку и самому деятелю искусства, очень известному актеру, тоже с мировым именем, который в своей книге, рассматривающей роль паузы в театре и других видах искусства, взял примером фильм «Зеркало»: «…Именно в паузе, – пишет он, – как я наблюдал, зритель, который не понял фильма, всего предыдущего в нём, не выдерживает и выходит из зала, подбадривая себя сердитым бормотанием, упрямо лезет через колени, преграждающие ему путь к дверям: пауза потребовала от него чего-то, он не понял чего, и, оказавшись несостоятельным, возмутился. И наоборот, именно в паузе те, кто захвачен фильмом, совершают важнейшую душевную работу, и шум уходящих задевает их лично – они не за автора обижаются, их самих оскорбили, потому что в этот момент они сами были творцами. Направил их к этому режиссер – своими мыслями, атмосферой, ритмом и, наконец, паузой. Пауза – время творчества зрителя…».
Ну, ладно, скажут мне, и «Зеркало», и «Сталкер» шли в окраинных или полузакрытых залах, чтобы не тревожить попусту зрительскую массу неканонизированными (апокрифными) произведениями, и народ, валом валивший в эти кинотеатры, состоял не только из людей, умевших ценить искусство, но и из модоследующих снобиствующих недорослей и переростков, и отток части зрителей по ходу действия тут был так же неизбежен, как отсев части учащихся, попавших вне конкурса, из учебных заведений с заведомо трудной программой. Но если так, то я могу привести в пример другого режиссера, и тоже с мировым именем и почти вселенской известностью. Я имею в виду Федерико Феллини. Его фильм «Репетиция оркестра» шел в самом центре, да еще и в рамках крупного фестиваля, куда зритель попадал, в массе своей, с виду довольно приличный. Но ведь и с него уходили! Тут ведь тоже ничего не происходило – разве что дирижер все время орал, на что музыканты «всю дорогу» на него не реагировали. А кому интересно выслушивать бесконечный рассказ о каждом инструменте, о созвучии или диссонансе его характера с характером человека, которому приходится извлекать из него звуки? И превратились проходы зрительного зала как бы в муравьиные тропки, по которым поползли к красным надписям «Выход» обманутые в своих ожиданиях «интеллектуалы». Движение это было столь же непрерывным, как на настоящих муравьиных тропках – один раз только оно и замерло – когда какой-то из медных поволок пианистку под рояль, но дождавшись завершения этого эпизода и поняв, что дальше уже не последует ничего такого, струйки людских ручейков потекли в прежнем направлении… К концу фильма зал таки-изрядно поредел, в нем остались, главным образом, те, кому не так нужно было оставаться. Они и так неплохо разбирались в том, о чем им говорил Феллини, хотя и не каждый из них мог связать финал фильма, в котором дирижер, совершенно взмокший, не сумевший справиться с сопротивлением оркестра, который окончательно развалился, соскакивает с итальянского языка на немецкий, пролаявшись на котором, обессиленно лезет под душ, связать это с теорией другого дирижера, более известного нынешней театральной публике по кроссвордам, как автора популярной, но исполняемой теперь концертно оперы. Я имею в виду славянина Направника, блестящего дирижера, считавшего и добивавшегося осуществления своей теории, когда в мыле должны быть музыканты, а дирижер оставаться сухим. Я, конечно, не ровняю Харона с Феллини или Направником, но аналогию здесь провести бы хотел – автор должен оставаться спокойным и невозмутимым, ему не надо прыгать перед читателем, как прыгает дедушка перед внучкой, не желающей кушать кашку. Читатель, как и музыкант, должен добросовестно попотеть, чтобы добраться до самых глубин произведения, и если это произведение стоящее, и по настоящему глубокое, то продираться читателю приходится не сквозь него, а через самого себя, через запутанные стеблесплетения собственных недоборов по части эрудиции, ложно понятых истин или механически воспринятых понятий. Это, конечно, касается таких произведений, авторы которых силой мысли своей стяжали себе право быть дирижерами, направляющими звучание человеческих душ, так сказать, «думственную работу».
Вот что было написано мной тридцать лет назад у «Фридриха Вольфа» на берегу уютного озера, кое-что я тут все же немного сократил, а то уж что-то слишком распалился.
Итак, это было вступление во Вторую книгу, пока еще не носившее никакого названия, оно появится после первой рецензии, которую, как и следующие, я воспринимал как отзывы, и потому вступление озаглавил «К Отзывисту». Но после того, как мне было предъявлено нависание тени Булгакова, я решил сделать и еще одно вступление – Булгаковское. Начав собирать для него материал, я вдруг понял – никакие вступления не нужны, как и сами Вторая и Третья книги, и целиком посвятил себя этому великому писателю, которому служу верой и правдой вот уже три десятилетия…
За это время я собрал уникальную Булгаковскую фототеку, насчитывающую более полутора тысяч снимков, став единственным специалистом по его иконографии, создал две книги – «Фотолетопись жизни и творчества Михаила Булгакова» и «Михаил Булгаков и его время. Мистика, фантазия, реалии». Завершив весь этот «труд, завещанный от Бога» и, малость передохнув, заглянул в свои давние бумаги, и «пыль веков от хартий отряхнув», углубился в «археологию». Обнаружив при этом много интересного, стал это интересное систематизировать, в результате чего появились еще две книги, не имеющие отношения к Михаилу Афанасьевичу. Кроме этого нашел много страниц, написанных для второй книги «Карьера Отпетова». Среди них было два куска, показавшиеся мне достойными лучшей участи, нежели пылиться в архиве, и я, прочитав их, увидел, что это вполне законченные произведения – не знаю, как их назвать, рассказы не рассказы, эссе не эссе, но что-то стоящее. И я послал их по электронной почте моей постоянной читательнице Жанне Литвак, когда-то жившей со мной по соседству в арбатских переулках и даже учившейся со мной в одной школе, правда, в разное время. Ныне она живет в Сан-Франциско, и дает читать мои опусы тамошней диаспоре… А среди этой диаспоры оказались редакторы серьезных изданий, которые как раз на два эти куска обратили свое благосклонное внимание и напечатали их в журнале «Время и место». Один из них я назвал «Пристрелка», а второй – «Перехоронка», такими они и вышли. «Перехоронка» – это, по существу, начало Второй книги, что можно увидеть на этом фрагменте рукописи (машинописи), прочитав его вы поймете, о чем там речь. Второй кусок – «Пристрелка» своего места в книге еще не имел, но должен был быть использован в одном из временных возвратов, посвященном «первому заходу большого террора». В нем речь идет об убийстве Кирова, имя которого легко прочитывается сквозь присвоенное ему в романе. Коста Риков – Риков при небольшой перестановке букв и дает – Киров, а целиком Коста Риков, если убрать букву А, звучит как Костриков – это истинная фамилия Сергея Мироновича Кирова… «Перехоронка» никакого отгадывания не требует, и следующий за ней текст продолжает рассказ о «Неугасимой лампаде» и прохиндействах Отпетова, он же Антоний Софоклов…
Во Второй книге я планировал продолжить временные возвраты, и было уже немало написано. Прежде всего, вступал в активную фазу отец Геростратий, прототипом которого был подручный Тирраниссимуса А.А. Жданов. Сам же Тирраниссимус выведен под именем Иосаф-ака…
Их деяния в тот период заключались главным образом в развертывании антисемитской компании, носившей завуалированное название «Борьба с космополитизмом». У меня это было обозначено, как «Слово и Дело», и выглядело так…

Итак:
Перехоронка
Во всех делах своих помни о конце…
Библия
За ним пришли в час первых снов. Было уже за полночь, когда в дверь позвонили. Прозвучало это тревожно, хотя и не настолько, чтобы по настоящему испугаться. Ночной звонок и в спокойные-то времена вещь беспокойная, как, скажем, набат, возвещающий о непредвиденном бедствии. И ведь никогда же не ударят в набат, чтобы сообщить добрую весть – почему-то считается, что с радостью и до утра подождать можно. Но бывают времена, когда ночной звонок гремит пострашней набата… Впрочем, времена эти начали забываться, и потому Вернописец Храбър не испугался, а только встревожился, да и то скорее потому, что был спросонья. К нему лично этот звонок прямого отношения иметь не мог – трехкомнатная келья, в которой он сейчас обитал, принадлежала другому человеку, откомандированному на три года в качестве звонаря-инструктора обучать благозвучному перезвону свежеобращенных туземцев одного из островов вновь открытого архипелага.
Вернописцу Храбъру показалось, что соблюдатаи очутились в прихожей даже раньше, чем щелкнул замок. Их было трое, и повели они себя как-то странно – сначала, было, разбежались по комнатам, но тут же вернулись, словно спохватившись, предложили ему собираться и спросили, где можно покурить. Он сказал, что курить можно везде, и в свою очередь спросил, что ему брать с собой. Ему ответили, что брать ничего не надо, а одеться следует потеплее – на улице довольно-таки прохладно. Понимая, что пришли они не за ним, Вернописец Храбър задал вроде бы невинный вопрос:
– А вы не ошиблись?
– Мы никогда не ошибаемся! – с оттенком гордости ответил один из соблюдатаев, видимо, старший, и Вернописец Храбър подумал: «Ну-ну!». Он уже давно смекнул, что пришли они за хозяином кельи, который был значительно старше его, но их сбила с толку его борода – солидная и с проседью. Железная самонадеянность соблюдатаев его несколько удивила, но это можно понять – он впервые сталкивался с ними настолько близко, чтобы иметь возможность как следует их разглядеть.
Всё на этих людях было небесного, безгрешно-голубого, нежно-блакитного цвета – и мундиры, и фуражки, и штаны, и глаза у них были голубыми, и, казалось, даже кожа отливает в голубизну. Одни только сапоги можно было бы считать черными, если бы они в своей лихой отполированности не смотрелись бы тоже голубыми…
И всё же Вернописец Храбър был неправ, полагая, что главную роль в «обознании» сыграла его борода, а прав был тот из соблюдатаев, что настаивал на своей «безошибочности». Ошибку допускал он сам, не сказавшись пришедшим и наивно полагая, что, промолчав, окажет дружескую услугу хозяину кельи. Ему пришла в голову, как ему показалось, великолепная идея – поехать туда, куда его повезут, выяснить, в чем там дело и предупредить своего товарища. Он не сомневался, что как только ошибка соблюдатаев выяснится, его самого тут же отпустят. Но это было заблуждением, которое в иных обстоятельствах могло оказаться и роковым – Вернописец Храбър совершенно упустил из виду, что оттуда никого не выпускали. Каждый, кто туда попадал, считал это недоразумением, которое тут же разъяснится, в котором тут же разберутся, и действительно, разбирательство много времени не занимало, но независимо от его результатов каждому подбирали какое-нибудь дело, и волей-неволей приходилось на определенный срок здесь задерживаться. Вообще-то если разобраться, это было вполне логично, что оттуда никого не выпускали – ни правого, ни виноватого, ибо каждый виноватый всегда в чём-то прав, а каждый правый в чём-то виноват. Кроме того, выпустив кого-либо, тем самым признали бы, что берут и невинных, а это уж совсем было бы несолидным для такой солидной организации, как Служба Анализа Моральной Чистоты Магистрата по Соблюдению, или сокращенно – САнМоЧи. Но к счастью Вернописца Храбъра в последние три года соблюдатаи особой активности не проявляли, вследствие чего правословные успели подрастерять нажитые ими не за один год чувства осторожности и безропотности. Последнее в былые времена было у них настолько развито, что при здравом размышлении совершенно не поддавалось объяснению, почему соблюдатаи приходили исключительно по ночам – утром же всё равно всё станет известно, а помех им и днем бы никто не чинил – ну, припомните сами, разве был хоть один случай, чтобы кто-то за кого-то вступился, уж не говоря о том, чтобы броситься отбивать?.. Словом, нынешний ночной визит никаких роковых последствий для Вернописца Храбъра не поимел, и даже как бы напротив.
Когда он в сопровождении соблюдатаев вышел на улицу, то не увидел у подъезда ни черной легковой, ни зеленой бортовой, ни кургузого фургона: перед домом стоял шикарный экскурсионно-туристский автобус – длинный прямых линий и углов стандартно-вишневый шоссейный пульман. Единственно что в нем бросалось в глаза – окна-зеркала золотистого цвета, не дающие возможности заглянуть внутрь салона. Даже теперь, когда вокруг было темно, а в автобусе горел свет, там не читалось ни одного силуэта. А между тем, почти все места в автобусе оказались занятыми довольно странной публикой – сплошь бородатыми мужчинами преклонного возраста и дамами, навевавшими своими прическами и одеяниями воспоминания о модных ревю начала века… Зеркальность окон носила односторонний характер – из автобуса прекрасно виделось всё, что делалось снаружи.
Покружив по улицам и собрав всех, очевидно, заранее намеченных пассажиров, автобус рванул – уже без остановок – к центру города, причем все светофоры на его пути как-то сами собой, словно по его команде, тут же включали зеленый свет. По мере приближения к центру улицы всё гуще и плотней были забиты туманом, и когда переезжали мост через реку, навстречу уже валили сплошные клубящиеся облака.
Автобус взбежал на прибрежный холм, резко сбавил ход и остановился. Все вышли и в сопровождении соблюдатаев направились на Главную площадь, к которой вел мощенный гранитом довольно крутой подъем. Здесь туман был чуть реже, и по мере того, как они приближались к центру площади, навстречу им из белой мерцающей мглы выплывала красной глыбой Священная Усыпальница Вечного Идеала Угнетаемого Люда. Когда они подошли к ней вплотную, их развернули в полукольцо и попросили несколько минут подождать, не сходя со своих мест и соблюдая полную тишину.
Пытаясь понять, что бы всё это значило, Вернописец Храбър стал оглядываться во все стороны в надежде, что какие-нибудь приметы помогут ему открыть причину столь странного приглашения в столь неподходящее для этого места время. Но взгляд его все время упирался в плотную стену тумана, скрывшего края площади – только самый центр ее оставался доступным глазу. Казалось, что площадь накрыли серебристо-матовым шатром, прибив края его полога к камням мостовой стальными гвоздиками – шляпки их синевато отсвечивали в лучах ярких прожекторных ламп – то были голубые фуражки соблюдатаев Службы Анализа Моральной Чистоты.
Кроме самой Усыпальницы в пространство, оцепленное туманом и соблюдатаями, вместились стоящие полукольцом люди, привезенные сюда на зеркальном автобусе, кусок возвышающейся за Усыпальницей кирпичной стены, несколько серебрящихся в прожекторном свете голубых елей, упершийся в землю витыми лапами большой автокран, какие-то похожие на компрессоры машины, сгрудившиеся вокруг свежеотрытой прямоугольной ямы, возле которой были свалены кирки, лопаты, бухта толстой веревки… Все эти предметы никак не вязались со строгой торжественностью этого священного места. Но особенно странным Вернописцу Храбъру показалось совершенно необычное обстоятельство: стражи, охранявшие врата Священной усыпальницы сейчас стояли не как всегда – лицом друг к другу, а оба были повернуты к площади. Да и врата, обычно чуть приоткрытые, теперь оказались плотно затворенными. Он еще не успел сообразить, что бы это все могло значить, как вдруг врата Усыпальницы широко распахнулись, и на пороге показался кряжистый, напоминающий своим обличьем набычившегося бизона шароголовый человек. За его спиной сгрудились какие-то разномастные фигуры: – Свита, – догадался Вернописец Храбър.
Шароголовый энергично шагнул вперед и тут же заговорил, обойдясь безо всякого обращения:
– Мы собрали вас сюда, чтобы сделать свидетелями исторического события. Все вы, отменно верующие старого закала, близко знали Вечного Идеала Угнетаемого Люда, но вас лишили возможности узнать его последнюю волю, и потому вы полагали его законным преемником Экзарха по делам разноплеменностей преподобного Иосафа-ака и благословили его на правление нами, которое длилось целые четверть века с небольшим гаком, но с большим уроном, как это удалось теперь выяснить, для святого дела Правословия, и с огромным опустошением рядов нашей паствы. Мы наивно поверили тогда его словам, что берет он на себя руководство именно потому, что руководить, значит предвидеть, а дар предвидения он открыл в себе еще смолоду. И вот теперь мы увидели, что он такого наруководил, чего предвидеть было совершенно невозможно. Его руководство стоило нам стольких невинных жертв, что число их в точности не поддается установлению. Даже по предварительным подсчетам выходит, что за четверть века своего правления Иосаф-ака – основоположник, вдохновитель, организатор и руководитель почти поголовного репрессанса уничтожил людей больше, нежели пожгла на кострах и умертвила всеми известными человечеству примитивными способами за девять веков вся святая Инквизиция и прочая мракобесия во всех странах, поклоняющихся Христу…
– Мы глубоко сожалеем, продолжал Шароголовый, – что в ослеплении своем и страхе перед фанатичным почитанием со стороны широких правословных масс, которому мы не сумели своевременно воспрепятствовать, хотя уже и знали о многих злодействах Иосафа-ака, и о головокружениях от успехов, коих на самом деле не существовало, мы, все-таки поместили его останки в Священную Усыпальницу Вечного Идеала Угнетаемого Люда, осквернив, как мы поняли, святая святых Святилища. И вот теперь, убедившись в необходимости исправить свою ошибку, мы постановили: – Иосафа-ака из Священной Усыпальницы убрать. Нам еще предстоит сделать немалые выводы из всей этой истории, а пока мы поручаем вам уже завтра утром понести в приходы благую весть о выселении Иосафа-ака из этого святого места и о его полной деканонизации, сохранив, разумеется, в тайне детали и подробности данной процедуры. Мы решили сделать это гласно, но не многолюдно, дабы не допустить такой же кошмарной ходынки, каковая произошла в дни необдуманного обряда подселения… С вашей помощью какая-то часть правословных уже будет подготовлена, а остальные узнают всё завтра же вечером, когда мы объявим о решении Синодального Веча по каналам всеобщего осведомления. Как говорится, лучше поздно, чем никогда, и как бы там ни было, отныне в Священной Усыпальнице будет находиться только один всем нам дорогой прах! Один во веки веков! Аминь!!!
И не успело затихнуть характерное для этой площади многократное эхо последних слов Шароголового, как тут же послышался протяжный и глубокий вздох облегчения. Вернописец Храбър так и не понял, откуда этот вздох исходил – то ли из открытых врат Усыпальницы, то ли из уст стоящих рядом с ним людей, то ли из его собственной груди. Да он и не успел об этом подумать, потому что Шароголовый поднял руку, призывая к вниманию, и продолжил, казалось бы, оконченную речь:
– Если вы спросите, а где мы были раньше, то мы могли бы вам ответить – а вы? Вы ведь всегда были наиболее сознательной частью правословных старейшин? Но мы понимаем, что попробуй кто-то из вас, или из нас раскрыть рот, и сказать, что тут что-то не так, то с нами поступили бы как и с подвижниками первого поколения, пытавшимися отстаивать божественную истину в научных спорах или экономических дискуссиях. Да простит им бог их святую наивность и их веру в благородное начало Светлого Дела Вселенского Гумманизма, продолжению которого не было суждено развиваться в провозглашенном направлении. Да и можно ли их или нас винить, раз сам Господь Бог не настолько силен, чтобы предотвратить или даже несколько умерить козни нечистых сил – а именно с ними и столкнулось Правословие на указанном нами отрезке его истории… Думаете, мы сами не терпели от тирана, но не достань у нас терпения, всем нам сел бы на голову не менее страшный злодей, которого мы к счастью успели ликвидировать… Мне вот лично доставалось даже больше, чем всем остальным, потому что Иосаф-ака, кроме обычных для всех притеснений, заставлял меня все время к месту и не к месту танцевать гопака…
Шароголовый сделал небольшую паузу и вдруг резко, с явным вызовом выкрикнул: – Гоп, Ака!
И тут же свита его расступилась, сам он отпрянул в сторону, и в широком проёме врат Усыпальницы показался хрустальный саркофаг Святейшего Иосафа-ака, несомый дюжиной рослых голубых. Следом был вынесен самый обычный, ничем не обитый простой дощатый гроб, правда, со вставленным там, где полагается быть лицу покойника, стеклом-окошком. Рядом с большим и просторным сверкающим саркофагом деревянный ящик этот показался ужасно убогим и тесным, и Вернописец Храбър в первый момент даже не успел сообразить, зачем его им показывают, да он и вообще ничего не успел сообразить, потому что к вышедшим тут же подскочили другие голубые и в мгновение ока содрали крышки и с гроба, и с саркофага, и в ту же секунду раздалась команда Шароголового: – Гоп, Ака!
И тело Святейшего покойника словно предмет по мановению ловкого фокусника исчезло из саркофага, и тут же обнаружилось в дощатом гробу. Скорость и лихость, с которыми это было проделано, наводили на мысль, о предварительной тренировке.
Голубые осторожно и аккуратно поставили сверкающий саркофаг у входа в Усыпальницу, а дощатый ящик отнесли к яме, где опустили на отвал земли, приладив таким образом, чтобы он был наклонен к присутствующим. Через стекло-оконце можно было видеть одно только лицо выселенца – поникшие усы, желтую, побитую оспинами кожу щек и лба, крупный чуть тяжеловатый для этого лица нос. Вернописец Храбър с удивлением отметил, что Тирранниссимус – а и такое звание кроме прочих носил при жизни Иосаф-ака – очень хорошо сохранился в бальзамации и почти не отличается от того, каким он видел его в гробу три года назад. По иному выглядел теперь только сам гроб – тот, первый, был торжественно-траурен, обит шикарным знаменным бархатом и сверху имел выпуклый большой, почти самолетный блистер – через него лицо Иосафа-ака виделось значительно более крупным, чем оно было на самом деле – магнетизм его величия был столь велик, что вчерашние верноподданные и в смерти старались выдержать его на том же преувеличении, на котором держали уже многие годы. А нужда в этом определенно имелась – дело в том, что Иосаф-ака по странному совпадению как и большинство других диктаторов, не вышел ростом и фигурой был, прямо скажем, мелковат. Может быть, тут и крылось его устремление пробиваться к верховной власти – коротышки, как известно, вообще подвержены известным комплексам, так сказать, закомплексованы на своем росте и чувствуют себя если и не обездоленными, то, во всяком случае, несколько обойденными судьбой. И если одни из них смиряются с этим, как с некой неизбежностью, а некоторые даже относятся к этому с юмором и берут реванш за счет роста духовного, то иные, у которых чувство юмора может распространяться на что угодно, кроме своего Я, стараются отыграться на всем остальном более-менее рослом человечестве, заставляя его пригибаться настолько, что у того остаются перед глазами разве только ноги укороченного повелителя. Правда, в то время, как сей Иосаф-ака приходил к власти и в ней утверждался, термина «комплекс неполноценности» еще не придумали, хотя явление это, как таковое, разумеется, существовало, и движимый им восходящий властитель первым делом убирал из своего окружения всех тех, кто был на две головы или даже на одну выше его, либо отправив их так далеко, где их никто не мог увидеть, либо лишив этого преимущества. И в конце концов вокруг него остались только те, кто был с ним равным по сантиметражу, потому что иначе бы он остался в полном одиночестве – подобрать окружение из людей еще меньшего роста, чем он сам, было просто невозможно – среди взрослых мужчин таковых практически почти не существовало.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.