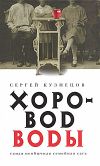Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
– Куда же он поехал? – спросил я.
– Да направился к абадзехам, горы большие, – сказал Иванов. – А скоро всех прочих князей шапсуги повыгоняли, и начались лютые ненависти. Право, революция-с. И француз налицо. Бабой началось – французом закончилось. Экая басня.
– И какая была его судьба?
– А бог его знает какая, – зевнул мой майор, – какая-нибудь была, надо думать. А впрочем, всё это так-с, легенда. Француз вот – тот да. Да что говорить – на моей памяти в двадцать девятом году из Петербурга иноземцев навезли Эльборус изучать. Ну, долго ли до греха? Удивительно, конечно, но и только…
– Как, однако, вы подробно знаете, – заметил я.
Петр Африканыч посмотрел на меня устало и ответил:
– Здесь все про всех всё знают, а если чего не знают, так того и знать не надобно. Понимаете?
Я понимал.
* * *
Потянулось время ожидания. Я уже не находил себе места, то и дело донимая расспросами Иванова, который сам знал не более моего, когда как-то вечером шапсуги, пригонявшие в станицу баранов на продажу, шепнули майору, что видели Салма-хана – так прозывался наш разведчик – не далее как вчера в ауле Чорчок. Аул был мирной. Ночью мы оседлали лошадей и без конвоя отправились на встречу. Миновали последние посты и вышли к Кубани.
– Вот эта разлюбезная могила, – плеткой указал Иванов в темноту направо. Я напряг зрение и впрямь увидал завалившийся массивный крест, врытый в невысокий холмик. При себе имели мы бурдюки для переправы. Мы закрепили их и минут через десять уже сушились на другом берегу. Ночью вода оказалась не слишком холодна, лошади тихонько отфыркивались, ударяя нас по физиономиям прядями мокрой гривы. Признаюсь, на чужой земле я испытал легкое волнение, и порох временами сыпался на землю с полки моего ружья, которое держал я наготове. Петр Африканыч, напротив, был спокойней штиля и тихонько разгонял плеткой назойливых комаров. Через часа два езды в кромешной темноте где-то сбоку послышался собачий лай, тропа круто повернула, и из кустов появилась фигура всадника в бурке. Раздался гортанный говор, Иванов отвечал довольно бойко. Незнакомец повернул коня, и мы уже скорее пустились за ним, увертываясь от веток сухого карагача, во многих местах перегородивших путь. Наконец мы увидели перед собой сакли, тесно лепившиеся к склону горы. Собаки нас учуяли и отчаянно заливались. Иванов сделал мне знак, и я спрятал ружье в чехол. Мы спешились вслед за проводником у крайнего строения, миновали низенькую дверцу в невысокой глухой стене, прошли узкий дворик и очутились в кунацкой – комнате с низким потолком, очагом, дымившим пo-черному, и лежанками, покрытыми двумя-тремя пестрыми коврами. На стенах в отменном порядке развешано было самое разное оружие: от кинжалов до ружей. Некоторые образцы показались мне очень дорогими и старинными. У очага, устроенного из прокопченных необитых камней, возлежал на войлоке тот самый джигит, который приезжал в крепость прошлым месяцем. Бритая его голова заметно отличалась белизною от дочерна смуглого лица, на котором по-прежнему хищно блистали два огненных глаза. При виде нас он приподнялся, мы приветствовались и уселись вкруг огня на указанные нам места. Салма-хан и Иванов повели неспешную беседу, из которой не понимал я ни слова; проводник наш извлек из ножен свою шашку и гладил ее об камень, раскачиваясь корпусом в такт едва слышной мелодии, которую напевал горлом, с плотно закрытыми губами. Я с любопытством озирался, однако не слишком открыто, жуя кусок отлично прожаренной баранины и жадно вдыхая незнакомые запахи азиатского жилища. Салма-хан то и дело подкладывал на огонь сухих веток – они жарко вспыхивали, трещали, снедаемые пламенем, которое бросало на лица собеседников багровые мазки. Российские виды остались в уме почти неосязаемым воспоминанием, и я, прислушиваясь к треску огня и волнующим звукам чужого наречия, ощутил, как осторожно ворошилась мысль в голове. Когда был я ребенком, то думал, конечно, повидать мир; я разглядывал с гувернером гравюры во французских книгах и ожидал, что когда-нибудь и увижу то, что они изображали. Но вот сижу я в предгорьях седых вершин, в одном из диких углов нашего мира, в обществе непонятных мне людей, не знающих, что такое почтовая карета и гальванизм, и с которыми веду я войну в соответствии с непреложным велением неведомого мне исторического закона. Мне казалось, что я если не сплю, то по крайней мере грежу наяву. Откуда-то из обманчивого далека окликал меня наш сложный мир, усовершенствованный мелочными страстями, мучительными условностями и тротуарами для пешеходов. В шорохе же этого огня, возмущаемого лишь неуловимым ветерком из туманного ущелья, который принял меня на минуту под свое покровительство, не было суеты – он был прост, и велик, и мудр в своей простоте, как был тысячу лет назад и каким быть ему до тех пор, пока рота-другая солдат не затопчет его животворящие языки подошвами своих сапог, произведенных на мануфактуре близ блестящего Петербурга.
Мы распрощались под утро, когда черная кайма гор упрямо оттолкнулась от светлеющего неба. Версты две давешний наездник нас сопроводил, далее мы уже сами находили направление. Я с нетерпением ожидал, когда Иванов передаст мне плоды своего разговора с Салма-ханом. Иванов выглядел угрюмым и мрачным.
– Нечем, увы, мне порадовать вас, – наконец объявил он. – Салма-хан таскался аж через хребет к побережью, кое-что узнал, но на след так и не напал. Говорит, пленные достались дальней шайке, которая тогда к Джембулату случайно примкнула. А черт знает, сколько их шляется по горам. Он думает, что продали их убыхам. Эти приторговывают людьми. Вряд ли иначе, я и сам так думаю. Слишком уж далеко.
– Кому же продают они их?
– Туркам, кому же. Турки иногда подходят на галерах к побережью, ну и забирают, так сказать, товар.
– Там же наши корабли, – возразил я.
– Кораблей-то всего – две шхуны в Геленджике, а эскадра вся в Крыму. Мало ли на берегу пустынных мест?
Всю оставшуюся дорогу терзал я моего спутника расспросами – надежда не умирала во мне, тем более, что Иванов сказал, что пленных могли поменять в одном из прибрежных укреплений. Мрачнее мрачного взошел я в свою мазанку, обругал ни за что стоявшего тогда при мне за денщика линейного казака и заснул злой и голодный. Вечером ко мне заглянул Иванов.
– А помните давешнюю историю? – начал он, усмехаясь, – ведь всё так и было, – довольно сообщил он. – Салма-хан кое-где меня поправил. Вот что получается: и точно бей-Султан тогда анапского пашу ограбил. И француза захватил. А у этого француза была якобы такая книга старинная, где будто все события и происшествия в мире указаны, и те, что были, и те, что только еще имеют случиться. Каково, сударь мой? Уж такая книга волшебная. Паша послал в горы, стал требовать книгу назад, бей-Султан не схотел отдать. Паша рассердился и перестал черкесов в город пускать торговать, сам аманатов задержал, а если не отдали бы эту книгу, то грозил шапсугам не шутя разорить их аулы. Что за книга такая, не возьму в толк? – вздохнул Петр Африканыч.
– Зачем обратно нужна была книга этому глупому паше? – заметил я. – Если он ею владел, то уж мог бы там прочесть самое для себя интересное.
– Да что же? – спросил он.
– А то, что в 1828 году он перестанет быть анапским пашой.
– Ах, верно, – подумав, рассмеялся майор. – Старшины подступили к бей-Султану, чтобы он вернул книгу, но уж, видно, и впрямь книга была дороже дорогого, потому что не послушал князь своих и тайно ушел к абадзехам в Лагонаки. Что за дьявол, – развел руками Иванов, – что так, что эдак – сплошные небылицы. Вот вас смею спросить, вы-то человек не без образования, как рассудите? Может ли быть этакая чудесная книга?
Расстроенный нашим неудачным предприятием, я слушал Иванова не слишком прилежно.
– Помилуйте, Петр Африканыч, – раздраженно отвечал я, – ведь это сказки.
* * *
Прошел (я бы сказал, прополз) еще месяц. О Невреве никаких известий не поступало. Я то и дело ездил в Прочный Окоп, в Екатериноград, где пытался выведать чего-нибудь через знакомых адъютантов, но они только разводили руками. Зато однажды урядник, возивший почту, вручил мне письмо. Я вскрыл его – оно оказалось из дому. Это было долгожданное послание, но когда вник я в первые строки, в глазах у меня помутилось. Вот что стояло там:
«Дядя твой скончался от холеры в Маноске близ Марселя, во Франции. Тело поместили в свинцовый гроб и доставили в Москву. Положили на Новодевичьем кладбище рядом с твоим отцом. В завещании отписано всё на тебя…» и прочая, и прочая.
Я оплакал эту утрату, просил отпуск, однако не получил его, через три месяца был наконец переведен в Грузию, в Нижегородский драгунский полк, и, обогащая вдову Клико, снова пил шампанское в компании некоторых знакомых мне лиц.
Часть третья
Ранней весной 184… года по московскому тракту на подъездах к Воронежу шибко бежала легкая кибитка. Упряжка выглядела сытой, молодой ямщик в распахнутом нанковом кафтане смотрел весело и то и дело покрикивал на лошадей. Комья черной и мокрой грязи летели из-под копыт в разные стороны, колеса бороздили влажную дорогу. В самой кибитке, закутавшись в шинель, сидел молодой офицер. Усы – привилегия легкой кавалерии. Офицер покусывал ус, подаваясь вперед со своего сиденья и нетерпеливо вглядываясь в горизонт. Это был я. Я спешил домой и больше не мечтал о бобровом гвардейском воротнике. Прошение об отставке было принято благосклонно – отставка была дана следующим чином. Ротмистрский мундир оказался мне к лицу, но на пятом году службы я решился перестать обманывать себя. Я смертельно наскучил мычать, вместо того чтобы говорить, дремать настороже, вместо того чтобы спать, и прислушиваться к выстрелам, вместо того чтобы наслаждаться нежным сопрано итальинских скрипок. Я спешил домой, облокотившись на два дорожных баула, в которых вез на память всякую кавказскую рухлядь.
Уже когда показалась впереди городская застава, у нас подломилась ось. Ямщик долго чертыхался и, вероятно ожидая, что целая вот-вот свалится с неба, никак не слезал с облучка. Наконец он, проклиная всё, что есть на этом свете, а заодно и то, чего никогда не бывало, спрыгнул в грязь и решительно зашагал на постоялый двор. Становилось прохладно, низкое, серое, вечернее небо еще ближе спускалось к земле. Я плотнее завернулся в шинель и приготовился ждать. Вид вокруг был невеселый: редкие черные деревья нелепо топорщились в небо голыми ветвями, унылые поля тянулись, докуда достигал взгляд. Чуть сбоку у обочины лепились друг к дружке покосившиеся ветхие избенки покинутой деревеньки, робко выглядывая в мир подслеповатыми окошками. На прохудившихся их крышах важно расхаживали грачи и заглядывали в темные прорехи. Я сошел вниз и принялся прохаживаться рядом с кибиткой, поглядывая в ту сторону, куда удалился мой возница. Темнело на глазах. Расположение моего духа изменилось непонятным мне образом. Было тихо, и только рассохшийся журавль у колодца жалобно поскрипывал под неторопливым ветром.
Мне вспомнилось прошлое, как пять лет назад мчал меня угрюмый рябой фельдъегерь к новой жизни. Новой, однако, она оставалась совсем недолго, и уже давно не улавливал я в ее дыхании таинственного размера. Я снял ногу с приступки колодца, медленно пошел вперед и встал на перекрестке. Две черные ленты разлетелись в разные стороны горизонта. Я вспомнил Неврева, мне сделалось грустно… Воображение нарисовало мне грубый непокрытый стол, заставленный посудой. Неосторожная кошка гибким хвостом задевает маленькую склянку, она летит с полки, увлекая за собой прочие предметы, те опрокидывают следующие. Так случается лавина в горах. Кувшины, чашки, блюдца и туесы упадают на пол, звеня и подпрыгивая, и если один сосуд опытная рука кухарки подымает и водворяет на место, то другой разбивается вдребезги, а жидкость, которой он был полон, неторопливой струей сочится в щели между половиц, и где высыхает последняя капля – бог весть.
Я еще раз хмуро огляделся. Показался ямщик, волочивший новую ось. Прошло еще с полчаса, пока она была установлена. Наконец я уселся и спрятал было лицо в ворот.
– Трещим, – сказал я громко, вдруг заметив, что левый рукав отстает от плеча, – трещим по швам.
– Чего, ваше благородие? – обернулся ямщик, перепачканный грязью.
– Да нет, братец, это я так. Трогай.
Щелкнул кнут. Я бросил прощальный взгляд в сумрачное поле, где уже вовсю хозяйничал ветер. Наверное, наши огромные пространства сосредотачиваются в нас, и шальные мысли наши носятся по их голым просторам, не имея пристанища. Я почему-то подумал об отце, которого вообще помнил неважно. Так и он свел свою недолгую жизнь к вопросу: убьет ли бубновый валет девятку в рексе, на третьем круге? Лошади побежали быстрее. Было грустно до сладости, как бывает только тогда, когда мы можем позволить себе порцию тоски заместо пиявок.
* * *
Одно из величайших счастий мужчины – вернуться домой из действующей армии. Я словно родился заново, перетрогал все вещи в московском доме, часами просиживал с матушкой на веранде и засыпал где попало под любопытные взгляды возбужденной дворни.
Настало время побывать и в Петербурге. С каким неописуемым чувством взошел я в пустой дядин дом, который был уже моим собственным. Дом содержался в отменном порядке, все люди по завещанию оставались на своих местах, но горе дарило меня впечатлением, что холодный ветер гуляет здесь, хлопает растворенными окнами и гоняет по потускневшему паркету обрывки обоев. Федор сильно постарел, стал плохо видеть и всё плакал, норовя обнять меня морщинистыми красными руками. Я и сам порою ронял слезу в его объятьях.
Я облачился в тот самый сюртук, что, бывало, мозолил глаза бедному дяде, и поживал себе, наслаждаясь покоем и новизной. На следующий же день после моего прибытия снизу донеслись голоса, необычайно громкие для дядиного дома. Им вторил бойкий стук торопливых шагов. Я вышел на шум и в следующую секунду увидал перед собой Николеньку Лихачева. Мы расцеловались и предались общению. Впрочем, это был еще Лихачев, но уже не Николенька. Из восторженного юноши Николенька необратимо превратился в изрядно располневшего надворного советника, с строгим взглядом и Анной на шее. Мы говорили и всё не могли наговориться. Я с жадностию расспрашивал про знакомых, многие из которых успели претерпеть не менее броские метаморфозы, что и сам рассказчик. Из столовой мы перебрались в диванную, а там к камину, где крепкие сосновые поленья разгоняли весеннюю промозглость. Вот что между прочим поведал мне мой друг:
– А помнишь ли ты Helen Сурневу, с которой был короток этот твой приятель… как бишь его?
– Неврев.
– Именно. Всех не упомнишь.
– Ну, еще бы, – слегка трунил я, – в департаменте, верно, пропасть дел.
Он вздохнул.
– Жаль беднягу. Ну да ладно. Я о Сурневой расскажу тебе. Это â propos история, – он взмахнул руками и повернулся в креслах. – Она была за неким Постниковым. Он полный генерал, по квартирмейстерской части. Откуда выплыл – не знаю. В сущности, это молодящаяся развалина, подточенная пороками, – Николенька захихикал. – Были, конечно, пересуды вокруг этой пары – слишком уже рельефно, так сказать, выступало нижнее белье. Я бы даже сказал, кальсоны жениха из-под форменных панталон. Однако, – протянул Николенька, надувая губы, – за ним чуть не тысяча душ, да и прочий доход. Хм, хм. Да-с. Так вот, – мой приятель весь подался вперед, налегая на подлокотники, – во время последней кампании Постников делал провиантскую поставку. Вообрази, – Николенька загадочно растягивал слова, – генерал, назначенный лично государем, уличается в таких недоимках, в таком немыслимом лиходействе, что командиры полков, которые готовы уже были дать, лишь бы получить, сообщают по команде. Назначается следствие, министр Киселев, который выступал на свадьбе шафером со стороны жениха, является в свете еле жив, бледный, как то полотно, что так Постникову полюбилось. Одним словом, скандал вышел – скандалище! Постников был вызван к государю, после чего отставлен от службы и сослан в ту деревеньку, которая одна у него осталась. Остальное забрали в казну. Ну, топ ami, ты можешь себе представить состояние родни! – Николенька то и дело нервически оглядывался и прыскал в пухлый кулачок. – Отец Helen припадает к стопам государя и умоляет не позорить его седины и ордена, просит позволить развод. Мать о том же молит императрицу. Все связи были пушены в ход. Но они и не надобны были – государь был так разгневан, что тут же выходит Синоду указ и – пф-ф… любовь снова возвращается на исходные позиции. Helen долго не выезжала, а нынче и вовсе в деревню скрылась от людских глаз. Отец ее, хотя и слезно благодарил государя за оказанное благодеяние, а все не вынес старик унижения – отошел прошлый год на Пасху. Ага? – Николенька победно взглянул на меня и откинулся на спинку. – Проворовался, по-русски это называется.
– Да, однако… это… того, – только и вымолвил я, уставившись в его мальчишески озорные глаза.
– То-то и оно, – ответил он, – все обомлели. Ай, ай, ай, – он прищурился и погрозил мне пальцем, унизанным перстнями, – Фемида или как ее… Немезида… ха-ха-ха, просыпается иногда старая кляча – вот что я хочу сказать.
Я молчал. Воспоминания встали передо мной и весьма отчетливо проговорили свои имена. «Бедняк, бедняк, – думал я о Невреве, – как славно, что никогда ты не узнаешь об этом».
Николенька ушел со светом.
* * *
Много перевидал я знакомых, пил пунш в обществе университетских приятелей, часть из которых успели обзавестись семьями, чинами и заботами; иные же, напротив, встретили в жизни более жестокого соперника, а кое-кого уже и вовсе не было на этом свете. Вечера я проводил в ярко освещенных гостиных. Поначалу я не мог нарадоваться на эту статскую привольную новизну собственного существования, но мало-помалу светские развлечения наскучили мне. Я стал тяготиться бессмысленными партикулярными беседами с иными красавицами, которые ничего не дают ни сердцу, ни уму. Мне вдруг показалось, что и с друзьями все давным-давно переговорено. Лишний прожитый год добавлял тяжести грузу воспоминаний, и всё больше слов оседали внутри, так и не добираясь до гортани. Те же, которые всё-таки успевали пройти этот путь, усаживались на кончик языка и ничего не значили. Всё настойчивей отдавался я самым незатейливым удовольствиям, как-то: сидение с трубкой у окна, растворенного в сад, лежание на диване, хождение с утра до вечера в длинном халате и всё в таком духе. Я наслаждался покоем, но подыскивал себе занятие, достойное моего прекрасного халата и замечательной трубки.
Наконец я выехал из опустевшего Петербурга в Москву. Но и там оказалось немногим занятней. Однажды, когда безделье уже совсем нагло напомнило о себе, я принял оригинальное решение – отправиться в деревню, навестить нашу подмосковную, места моего детства, которые не видел я уж добрых семь лет. Матушка этим летом не выезжала из Москвы, и мысль моя пришлась ей по душе. Очень кстати требовалось отдать кое-какие распоряжения по хозяйству. Сборы мои были недолги, а их результаты уместились в небольшом дорожном сундучке. Кроме книг я не вез с собой почти ничего. Я представлял себе прелести деревенской жизни, выгоды лета, куст сирени, влезающий в самое окно, и в ожидании дня отъезда засыпал во власти сих очаровательных фантомов. Свободен я был вполне и не думал, когда быть обратно. Деревенской скуки, которой запугивал меня Николенька, я не страшился – к ней прибегал я как к целительному средству от скуки городской, а поэтому ничуть не подвергал себя риску превратиться в одного из тех несчастных, о которых сказано хотя и обидно, но не зло:
День настал – я отправился в дядиной коляске. Есть люди, думал я, весь смысл жизни для которых составляет сокрытие его. Право, как змея, которая кусает за хвост сама себя.
* * *
Подмосковная наша – не совсем подмосковная, или подмосковная не в прямом смысле. Отстоит она от Москвы на значительное расстояние и находится уже в Калужской губернии. Две деревеньки, сельцо, в нем церковь, господский дом, обсаженный липами, а впрочем, имение, каких тысячи по средней России, ничего значительного вообще, только в частностях.
Я добирался весь день с остановками, ночевать на постоялом дворе не остался – лошади отдохнули и мы пустились дальше. Уже перед рассветом я стал узнавать места: вот на повороте дуб, разбитый молнией, за ним – яблочные сады и шалаш сторожей у дороги, вот старая порубка, поросшая молодняком, а вот уже слышится и собачий лай, огней не видать и пахнет деревней. А вот в конце концов и аллея разросшихся лип. Коляска встала у крыльца – я вышел и огляделся. В темных окнах замелькала свечка, несколько времени за дверьми происходила понятная возня, потом они раскрылись широко, и на пороге увидал я управляющего Трофима. Старик был замотан в цветастую шаль, долго на меня щурился, не узнавая, а когда признал, бросился целовать руку, засуетился, запричитал и выкрикнул петушиным стариковским фальцетом в глубину дома:
– Барин, барин молодой приехали.
Поднялся переполох, который создавали главным образом сам Трофим, кухарка Анфиса, да две сенные девушки, думавшие, что приехала мамаша. Лошадей увели, коляску поставили, я вслед за Трофимом шагнул в темноту, то и дело упираясь в его согбенную спину.
– Сейчас, сейчас, покушать с дороги, – приговаривал он и кричал, не оборачиваясь, Анфисе: – Покушать, покушать барину.
Принесли свечей. Я бродил за стариком по комнатам, вдыхая нежилой их запах.
– Всё в полном порядке содержится, извольте взглянуть.
– Да полноте, верю, – с улыбкой отвечал я. – Ты мне укажи, где спать, а там видно будет. Что, жив ли Силантий?
Силантий был бобыль охотник, с которым в компании провел я немало часов в засадах у силков. Он вырезывал мне свистульки из орешника, которые затем отбирал у меня с негодованием гувернер Брольи, но не без любопытства поднося их к самому своему птичьему носу.
– Савелий, слава богу, жив, – перекрестился старик, – только вот хворал больно прошлым годом на масленицу. Застудился, должно.
Перекрестился и я. Когда вошли мы, наконец, в комнату, служившую некогда детской, постель была постлана и переложена душистыми травами.
– Быстро, – удивился я.
Старику понравилось мое замечание. Он улыбнулся лукаво и украдкой:
– Как же по-другому, батюшка. Уж в кои-то веки…
– Да, да, – заговорил я. – Иди скажи, чтобы не готовили, есть не буду я, а квасу пускай принесут.
– Тотчас, – взметнулся старик. – Мятного?
Через несколько минут я лежал в кровати, напряженно вслушиваясь в звуки нового места. Белье дышало прохладой и свежестью, подушки горою высились в изголовье – я обложился ими с усмешкой и скоро уснул.
* * *
Проснувшись, не вдруг сообразил я, где нахожусь. Солнце высоко стояло уже в небе, наполняя комнату шаловливыми бликами. Я с наслаждением осматривал желтые выцветшие обои, чей узор с самого детства навсегда врезался мне в память. Потом напился кофею со сливками и отправился осматривать свои владения. Сделав несколько шагов по тенистой аллее, я оглянулся на дом. Дом сильно пострадал в двенадцатом году – в нем пережидал стужу отряд итальянской кавалерии. Солдаты разжигали огонь прямо на паркете, который за два десятилетия перед тем выкладывали их соотечественники, выписанные покойным дедом из Милана. Сторы и занавеси шли на плащи бравым кавалеристам, золоченые картинные рамы – на растопку, заодно с самими полотнами, посуда была разграблена, а диваны и кресла вспороты – солдаты искали клад. Клада они не нашли, зато снискали себе ненависть наших крестьян, которыми и были частью перебиты, частью же перемерзли в заснеженном лесу без провианта и огня. Рассказывали, что по весне крестьянские девушки наткнулись на десяток смерзшихся трупов. Мужики оттащили их баграми и хотели было сбросить в речку, но наш священник отец Серафим прознал про то, и крестьяне под страхом анафемы вырыли на окраине села большую яму, куда и сложили без разбору чернявых неаполитанских рыбаков, не в добрый час променявших весла на сабли, а баркасы – на андалузских жеребцов. Впечатлительный старик священник сам взялся за лопату и собственноручно выравнивал березовый крест, на котором впоследствии по просьбе моих родителей Брольи надписал следующую эпитафию:
«Пришли, увидели, но никому не рассказали».
Целый день бродил я в усадьбе и вокруг нее, а вечером пил чай из самовара, начищенного так, что больно было смотреть. Так и началось мое деревенское существование. Дни отчаянно и незаметно убегали в прошлое, а между тем я ничего не делал. Я хочу сказать, что ничего не читал, не таскался с ружьем и ягдташем по окрестным полям, не погружался с головою в земледельческую премудрость и не пил пунша с соседями, хотя и сделал визиты некоторым из них в строгом соответствии с древним обычаем. Они взирали на меня разом и с уважением, и с жалостью: с уважением – потому что я был столичный житель, с жалостью – по той же причине, ибо простодушные эти люди полагали, что моя врожденная бледность есть прямое следствие неумеренного чтения газет. Поначалу это изумило и развеселило меня, а потом я задумался – кто знает, может быть, они и правы, эти ревнивцы псовой охоты и располневших дочек. Как-то раз я сидел у себя, когда в дверь постучали. Явился Трофим.
– Что́ тебе? – спросил я через плечо.
Он мялся и не отвечал. Я повернулся удивленно:
– Что же ты молчишь?
– Я, батюшка, по поводу тяжбы… Какие изволите дать распоряжения? Мужички волнуются…
– Ах, да, – вспомнил я. – Матушка говорила мне что-то.
У нас в то время производилась тяжба из-за большого луга, который составлял для моих крестьян значительное подспорье при покосе.
– Как фамилия… ну, того, с кем мы судимся? – спросил я.
– Сурнева Алексея Ильича покойного вдова, батюшка, – назвал Трофим.
– Сурнева вдова? – переспросил я ошеломленно.
– Его, батюшка, – поклонился Трофим, – того, что из Сурневки, за Парамошкиным лесом.
– Хорошо, я разберусь, – пообещал я и сделал ему знак.
– Да, – закричал я ему вослед, – сами хозяева дома ли?
– Проживают, батюшка, проживают, – сообщил, вернувшись, Трофим, – и прошлым летом видели их, и нынешним.
– Кого – их?
– Старую барыню с дочкой.
– Вот как, – сказал я, – она тоже нынче здесь…
Мне тут же пришел на память рассказ Николеньки Лихачева. Точно, он говорил, что они перебрались в деревню. Эти открытия привели меня в некоторое возбуждение – я велел закладывать. Я собрался тотчас съездить в уезд узнать подробности нашего дела.
* * *
Вернулся я уже в темноте, так ничего толком и не уяснив. В правлении я застал одного только пьяного коллежского регистратора, воевавшего с тараканами. «Бедные твари, – приговаривал он, всхлипывая, и хлопал их папкой для бумаг, – разве ж виноваты они, что тараканами вот родились?» Он смахивал рукавом пьяные слезы, тяжко вздыхал и снова принимался давить насекомых со словами: «Ну, да и я не виноват, что человеком уродился». Червонца стоило мне добиться от него внимания, но он едва слыхал о моей тяжбе: мол, крестьяне наши и сурневские уже года два как по ночам переставляют метки, отчего на меже иногда происходят кровавые драки, так что исправник то и дело мотается к Сурневым наводить порядок. В общем, дело было темное.
Между тем, присутствие в столь недалеком расстоянии особы, записки которой, помнится, довелось мне подержать в руках, чрезвычайно расшевелило мое любопытство. Мне страсть хотелось взглянуть на нее, но вместе с тем ее имя напоминало мне несчастного Неврева, которого образ время понемногу успело исторгнуть из моей памяти. Не долго думая, следующим же утром я натянул новые лайковые перчатки, подвязал галстух, вооружился щегольской тросточкой и сел в коляску. Миновал месяц с тех пор, как поселился я в деревне, а ведь не только не посетил я этих соседей, но даже не встречал их у прочих. Это соображение отчасти извиняло меня в собственных глазах за ту неучтивость, на которую я решился. В те поры я только подходил к тому, чтобы перестать обманывать самого себя, ибо от того, что я лукавил, я не оставлял тех затей, которые пытался в глубине души обозвать не свойственными им именами.
Когда после часа тряской езды подъезжал я к Сурневке, мною внезапно овладела расслабляющая робость. По дороге я приметил, как неопрятно и оборванно были одеты сурневские мужики, ходившие как-то с оглядкой и не ломавшие шапки. Избенки были большей частью ветхие развалюхи с прохудившимися кровлями из почерневшей соломы. Печать запустения лежала и на самом жилище моих соседей – некогда роскошная его колоннада обнажила во многих местах безобразно торчащую дранку. Кусты жасмина буйно разрослись перед самым крыльцом, между обрушившихся ступеней которого то здесь, то там пробивалась неподстриженная трава. «Да, неладно что-то в Датском королевстве», – подумал я, глядя на плотно затворенные окна, смотревшиеся во двор. Никто, однако, не вышел встретить меня и принять лошадей – это мне показалось странно. Несколько минут я простоял у коляски, а потом сделал два-три несмелых шага ко входу. Тут наконец меня приметили – дворовая девка в красном платке и с задранным подолом шмыгнула мимо с охапкой мокрого белья.
– Дома ли господа? – крикнул я ей.
Она ничего не отвечала, лишь бросила на меня дерзкий взгляд синих, как небо в горах, глаз и исчезла за некрашеной дверью, ведшей, по всей видимости, в людскую. Через секунду всё же отворилась дверь парадного и показался старый заспанный лакей, выступавший не слишком твердо. Старик, судя по всему, знавал лучшие времена – вернее, эти времена были знакомы его хозяевам, – ливрея на нем была дорогого сукна, снабженная дряхлыми позументами, из которых годы неудач вытравили всё благочестие цвета, с богатой отделкой под золотые нити, которая полиняла и выцвела от времени. Я назвал себя.
– Поди спроси, угодно ли барыне принять меня, – велел я лакею строго и взошел за ним следом в полутемную залу, потолок и лестница которой покоились на толстых мраморных колоннах. Мебели не было и помину, всё мне показалось довольно пусто. На удивление скоро лакей вернулся и, указав мне на лестницу, проговорил хриплым голосом:
– Пожалуйте, просят.
Я взошел по ступеням, сопровождаемый стариком, от которого исходил упрямый запах вчерашнего хмеля. Он широко распахнул передо мной одну из дверей, выкрашенных когда-то белой краской, и встал за створкой. Просторная комната представилась мне. Высокие окна были занавешены, кресла стояли под чехлами. С одного из них из дальнего угла поднялась мне навстречу невысокая старушка в черном платье, что были в такой моде в окружении Марии Федоровны, и в черном же капоте. Маленькие цепкие ее ручки комкали тоже черный батистовый платок. Я остановился и склонил голову, после чего подошел к ручке. Старушка умильно на меня взирала влажными глазами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.