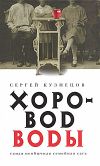Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
«– Оставьте, граф! Право, вы не в своей Польше.
– Ну, – грустно улыбнулся он, – в Польше я давно уже не хозяин».
На Хвови тем временем накинули белую чадру, и было хорошо видно, как она съежилась от прикосновения ткани, навеки отсекавшей ее от милого ей мира. Она походила на маленькую птичку, угодившую в силок к собирателю. Ах, даже я, будь я неладен, проникся в эту минуту чужим горем! Что же до графа, он, понятно, был им пропитан насквозь, хоть выжимай.
* * *
Старики упорствовали, бек, одно имя которого устрашало самых храбрых, свирепел, и уже темные морщины на лицах упрямых стариков пополнились новыми бороздами – кровавыми следами плетки. По мановению руки своего бека двое нукеров спешились и ринулись в башню, где рассчитывали отыскать книги. За собой в ее темные недра они поволокли избитого Тансара. Примерно через полчаса нукеры вышли из башни и швырнули к ногам куртинского жеребца, на котором восседал бек, толстую связку пухлых книг, между почерневшими переплетами которых желтели трубочки обтрепанных на торцах свитков. Падение тяжелых книг взметнуло вверх целый столб пыли, которую на время отдала воздуху пересохшая почва. Однако этот глухой удар не заглушил протяжный стон Тревельяна.
«– Боже мой, какие страсти, – бросил граф, видимо досадующий на себя. – Недаром персидский эпос приписал изобретение письма дьяволу.
Как ни был потрясен оторопевший Густав, в долгу он не остался:
– Равно как и женщину».
В иной обстановке такой ответ, свидетельствующий в пользу моих подозрений, вызвал бы смех – на этот раз дело ограничилось кислыми улыбками, которыми нехотя обменялись мои спутники. Я оценил наблюдательность Тревельяна, однако эти слова и поколебали, качнули весы, на одну чашу которых граф поместил благоразумие, а на другую взгромоздил непотребные желания, способные навсегда увести из мира живущих. Граф быстро сказал что-то переводчику – тот подбежал к старикам – и выступил вперед. Бек приложил к сердцу обе руки и ослепил нас своей улыбкой. Старики, подученные проворным переводчиком и набравшиеся смелости под пристальным взглядом графа, заявили мусульманину, что все священные книги они уже принесли в дар заморскому шаху, чьим нукером и является этот светловолосый человек в красивой и богатой одежде, который должен до захода солнца преподнести этот подарок своему господину, также обладающему красным мундиром. Этим достоинством, непреложным в глазах перса, они наделили посланника Макдональда. Ответ опешившего бека имел мало общего с человеческой речью, а скорее напомнил рыки львов, которые, говорят, и поныне встречаются в узких, как щели, теснинах Загроса. Казалось, задрожали не только люди, но и сами горы, окружавшие селение, и задрожал даже я – не то чтобы от страха, а просто от жгучего желания в ту же секунду очутиться за тридевять земель от этого зловещего средневековья. Граф отвесил изумленному беку почтительный поклон и поднял книги из-под самых лошадиных ног, рискуя своими. Бек невольно натянул поводья и сдержал расходившегося жеребца, а граф призвал из глубин памяти громкие и нескончаемо длинные имена шахских родственников, составляющих кортеж посланца могущественного государя. Бек отступил, погладил бороду, но его гордые глаза высверкнули обещаниями неминуемых бед.
Нукеры давно дожидались в седлах. Еще раз коснувшись груди обеими руками, на пальцах которых мне чудились все аметисты Камбиза, вызывающий блеск которых некогда достигал холмистой Греции и мешал спокойному сну македонских царей, брат женолюбивого Ильнара махнул плеткой. Застоявшиеся кони бешено закружились вокруг повозки, где на постылых коврах неподвижно сидела юная Хвови, всего одной минутой, одним неосторожным словом молвы обращенная в старуху. Скрипя несмазанными колесами, повозка покатилась по дороге, утопая в облаках пыли, поднятой всадниками. И всадники, вскричавшие на своих коней, и сами кони, и повозка – всё утонуло в пыли, а сердце графа утонуло в печали, словно в банке со спиртовыми растворами, составленными лейденскими медиками. Он как заколдованный смотрел вслед удаляющемуся каравану из-под узкого козырька своего шлема, прижав к груди рукописи, заветные для другого.
* * *
Тревельян налетел на графа, как коршун на добычу. Бесцеремонно завладев книгами, он уселся тут же, прямо на иссохшую землю, едва прикрытую пожухлой травой, и, напялив стекла, погрузился в свитки со свойственной ему отчужденностью от веселого солнца, от полной луны.
А Тансар еще не выходил из башни. Граф, выпустив из рук книги, направился к ней. Я последовал за ним. Внутри царил полнейший мрак, и в приоткрытую дверцу глиняного ларца не было видно даже бликов священного огня. Пришлось выйти за факелом. Зороастрийцы, сраженные известием о пропаже огня, устремились за нами. Один из них просунул в дверной проем руку с горящим факелом, и в его багровом свете мы увидели ужасную картину. У оскверненного, затоптанного и политого человеческой мочой очага, привалившись к круглой стене, в луже густой крови лежал Тансар, и пламя потрескивающего факела, легкими переливами скользя по кровавым кляксам, перепрыгнуло в его остановившиеся зрачки. На шее зиял открытый след сабельного удара, и целый сморщенный лоскут кожи свешивался из-под наклоненной головы, падение которой было задержано стеной и плечом. Одна его рука лежала на камнях очага опаленными пальцами – старик спасал свою равнодушную святыню. Один из камней, не скрепленный известью с соседними кирпичами, был повернут в стене, открывая доступ в тайник, из которого и были вынуты манускрипты. Мы могли только догадываться, какая драма разыгралась здесь в то время, когда мы преспокойно стояли снаружи, не услышав ни одного ее звука. Габры в ужасе выскочили на свет – труп у них считается неприкосновенным, и лишь специально обученные люди имеют право произвести захоронение. Женские стенания огласили окрестности башни. Граф вышел с лицом, полностью отданным во власть непреходящей меланхолии. Пока габры, побросав все свои полевые занятия, суетились вокруг, готовя для обряда очищения песок и коровью мочу, пока осторожно извлекали порубленное тело старика Тансара и уносили его на куске материи в сторону погребальных башен, на верхней площадке которых оставляют тело до полного нетления, чтобы оно не соприкасалось с благими творениями – землей, водой и растениями, – граф, заложив руки за спину, задумчиво шагал рядом с навесом, укрывшим наших лошадей, изредка на них поглядывая. Он завел разговор с безутешным древним габром – одним из тех, кто поднимался на гору в предрассветный час. Они оба опустились на корточки, и старик начертал на песке какие-то изогнутые линии. Радовский надолго склонился над этими рисунками, оказавшимися импровизированной картой, и время от времени поглядывал на солнце. Моя тень черной тучей накрыла этот маленький мирок. Граф, сняв перчатку, положил камушек на пересечение двух черточек.
«Они везут ее сюда, на летнее пастбище этого тюрка, а мы находимся вот тут, – он положил второй камушек. – Расстояние примерно равно семнадцати милям».
Тревельян, который уже вернул габрам несколько знакомых ему текстов для очищения, с любопытством рассматривал этот план.
«– Вот здесь – развалины Персеполя, – он положил третий камушек. – Обязательно надо там побывать.
– Нам туда и надо, – невозмутимо успокоил его граф.
– Но граф, – спешно уничтожая все предчувствия, заметил я, – не собираетесь же вы, в самом деле, в чужой стране, где каждая миля таит опасности, развязать войну? Что́ вы задумали? Если вы попадете в руки мусульман, что́ станет с посольством? Густав, скажите же что-нибудь! – в отчаянии вскричал я.
– Наплевать мне на интересы Его Величества, – резко ответил он. – Сразу три таких вот величества не так давно отняли у меня родину. Мне наскучил этот маскарад, – указал он на свой представительный мундир.
– Как хорошо, что этот маскарад наскучил вам именно здесь, а не в Лондоне или Бомбее, – пошутил Густав.
– Ну так что́, окажете мне услугу? – граф оторвался от карты и вскинул на меня серые глаза. – У нас мало времени».
Мы смерили друг друга взглядами античных героев, изгнанных с родины за нечаянные убийства и предчувствующих очищение, прощение и славу в новых невольных убийствах. Что́ сказал бы майор Кэмбелл – попутчик артикулов и пасынок устава?
«– Помните, – промолвил решившийся граф, – что неограниченная власть вездесущного Бога основывается не на любви, а на справедливости.
– А ваша? – злорадно спросил я, но он пропустил эти слова мимо ушей.
– Густав, милый Густав, – обратился он к Тревельяну, – вас я тоже попрошу об услуге. Ничего не говорите нашему переводчику. Этот юноша – католик.
– И что́ же отсюда следует? – спросил Тревельян.
– Видите ли, у нас в обозе я видел препротивного иезуита, а ведь, как известно, нет крепче перегородок, чем перегородки духа. Эти господа любят совать свой нос куда не просят».
Тревельян рассмеялся.
«– Так ведь и вы католик, разве нет? Да и я, – прибавил он после небольшого раздумья.
– И вы тоже, неужели? – деланно изумился граф. – Надо же».
А я, я, Ноэль Троссер, крещеный по всем правилам в мериньякской церкви, я разве не был католиком, добрым католиком? Однако, отнюдь не будучи гугенотом, я готовился стать их соучастником, поэтому благоразумно промолчал, чтобы не сойти уже за конченого глупца.
«Станем ли мы доносить на самих себя? – подвел итог Радовский и вдруг расхохотался, взглянув на Густава. – Если только по рассеянности».
Ничего не оставалось, как тоже криво улыбнуться. Граф отослал переводчика, черкнув майору Кэмбеллу записку, которая уведомляла этого достойного офицера, что мы отправляемся к развалинам столицы древних персидских царей и к вечеру будем в лагере. Джон Апдайк, эсквайр, был немало удивлен таким поворотом, но отправился выполнять приказ. Простившись с габрами, всей деревней столпившимися поглядеть нам вслед, мы отвязали лошадей. Опечаленные свалившимися на них несчастьями, старики согласились расстаться с несколькими рукописями, которые, по выражению Тревельяна, казались им апокрифами, тем более что Густав не только клянчил, но и щедро заплатил новенькими золотыми. Сияя точно так, как минуту назад сверкали переходившие из рук в руки соверены, он бережно поместил вымученные манускрипты на груди, между рубашкой и камзолом. Заодно граф сторговал у габров несколько лепешек, и мы, то есть обезумевший аристократ, полусумасшедший востоковед, торчавший в седле как Дон-Кихот, и я, прихотью случая слуга двух господ, вздымая облака пыли, во весь дух поскакали по дороге, уводившей на восток. Так выглядело это нелепое войско, эта несуразная армия, казавшаяся габрам целым непобедимым полчищем.
* * *
Мы нагнали возок Хвови… – Троссер покачал головой. – Тут не нужно лишних слов, что там случилось, легко представить… Кровь пролилась. Граф был любим своими стрелками за доброту характера и известную простоту, потому-то все они решительно не замечали – попросту оказывали графу такую любезность – наглухо закрытой повозки, которая неизвестно откуда появилась в обозе. В славном капитане Кэмбелле чувство дружбы после нескольких откровенных объяснений с графом взяло верх над чувством долга, да и мы сами по истечении некоторого срока пообвыклись с существующим положением вещей. Так и прошло наше посольство – между небом и землей. Не могу передать своей радости, – ухмыльнулся Троссер, – когда однажды в пурпурной дымке заката перед нами встали потрескавшиеся стены бендер-буширской крепости. Дочерна загоревшие солдаты радостными криками приветствовали этот клочок земли обетованной, а Тревельян хмурился и слишком уж часто поглядывал назад. Какие тайны он там оставил, какие чудеса его манили на этот раз – было известно одному ему. Однако он был счастлив – в его руках находились редчайшие рукописи; и он – в предвкушении той блаженной минуты, когда сможет развернуть их за письменным столом, при свете лампы – ежеминутно прижимал к впалой груди эти заветные клочки пергамента.
Между тем приближалось время отъезда, и вскоре в буширской бухте бросил якорь английский военный фрегат. В тот же день два известия взволновали меня: граф Радовский оставляет службу и возвращается в Европу; второе – Густав Тревельян в Европу не возвращается. Точно пораженный громом, я устремился к нему, но долгий, уснащенный новейшими терминами востоковедения разговор не привел ни к чему хорошему. Я заклинал, молитвенно складывал ладони и потрясал ими, скорбя, однако Густав упорствовал и на все мои отвлеченные доводы в пользу отъезда приводил не менее отвлеченные доводы в пользу науки. В конце концов я вынужден был прибегнуть к посредничеству графа, но и он потерпел неудачу.
– Ах, это бесполезно, – махнул он в досаде рукой. – Это одержимый.
Но в его словах мне послышалась самая настоящая зависть. Так и стоит перед глазами это последнее воспоминание: фиолетовая ночь, скрип сапог часового, расхаживающего по черной стене, а под ней глинобитная хижина, окошко которой заплыло размазанным светом свечи, и в этом свете виден стол и причудливая тень, в три погибели склонившаяся над ним.
– Его жизнь полна, – прибавил граф, еще раз заглядывая в окошко, и поспешил к своему сокровищу.
Рискуя многим, Радовский взял на борт военного судна женщину. Бедную девушку поместили в ящик, и ящик был внесен в каюту графа вместе с прочим багажом. Только один я был посвящен в секрет этого огромного короба. Граф нуждался в надежном спутнике, и я предоставил себя в его распоряжение, тем более, что мы вновь оказывались попутчиками. Без каких-либо приключений мы добрались до Бомбея, и граф, оставив еле живую Хвови на мое попечение, отправился исполнить формальности, связанные с его намерением сбросить мундир, и очень скоро, уже не таясь, мы отплыли в Европу на том самом «Антверпене», которого срочный ремонт надолго задержал у причала.
Палуба была под ногами, но спокойствия не было. Брат каким-то чудом ухитрился передать мне весточку, которая добавила мне тяжелых раздумий. Недобрая обо мне память всё еще витала в умах одурманенных успехами республики сограждан. Что ожидало меня: холодный нож гильотины или нескончаемые походы в обмотках вместо ботфорт, под простреленными, прокопченными пушечным дымом знаменами с вензелем N? А ведь полеты римских орлов никогда не отравляли моих дней! Я желал покоя, покоя и умиротворения, и один за другим устремлял пристальные взгляды в ту сторону горизонта, откуда через месяц с небольшим должны были воспарить волнистые ланды родных берегов.
* * *
Как следует присмотревшись ко мне и заметив мою растерянность, граф сделал мне неожиданное выгодное предложение – отправиться с ним в его поместья и принять должность управляющего. Что и говорить, я был бойким молодым человеком. Условия, предложенные графом, включали стол и недурное жалованье, которое мне некуда было и тратить.
Долго я привыкал к этим хмурым лесным местам, их тенистая угрюмость пугала меня, но недаром говорят, что земля красна людьми. В обществе графа и его молоденькой жены я забывал и свои страхи, и тоску по родным краям. На родине граф сильно переменился, стал проще в обращении, светская шелуха разоблачила его душу, и он заметно повеселел. Надо сказать, что мы снова угодили в гущу событий – Польша была охвачена восстанием. Однако Радовский так стосковался по дому, что поначалу и не думал браться за оружие. Право, необъяснимое обстоятельство.
Солнечными днями, на изумрудных полянах, уставленных желтыми головками одуванчиков, мы словно заново учились жизни. Хвови задумчиво бродила рука об руку с графом в лесной чаще, дотрагивалась до невиданных деревьев и гладила шершавую кору смуглыми пальцами. Она прилежно узнавала мир, куда была внезапно перенесена словно по мановению волшебной палочки и в котором ей, увы, предстояло провести так немного времени. Я часто сопутствовал им, и мы с графом совместными усилиями разъясняли грустной и внимательной девушке значения незнакомых слов. Она прислушивалась, и мало-помалу звучание некоторых из них заставляло изгибаться в невольной улыбке твердое сочленение ее рта. Всё здесь было для нее другое, неузнаваемое – цвета, забавы света, запахи растений и тел, ночные звуки и шелест лесных ручейков, влажные опрелости мха, неумолчный хор насекомых, и ступенчатые трели колоколов костела, и приглушенный голос проповедника, выползающий в цветущий мир из его холодной пустой утробы. А глухое уханье филина заставляло напуганную девушку искать защиты в широких складках старомодного графского камзола. Она полюбила могучие дубы, которые были здесь совсем непохожи на миниатюрные дубки ее знойной родины. Граф был счастлив, как дитя, и кто бы мог подумать, что между этими людьми из совершенно разных миров, миров, почти отрицающих друг друга, людьми, почти немыми, может возникнуть чувство, проложившее мостик от одной души к другой: этот мостик напоминал зыбкие, наскоро связанные бревна, переброшенные через глубочайшую, головокружительную пропасть.
Хвови долго не расставалась со своей одеждой, хотя ее покои уже были завалены красочными коробками из самых дорогих магазинов Варшавы. Почтительное внимание слуг повергало ее в испуг и трепет, а предметы интерьера представлялись ей диковинной сокровищницей. Всем окружающим, даже самому Радовскому, она казалась пришелицей из сказки, а сама она воображала себя в волшебной стране. На новую госпожу стекались поглазеть крестьяне из самых дальних деревень, и она стыдилась этих бесцеремонных, молчаливо-тупых взглядов и упархивала, точно птичка, а граф с крыльца в шутку грозил посетителям хлыстом и со смехом бежал за ней.
Совсем скоро отпугивавшая усталость Радовского растворилась в дымке отцовских радостей. Новая жизнь захватила его целиком, обнажила его истинную благородную природу и одну за одной вытравила все наносные, фальшивые черты.
Одну из комнат в левом крыле полностью освободили от мебели, пол обили жестью и на середине из тесаных камней соорудили очаг. Внутри Хвови благоговейно разложила каким-то чудом еще тлевшие угли персидского трута, которые проделали немыслимое путешествие через моря и океаны в обыкновенном глиняном горшке, и, совершив необходимый ритуал, зажгла священный огонь. Пищи для новорожденного всегда было в изобилии. Граф с поощрительной улыбкой наблюдал за священнодействием. Своеобразное капище замыкалось на замок, ключ от которого хранился у Хвови, и беспечного хозяина не смущала опасность пожара. В свободное время он собственноручно очищал от коры сухие ветки, готовя блюдо для огня. Иногда Хвови, с лукавой улыбкой нарушая установления отцов, приглашала внутрь и меня. И я, вопреки своему горькому опыту, усматривал в этом равнодушно колебавшемся пламени то, чего раньше не желал вообразить, – отражение Востока – и дивился ему, как чуду. В такие мгновенья я с умилением вспоминал Тревельяна, но спокойствие настоящего всё равно не променял бы ни на какие соблазны. И каждую ночь, блаженно засыпая, переворачиваясь с боку на бок под стеганым польским одеялом, я задавался вопросом, что же все-таки есть Бог – любовь или справедливость? И даже все восемнадцать столетий богословия, призванные в союзники, не помогли мне решить эту простенькую задачу.
* * *
Поруганная церковь, усмотревшая себе оскорбление в сожительстве басурманки с признанным главой местной аристократии, встала непроходимой стеной на чистой тропинке зарождавшегося счастья. Граф обращал на недовольство ксендзов не больше внимания, чем на грохот сражений, захвативший Польшу. Однако неумолимое общественное мнение подогрело и его кровь. Повинуясь долгу перед страной, граф на свои средства вооружил полк и устремился на соединение с Огинским, слава которого стояла в зените. На мое попечение было оставлено имение и малютка-дочь, которой едва перевалило за полгода. Церковники преуспели в мракобесии и так накачали крестьян, что кормилицу пришлось нанять аж в соседнем повете. Хвови Радовский увез с собой, опасаясь разного рода случайностей и известного недоброжелательства, но, боже мой, если бы он знал, что тащит ее в могилу!
Это почти беспомощное существо, безжалостною прихотью вырванное им с корнем и пересаженное заботливой, но неумелой рукой в новую почву, требовало неусыпной опеки, и граф не без основания нашел, что рядом с ним бедняжка Хвови будет в большей безопасности. Ибо он был из тех, что закрыл бы ее своим телом, знай он, откуда летят пули и картечь. И шальная пуля перехитрила его предусмотрительность: годы запустения не могли совершить больше перемен, чем этот маленький, жалкий шарик свинца. Это он враз перебил и хрупкую трубочку жизни, и охоту жить у тех, кого миновала сия чаша…
Единственное, что утоляло печали молодого вдовца, что заставляло его забыть свой горький жребий, была непрекращавшаяся война. И жизнь его отныне состояла из утомительных ночных переходов по мокрым от ливней лесам, по тоскливо хлюпающим болотам; переходы эти перемежались с яростными, кровавыми стычками, и неудачи следовали за ним по пятам так плотно, как если бы сидели в седле прямо за его спиной. Граф никогда не верил в успех восстания, но продолжал упрямую борьбу, которой положил конец Суворов. Короткий плен отрезвил Радовского, захмелевшего от горя и крови. Он с ужасом отбросил оружие и, собрав все здоровые силы, отдал себя хозяйству и воспитанию дочери, с которой сделался неразлучен. Земля медленно, как будто нехотя просыхает после обильных небесных излияний – так же неохотно, мучительно отпускало горе и его существо, зато в конце концов солнце засветило пусть не жарко, но в согласии со всеми законами природы внешней и человеческой. Ах, что это было за время, – покачал головой старик. На неуловимые секунды душа его отлетела в задумчивое прошлое. – Светлое, теплое, ласковое счастье. Счастье, оттененное горем.
Слушая Троссера, я думал о том, как по-разному изображают люди одно и то же. И вот уже сам мрачный граф превращается в веселого и беспечного кавалера, а Троссер оказывается совсем не таким, каким рисовали его воспоминания прочих. Припомнив всё то, что мне уже довелось узнать о графе, я усомнился:
– Но ведь граф был ужасным меланхоликом, вечно погруженным в печаль.
– Ничуть не бывало, – возразил Троссер. – Скучать он скучал. Скучал так, что больно было смотреть, но человек был веселый. Быть может, вы путаете его с младшим братом – тот и вправду был угрюм. Жизнь была ему не мила, он ею и не дорожил – путался во всякие авантюры. В конце концов откликнулся на посулы Наполеона, ушел с ним в Испанию, да и сгинул где-то под Сарагосой.
Я напомнил Троссеру о дяде, и его память сделала скачок лет на тридцать вперед.
– Он опоздал на несколько часов. Я поджидал его на пепелище. Предав Радовскую земле, мы принялись за поиски мальчика, но не нашли его. Спустя месяц мы с вашим дядей распрощались навсегда и разъехались в разные стороны. За время своей службы у графа я скопил достаточную сумму, чтобы обеспечить старость. После несчастья, постигшего эту удивительную семью, я выехал на родину… А ваш дядя – обыкновенный чудак, – вздохнул он.
Я возмутился.
– Однако…
– Мне милее правда, – быстро произнес Троссер. – У меня цепкая память.
– Правда у каждого своя, – в который раз ответил я чужими словами.
– Счастье было у него в руках, – пояснил старик свою мысль, – он выронил его и не пожелал нагнуться, чтобы его поднять. Она была чересчур любящей дочерью, а он слишком любил свободу.
– Радовская?
– Им обоим не хватало решительности.
– Хорошо, оставим их, – сказал я. – Был ли пан Анджей интриганом?
– Его аскетизм вызывал кривотолки, только и всего. Он был спиритом, а прослыл за колдуна.
– Ничего не понимаю, – беспомощно воскликнул я, досадуя на неуловимость истины.
– А тут и понимать нечего, – с едва скрытым раздражением отозвался Ламб, давно уже желавший обедать.
* * *
Вернувшись в Париж, первым делом я бросился к Вере Николаевне. Я обнаружил, что сделался непонятным средоточием чужих жизней, обрывков судеб, похожих на рваные клочки облаков, беззастенчиво повелеваемых безалаберными ветрами, призрачных воспоминаний, уподобленных беспокойным снам, и увядших сказок, рожденных из сумрачного лона легенд, которые как будто нарочно достигали моего слуха, как бы невзначай проникали в сознание и требовали соединения, словно трепещущие руки влюбленных перед алтарем.
– Где, где этот литератор, – безумно вопрошал я, – боже мой, ну тот, что читал нам свою повесть? Мне надобно повидаться с ним.
– Ах, да, – замялась Вера Николаевна. – Вы, верно, разумеете г-на Жерве? – Она прошлась по комнате. – Несколько дней назад он убит на дуэли. О, это очень трогательная история, – начала Вера Николаевна, заметив, что я изменился в лице, – бедняжка, какой талант… как много обещал. Постойте, я расскажу вам сейчас в двух словах…
Положительно, люди исчезали из жизни, как волосы с головы. Признаться, я не слушал ее. Я изрядно устал от всех этих трогательных историй, как выразилась Вера Николаевна. Я испытал едва ли не бешенство оттого, что нить моего вынужденного любопытства вновь ускользает от меня. Словно какая-то таинственная сила, забавляясь, разрушает подходы к истине, устраивает засеки на пути к правде, опрокидывая людей, словно деревья, застилает глаза непроницаемым туманом, манит, смеется и не дается в руки, заставляя усомниться в том, что хорошо известно. «Истина бродит по миру в поисках своего отражения и не находит его». Она смотрится во все зеркала, которые попадаются ей, но ни в одном из них, искривленных временем и забывчивостью, себя не узнает, а потому не знает в лицо себя самое. Вроде бы всё было так, а вроде бы и эдак, вроде бы случилось это, а может быть и совсем другое, пожалуй, происходило так, хотя не исключено и обратное. Никакой точности, никакой последовательности – одна лишь проникновенность. Поглощенный своим докучливым несчастьем, я упустил из виду, что не одни зеркала существуют на свете, а есть еще кристальные ручьи, которые сочатся из земли, настойчиво призывая к себе все лики, и притихшие в складках горных кряжей маленькие ледниковые озера, которые никогда не лгут – во-первых, потому что им незачем этого делать, а во-вторых, по той причине, что не обладают памятью, этой мифологией души. Да полно, я-то сам существую или нет?
Я возвращался в Россию один.
* * *
Любовь выходила из меня толчками, как выходит кровь из артерии, перебитой кубачинским клинком. Неправильный круг моей жизни был близок к тому, чтобы замкнуться. Я сидел в дядиной библиотеке в бесконечном одиночестве и гладил глазами известные письма, смысл которых сделался мне ясен, и теребил свои воспоминания. Изредка в этот сон наяву бесцеремонно вторгалось озабоченное кудахтанье Николеньки Лихачева или старческое кряхтенье иссохшего Федора. Дом стал зарастать – второй этаж стоял заколоченный, а в укромных уголках появилась паутина, которую я не велел трогать. Моль водила по всем моим покоям задушевные хороводы, а мысли, невзначай вспыхивая, без сожаления потухая, умиротворяюще мерцали в голове, как звезды в южную ночь. Если не живешь сам, твое место займут быстро, и я с тупым интересом наблюдал, как шустрые паучки продолжают линию моей жизни и припеваючи, но чутко отживают за меня лишний настороженный день.
Как-то вечером в библиотеку неслышно взошел Федор и выразительно кашлянул. Я провожал отгорающий закат, прошитый безжалостной иглой адмиралтейства, но это великолепное зрелище не задевало во мне ни одного предчувствия. Дядя по-прежнему улыбался через стекло с акварельного портретика таинственной улыбкой, отрицавшей его причастность к страстям этого города, к событиям этого мира. Заслышав шорох, я обернулся.
– Что́?
Федор поклонился и вручил мне конверт без штемпелей и сургуча. Я раскрыл его – несколько ассигнаций выпали оттуда. Билетов было на двести тридцать рублей. Я недоуменно вертел их в руках:
– Что́ это такое?
Федор молча подал мне поднос, и на нем я увидел еще курительную трубку. Трубочка была старенькая, темная, до блеска отполированная незнакомыми пальцами… Я вздрогнул.
– Кто принес это? – быстро спросил я.
– Какой-то военный, батюшка. Свеча потухла от ветру, я и не разглядел. По виду важный господин. Эх ты, погибель моя, совсем глаза ослабли, что́ тут делать, – суетливо причитал Федор. – А не срам ли, что в передней фонарь не горит, швейцара нет? Эх, такое ли бывало при покойнике князе, царствие ему небесное, упокой Гос-п-о-ди душу его, – принялся креститься старик. – Спрашивали, мол, барин дома ли. «Как прикажете доложить-с, говорю, – сударь?» А они: «Нет, этого не надо, ты вот передай барину вот эти…»
Я не дослушал Федора, на лице которого изобразилось нешуточное опасение, и, как был в шлафроке и туфлях, метнулся в парадную и выскочил на улицу. Улица была полна людей и экипажей. Какая-то барышня испуганно шарахнулась от меня и прижалась к стене, одна туфля соскочила у меня с ноги, и я тщетно пытался ее нащупать. Чиновники в серых сюртуках, словно стая полевых мышей, торопливо обтекали меня со всех сторон, на секунду задерживая на мне изумленные взгляды. Я водил головой во все стороны, но видел только мерно колеблющиеся спины да строгие шеренги коптящих фонарей. Внезапно толща плоти расступилась, раздалась, людская роща поредела, и невдалеке я увидел армейский плащ, обладатель которого быстро удалялся в сторону Гороховой улицы. Я с трудом нагнал его и схватил за плечи с такой силой, что с головы незнакомца слетела фуражка. Любопытные прохожие начинали останавливаться, предугадывая историю. Офицер резко повернулся и оказался Владимиром Невревым. Несколько времени мы безмолвно смотрели друг на друга. Я спохватился и поднял фуражку. С намокшего козырька скатились обратно в лужу три тугие капли. Неврев принял фуражку, стряхнул с нее остатки влаги и вдруг рассмеялся. В распоясанном шлафроке, без одного туфля, запыхавшийся, я и впрямь смотрелся предосудительно.
– Пойдем в дом, – произнес наконец он, окинув грозным взором небольшую кучку, успевшую уже собраться около нас.
Этакого уверенного взгляда глаза его никогда прежде не производили. Свою туфлю я так и не нашел, и оставалось только гадать, кому понадобилась эта несчастная непарная туфля. Мы взошли в комнаты, и Неврев сбросил плащ. Здесь меня ждало новое еще потрясение: в неярком пламени немногих свечей высверкнули подполковничьи эполеты и блеснул знак ордена Св. Владимира третьей степени – отличие небывалое в этом чине. Рот у меня не закрывался. Неврев заметил мое состояние и усмехнулся.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.