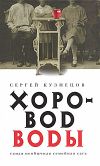Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
«Я, Густав Тревельян, рожденный Клаасом Вреде и Марией-Луизой Тревельян в городе Страсбурге в 1774 году от Р. X., находясь в уме и послушной памяти, возымел дерзкое желание познать всё, но не рассчитал своих слабых сил. Покинув дом в молодые годы, я скитался по миру, и мое любопытство, обратившееся в страсть, завлекало меня дальше и дальше от родного порога, ведя по недоступным тропам Востока. Во что бы то ни стало я решил своими глазами узреть то, достижению чего прочие посвящают только затраты ума, не дополняя своих усилий гудящими как колокол биениями сердца, не создавая пороха познания и не давая себе труда возжечь искру над этой гремучей смесью. Я задумал своими руками ощупать то, что другие изучают в кабинете с занавешенными окнами, со спокойной душой. Кто способствовал втайне моим начинаниям, кто разжигал во мне надежду и хранил в пути, мне неизвестно, но присутствие ангела-хранителя я неизменно замечал. Ибо от события к событию, которые казались мне случайностями, я подвигался к своей неразумной всепоглощающей цели. Наконец мой страстный порыв обратил на себя внимание некой силы, несоизмеримо более могущественной, чем скромный ангел, и ангел оставил свой пост. Вскоре в моих руках оказалось сокровище значительно больше того, на какое я мог бы рассчитывать, остановись я вовремя. То, что я поначалу приписал небывалой удаче, на самом деле оказалось вынужденным вниманием, но и снисхождением. Я нашел книгу…»
– На этом месте надпись оборвалась, – сказал Неврев, – и немалых усилий мне стоило отыскать ее логическое продолжение.
«…мелкие деспоты этой части земли твердят мне, что отныне я раб, но я смотрю на них и не вижу их. Видимое безразличие они самодовольно принимают за покорность и этим тешатся, злые дети. Покусившись узнать раньше положенного времени то главное знание, по которому неизменно тоскует человеческий ум и которое утоляет эту жажду ума только истечением естественно положенных пределов, то есть в момент смерти, я и сам словно почил. Хотя круг моей жизни еще не завершен и я не прекратил существования, я живу и не живу в одно и то же время. Вот почему я тоскую по обреченному миру и одновременно наслаждаюсь его кристальной чистотой, твердо зная, что душа моя призвана на суд раньше времени. Передо мной разверзлись все тайны мира, постигаемые одним единственным взором, но взор мой отныне прикован к этому великому зрелищу, созерцание которого не оставляет уму никакой пищи. Именно поэтому я способен показаться сумасшедшим и нет одновременно, ибо безумием отмечают небеса тех, кто прозревают, не дожидаясь приличного часа. Мне неизвестно, наказание ли это или награда, ибо сам я не награжден и не наказан. Вот почему я словно пребываю здесь, а словно и не здесь вовсе. Вот почему каждую секунду я, умерший и живой, нахожусь как будто между небом и землей, и мне нет возвращения, вот по какой причине та половина, что оставлена мне для жизни, – одно лишь ожидание. Эту книгу я намеренно выпустил из рук и укрыл ее высоко в этих дремучих ущельях, запрятал ее в руинах древнего христианского храма, останки его можно различить на правом берегу по течению реки, именуемой Большой Зеленчук. Заглянув туда, куда раньше времени не подобает заглядывать человеку, я больше не нуждаюсь в ней, в этой эманации беззлобного искушения, но не знаю, имею ли право уничтожить ее и тем самым утерять для людей. Если встать в день летнего солнцестояния, в полдень, лицом к фронтальной арке строго посередине, тень, которую отбросит фигура человека, укажет на камень, который следует поднять и под которым покоится книга. Этим я убеждаю, что поднимать этот камень не следует, но сделать это возможно. Дорогу осилит идущий. Я не шел, но бежал, сгорая от нетерпения, и теперь умолкаю там, куда стремился, в ожидании собственной тени. Я прошу прощения у своих бедных родителей, которых мои страсти обрекли на горькое и противоестественное одиночество, а также прошу прощения у многих поколений неизвестных предков, которые своим беспрерывным разумным движением выбросили меня, словно голую, сухую, бесплодную ветвь, из глубины бесконечно зеленого древа времен. Эту надпись я, не жалея дикого труда, высек в надежде, что кто-нибудь прочтет и перескажет людям эту грустную повесть безумия. Боже милосердый, пошли мне терпения дождаться собственной тени. Аминь».
* * *
Я оказался в большом затруднении, как объяснить черкесам смысл прочитанного, и недоумевал, какое истолкование этой невинной надписи подскажет им буйное воображение и гнет первобытного ума. Изучая эти странные словеса, я нагибался, ползал между камней, отыскивая концы и начала обрывков, переходя от одного замшелого камня к другому, следя за нитью и без того запутанного повествования. На моем лице отражались попеременно озабоченность, удовлетворение, предельное внимание и задумчивость – черкесы всё это отлично видели, и мой деловитый вид воодушевлял их на благожелательные мысли. Всё же они поглядывали на меня с опаской, видимо, ожидая, что вот-вот страшное заклинание, в тайну которого я проник, словно медленнодействующий яд, окажет свое губительное действие и уничтожит меня каким-нибудь диковинным, невиданным образом. Но со мной ничего не происходило, и я всё не торопился сообщить вольным горцам свой вольный перевод, обдумывая каждое словцо. Наконец я набрался духу и объявил им, что никакого заклинания тут нет, а есть всего лишь безобидное воспоминание о родине. Как я и ожидал, черкесы недоверчиво покачали головами, а потом один старик возразил с поразившей меня рассудительностью, что для того, чтобы наслать проклятье, не обязательно говорить об этом прямо, а иногда бывает достаточно составить в определенном порядке безотносительные слова, и этот строгий порядок и станет зловещим заклинанием. Пленный солдат перевел мне это, но я и сам уже немного понимал азиатское наречие. Ты, верно, помнишь, еще в бытность нашу в Ставрополе я проявил к этому языку прилежный интерес. Старейшины посовещались, после чего предложили мне дословно донести до них суть надписей, что я и сделал, по своему произволу слегка изменив некоторые подробности и благоразумно умолчав о волшебной книге, упоминание о которой могло внести смятение в сознание суеверных черкесов.
«Я, Густав Тревельян, урожденный Клаасом Вреде и Марией-Луизой Тревельян, в 1774 году от Рождества Христова, в городе Страсбурге, в непогоду, в четвертый день страстной недели, унаследовал от предков пытливый ум и любознательный нрав. Отец желал, чтобы я продолжил его дело и торговал молоком…»
– Молоком, – Неврев прервался. – Видишь ли, возможно всё, я ничему уже не удивляюсь. Уж если я наяву читаю эти слова, оставленные французом (да где! – рассуждал я, – да как!), то разве ж было неосторожностью допустить это молоко?
«…но я решил посвятить себя наукам и поступил студентом в университет. Я изучал прошлые эпохи и оживлял языки, обычаи и верования этих времен, остатки которых искал повсюду. Но скоро всё это мне наскучило и я вернулся под сень отчего дома, где принял от отца ведение дел. Пока я в развратной столице предавался пустым занятиям, отец мой накопил достаточно денег, чтобы попробовать свои силы в торговле колониальными товарами. Конкуренция в этой сфере была велика, но наши капиталы позволяли рискнуть. Сложности усугублялись тем, что англичане, будучи не в силах победить на поле чести, повели с нами торговую войну, имея целью задушить бедную Францию тисками голода и отсутствием товаров. Отец сложился с одним немецким купцом, своим старинным другом, и зафрахтовал судно, на котором предполагалось доставить чай из Индии и шелка из Персии. В качестве приказчика отца я отправился на этом корабле. Поначалу дела продвигались хорошо, нам удалось обмануть англичан и без помех загрузиться в Бомбее, откуда был взят курс к пустынным берегам Персидского залива. Здесь вся торговля также была в руках хитрющих англичан, и нам пришлось заплатить положенные пошлины, а также подвергнуться бессовестным поборам, после чего нам было выдано разрешение сойти на сушу. На дороге в Шираз я и мои спутники подверглись нападению диких курдов, которые отняли наше имущество, а нас обратили в рабов. Вскоре я был разлучен со своими бедными спутниками и продан за сто медных шаги одному купцу из Исфагани по имени Ильнар. Ильнар отправлялся с караваном на север, в Казвин, и взял меня с собой, но курды, продавшие меня, подстерегли его, караван разграбили, Ильнара убили, и я снова оказался в их шайке. Через три дня они прибыли в Хамадан сбыть добычу и сторговали меня одному богатому купцу по имени Фетх-Али. Фетх-Али отдал за меня двести двойных шаги и был очень доволен покупкой, ибо я знал три языка. Вскоре Фетх-Али отправился по своим делам в Тегеран и взял меня с собой. Курды выследили его в пустыне, напали на него и убили, а меня связали и приволокли в Решт, где продали на базаре одному купцу по имени Джелаль-ад-Дин, взяв за меня двести динаров. Джелаль-ад-Дин полюбил меня за кроткий и послушный нрав, а когда узнал, что я знаю три языка, то возблагодарил Аллаха за такое ценное приобретение и решил взять меня с собой в Тавриз, куда его влекли торговые дела. В окрестностях Тавриза Джелаль-ад-Дина подстерегли курды и жестоко с ним поступили. Меня они не обижали и обошлись со мной как с другом. В первый день курбан-байрама они появились на главной площади Тавриза и, всячески превознося мою ученость, запросили за мою голову целых пятьдесят томанов. Такую цену дал Самвел, купец из Эривани, и считал, что заплатил дешево. Совершив необходимые покупки, Самвел отправился домой. Утром следующего дня на вершине одной горы я увидел всадника, следившего за караваном, и по высокой красной чалме узнал в нем предводителя курдов. К полудню я сменил общество Самвела на общество курдов. Курды очень обрадовались, увидев меня среди добычи, приветствовали меня как брата и щедро угостили бараниной, пообещав на этот раз передать меня в надежные руки. Вскоре случай представился – курды перешли границу и продали меня Селиму, одному турецкому купцу. Передавая меня Селиму, курды пообещали больше не разлучать меня с хозяином, чтобы я мог привыкнуть и обрести спокойную жизнь, насколько она может быть спокойной в неволе. Да я и сам видел, что они не желают мне никакого зла. О Селиме курды отзывались очень хорошо, сказали, что это человек, покровительствующий всяческим наукам и искусствам, после чего сердечно со мной простились, а некоторые из них даже плакали как дети, как будто чувствуя, что мы расстаемся навсегда. Селим направлялся в Арзерум, а оттуда намеревался добраться до Карса. В пути наш караван застала ночь, и я улегся спать под повозку Селима. Он сам лег в повозке, которую слуги устлали хорасанскими коврами и покрыли шатром. До полуночи Селим расспрашивал меня обо всем, что касается моей далекой родины, и проявил достойный интерес, а потом помолился и заснул. Когда утром я открыл глаза, первое, что́ я увидел, были курды, которые стаскивали с обезглавленного тела Селима парчовый халат, стараясь не запачкать его кровью. Тут я вылез из-под повозки, и когда курды меня увидели, то пришли в полное отчаяние и сильно сокрушались, но всё же я заметил, что они рады меня видеть. Я тоже не скрывал удовлетворения. Селим хоть и был человеком ученым и любознательным, но мне не понравился, потому что склонял меня обратиться в свою веру. Закончив грабеж, курды стали жарить баранину и призадумались, что им со мной делать и как мне помочь. Как следует насытившись, курды посадили меня на повозку вместе с другими невольниками и прочей добычей и хотели было ехать, но кто-то сумел пожаловаться арзерумскому сераскиру на свирепства курдов, и сераскир выслал в погоню триста делибашей. Делибаши окружили курдов, однако курды не растерялись и предложили меня в дар начальнику делибашей в обмен на свободный проход, в противном случае обещая меня убить. Грозный начальник делибашей долго не соглашался на такие условия, и курды было приблизились ко мне с обнаженными саблями и со слезами на глазах – так им не хотелось лишать меня жизни. Увидев, что курды относительно меня имеют самые серьезные намерения, начальник делибашей заинтересовался, чем таким удивительным я обладаю, что курды настолько мной дорожат и так переживают. Узнав, что я происхожу из страны, до которой полгода пути, начальник делибашей забрал меня в Арзерум, а курдам велел убираться обратно в Персию. Сам он тоже был курдом и поэтому отпустил тех курдов. Наше прощание с курдами превзошло самые трогательные ожидания…
С тех пор, как за меня перестали давать деньги, а принялись ради моих достоинств, неслыханных в полуденных странах, передавать меня друг другу в дар, жизнь моя не слишком поменялась. С легкой руки курдов в течение полугода я переходил из рук в руки. Арзерумский сераскир послал меня в дар карскому паше, тот, насладившись моим обществом, отправил меня в Батум-кале, а оттуда, дважды побывав в руках хищных лезгин и трижды в лапах абхазских пиратов, я направился к Анапе – самому крайнему осколку правоверного мира, помещенному непостижимым промыслом Всевышнего в гористые земли отважного народа адиге. Так как представители этого чудесного народа освободили меня из-под власти турок, которые, бесспорно, все были прекрасные люди, но порядком мне поднадоели, я задумал отблагодарить этот замечательный народ, который своей отвагой и простым обращением живо мне напомнил курдов, по которым я иногда скучал, и, с прискорбием узнав, что народ сей, исполненный неисчислимыми достоинствами, не имеет своего алфавита, решил поправить дело. Призвав на помощь все свои познания, полученные мной в то время, когда в вольнодумной столице я нарушал священную отцовскую волю, я взялся за дело, но, привнеся дыхание жизни в чужой язык, почти позабыл родную речь… Молоко в здешних местах жирное, густое и может поспорить с лучшими эльзасскими образцами. Отец, думаю, сильно бы обрадовался и непременно пошел бы в гору, появись у него возможность торговать таким прекрасным молоком».
Черкесы внимательно меня выслушали и остались довольны; они согласно покивали головами, трижды плюнули в сторону камней и засобирались в аул – наступал вечер.
* * *
Некоторое время дрожащий багряный диск раскаленного за день солнца сопровождал нас с левой стороны, а потом свалился за высокую гору, выросшую внезапно, когда заросшая тропинка круто вильнула в очередной раз. Впереди, распустив поводья, ехал Джембулат, за ним брела моя лошадь, его уздени, старики и мулла – всего человек девять-десять – растянулись и гортанно перекликались в сумеречной чаще, не совсем еще оставленной последними лучами, которые расплывчатыми и редкими пятнами повисли на кустах можжевельника. Их голоса широко разносились по притихшему, безветренному лесу. Тишину возмущал только осторожный шаг коней да почти неуловимый ток мелких ручьев, там и сям пересекавших неезженную тропу. До аула, по моим предположениям, можно было смело считать верст восемь, когда Джембулат вдруг подобрал поводья и осадил коня, от неожиданности присевшего на задние ноги. Одной рукой он натягивал повод, а другая привычным движением скользнула к мохнатому чехлу, от частого употребления пестревшему лоснящимися проплешинами. Но Джембулат не успел достать ружье – какая-то черная тень, которую я сперва принял за барса, неслышно упала с ближайшего чинара прямо ему на спину. Борьбы почти не было, только раздался слабый хрип, и размякшее тело Джембулата медленно вывалилось из седла и упало в высокую траву с невнятным стуком. Убийца, наглухо замотанный в башлык, с рычанием вытер окровавленный кинжал о черкеску жертвы двумя энергическими движениями, молниеносно отцепил ружье, перекинув чехол через плечи, и взлетел на коня Джембулата, который недовольно заржал и беспокойно прядал чуткими ушами. После этого он ухватил мою покорную лошадь за повисший повод – меня буквально просверлили два огненных глаза, на миг блеснувшие из-под опущенного башлыка, – и бросился в чащу, увлекая меня за собой. Всё это свершилось в какие-то полминуты. Я не издавал ни звука, повергнутый увиденным в настоящее оцепенение. Хорошо было то, что руки у меня на этот раз были стянуты спереди, так что я вцепился в холку и всем корпусом приник к лошадиной шее. Несколько времени за спиной у меня и моего похитителя держалась привычная тишина, из глубины которой доносились спокойные и расслабленные голоса черкесов, но вдруг, на какое-то страшное мгновение, тишина сделалась безраздельной, полной, давящей, и яростный визг прорезал ее, словно клинок – полотняную и тугую стенку палатки. Похититель быстро оглянулся и поскакал быстрее. Я мог бы, конечно, спрыгнуть на землю, но что тогда выпало бы на мою долю, со связанными-то руками? Или этот черкес прикончил бы меня как обузу, или сородичи Джембулата, пустившиеся в погоню, отрезали бы мне голову, прежде чем я нашел бы нужные слова и знаки, чтобы объяснить им, что не моя рука сразила их лучшего джигита. А всё указывало именно на это, и даже старый солдат не спас бы меня точным переводом моих справедливых объяснений. Треск ломаемых веток, крики, торопливый топот копыт давал знать о приближении погони. Похититель издал свист, на который из чащи проворно выскочила, словно кошка, оседланная лошадь и понеслась бок о бок с хозяином. Даже в темноте можно было различить стать и мощь этого коня, созданного для простора, – казалось, ему было тесно в заросшем лесу, как бывает тесно помещику в крестьянской избе зимою, когда собраны вместе и люди, и скотина. Сильной вороной грудью он разрывал сплетенные кустарники. Незнакомый черкес на ходу перескочил из седла в седло, а потом перетащил и меня на коня Джембулата. Мою смирную конягу он изо всей силы хлестнул плетью, и она от боли припустила куда-то в сторону. Эта хитрость остановила разъяренных преследователей только на минуту, и наконец кто-то из них увидел мелькнувшие между стволов лоскуты моей давно истлевшей белой рубахи. Тут же град пуль усыпал то место, на котором мы находились секунду назад. В горах темнеет быстро, незаметно, солнце словно проваливается в пропасть, тщательно собирая все-все рассеянные лучи и разом унося их с собой. Мы скакали уже почти в полнейшем мраке, защищаемые густыми кронами буков от жалких остатков света. Я целиком положился на этого шайтана, а он петлял с такой ловкостью, что я с трудом удерживался в седле после каждого резкого маневра. Я придумывал, как бы заставить его освободить мне руки, но не успел я и подумать об этом, как он обернулся ко мне и выбросил руку с кинжалом. Сперва мне показалось, что он решил отделаться от меня, но рука неподвижно застыла в воздухе, прямо перед лошадиной мордой, – я догадался и, со всей силы сжав ногами конские бока, врастая в жесткое седло, сливаясь с крупом, вытянул связанные руки, стремясь прикоснуться клубком толстой бечевки, намотанной на запястьях, к блестящей, угрожающе дрожащей стали. Несколькими неловкими попытками я изрезал кисти, но наконец сталь, словно жало осы, сама впилась в веревку, и одного этого прикосновения, похожего на невеселый поцелуй, оказалось достаточно, чтобы веревки разошлись, – настолько остро было лезвие этого кинжала. Я стряхнул обрезки с окровавленных рук, и он молниеносным рывком перекинул мне поводья через дернувшуюся лошадиную голову. Но все эти меры оказались запоздалыми – черкесы, стреляя почти наугад, на шум, были рядом. Нас загнали в небольшую голую лощинку, по кромке которой выдавались зубцами то ли остатки сакли, то ли выход скальной породы. Лошади буквально скатились в это естественное углубление, подняв копытами целый ковер лежалой листвы. Джигит спрыгнул на землю раньше, чем его конь прекратил переступать ногами. Обеими руками он ухватился за поводья и одну за одной уложил лошадей в кустарник. Они, к моему удивлению, лежали смирно, не пытаясь подняться, и только изредка поднимали головы и вытягивали мускулистые шеи, тревожно поводя глазами. Джигит расчехлил оба ружья и подполз к камням. Он сдернул торчащий черный башлык, и под ним оказалась каракулевая кабардинка, из-под которой в уже кромешной темноте бешено блистали белые глаза. Черкес поглядел наружу, вниз, и жестом пригласил меня последовать его примеру. Я выглянул из-за камня и, напрягая зрение, различил фигуры еще более черные, чем самая темнота вокруг. Черкесы спешились и, укрываясь за стволами буков, крались к лощине. Мой джигит извлек из газыря заряд и приготовился, а мне бросил кинжал – я положил его рядом с собой. Только сейчас передо мной вдалеке неясным еще видением восстал соблазнительный призрак свободы. Черные тени еще продвинулись вперед, но прозвучал выстрел, и с той стороны донесся стон раненого и злобные крики. Джигит издал глухое рычание и выразительно на меня посмотрел. Наконец он произвел и человеческие звуки – мешая русские слова со своими, помогая себе красноречивыми отрывистыми жестами, он втолковал мне, чего хотел. Поскольку у нас имелось два ружья, я должен был заряжать разряженное выстрелом второе ружье, в то время как мой избавитель сдерживал бы скопище первым.
– Я, как это тебе известно как никому другому, – заметил Неврев, – не был тогда искушен в горной войне, а был опытен в парадах и дуэлях, поэтому простой, почти гениальный, но такой обычный замысел не сразу нашел дорожку в тенета моей сообразительности. В самом деле, как только нападавшие поднимались с земли, показываясь из-за стволов деревьев, надеясь броситься в шашки, навалиться скопом, смять нас и искрошить – а это несомненно бы произошло, – мой черкес хладнокровно посылал смертельный выстрел, и шайка с воем негодования опять рассыпалась за укрытия. В это время я заряжал второе ружье, лихорадочно подсыпал пороху, закатывал пулю и тут же получал ружье разряженное. Если бы мы, поддавшись искушению, выпустили бы сразу два заряда, из обоих ружей разом, расстояние, которое отделяло нас от преследователей и которое так точно определил мой неожиданный товарищ, сделав первый выстрел, не позволило бы нам вновь зарядить оружие и рукопашная схватка, сулившая нам смерть, была бы делом решенным. Стрелять при всем при этом необходимо было без промаха, что и делал мой товарищ с непостижимой меткостью, принуждая откатываться своей дьявольской стрельбой наших, так сказать, недоброжелателей. Мои глаза привыкли к темноте, и я без труда различал движения противников. Они озверели, но ничего не могли поделать – выстрел был один, но кого из них унесет он высоко в небо, к престолу Аллаха? Они рассеялись полукругом, забирая нас в кольцо, однако подвижный джигит переползал по всей кромке лощины, посылая пули то в одном, то в другом направлении, словно убеждая нападающих, что смерть может коснуться любого из них. Им не оставалось ничего иного, как затеять с нами бурную перестрелку, но их многочисленные пули не причиняли нам вреда, потому что мы были надежно укрыты выступающими из земли камнями, и черкесы находились ниже нашей лощины. Мы волновались за лошадей, но до поры вражеские выстрелы не доставали их. Только один залп сорвал кабардинку с головы моего бесстрашного стрелка, и она, простреленная, отлетела далеко назад, ударившись в одну из лошадей. Лошадь испуганно фыркнула и сделала попытку вскочить на ноги, – черкес метнулся к ней и бережно уложил ее на место. Лошадь успокоилась.
Между тем за небо уцепилась мутная бляха луны и распушила вкруг себя сверкающее сияние. Свет исполосовал землю, разлегшись между косых длинных теней, которые отбросили буки. Лошади заворочались, вытягивая шеи и косясь испуганным глазом на полную низкую луну. Мы лежали в лощине уже несколько часов, но перед нами были не солдаты, а изощренные ветераны ночных схваток, мастера всяческих хитростей по части того, как бы побыстрее отправить на тот свет, поближе к этой вот луне, какого-нибудь недруга. Не считая солдата, их было девять человек – когда взошла луна, трое были ранены, двое убиты, следовательно, оставалось всего четверо. Я лежал на спине, искоса поглядывая на незнакомца. Они лежали за стволами и терпеливо ждали, когда у нас закончатся заряды, время от времени посылая к нам вялую вспышку.
* * *
Джигит отличался сложением стройным и высоким, черты его лица можно было бы назвать красивыми, если бы не устойчивое выражение какой-то кровожадности, которое искажали линии, не лишенные сурового благородства. Кожа на лице, выдубленная всеми ветрами, повиновалась подвижным мускулам, которые своими гримасами одно за одним чередовали выражения радостной злобы, полного спокойствия – тогда морщины пропадали и кожа свободно обтягивала гладкую маску костей – или пристального внимания. Ему было лет сорок, из-под распахнувшейся черкески навстречу предательскому лунному свету выглядывала тусклая кабардинская кольчуга, локти кое-где дырявой черкески охватывали стальные пластины.
«Почему ты напал на них, убил Джембулата?» – спросил я по-черкесски.
Он повел на меня глазом и, прильнув к камням, долго ничего не говорил. Его горбатый нос, который принято называть орлиным, трепетно втягивал воздух, словно нос зверя, почуявшего добычу. Дрожащие ноздри как будто желали сбросить, стряхнуть лунный свет, мешающий дыханию, мешающий жизни. Он ответил на мой вопрос с той откровенностью, которая свойственна людям в минуту, когда пульс существования замирает в ожидании между жизнью и смертью, когда человек заглядывает в прошлое внимательным взглядом, когда охватывает свои утекшие дни самыми главными, немногими словами.
«Мое имя – Салма-хан, – негромко начал незнакомец, не глядя на меня, – я сын бей-Султана, одного из князей народа адиге, и поэтому сам князь, – гордо вымолвил он, – того самого народа, с которым сейчас веду перестрелку. Когда моего отца предательством прогнали от родного очага, мой детский писк еще не звучал в горах. Изгнанием отца запятнал себя Айтек, будь трижды проклято это имя, неблагодарный! Женщину не поделили они! Отца приняли абадзехи, живущие к югу от шапсугов. К тому времени отец уже имел детей: меня и сестру Лотоко. Многие из абадзехов желали породниться с отцом, поэтому отец отдал меня на воспитание старому Мансуру, жившему одиноко. Мансур был кузнецом, изделия его рук высоко ценились в горах. Едва я появился на свет, как отец сговорился с Мансуром, и тот – согласно древнему обычаю – стал моим аталыком. “Учись ковать железо, – говорил мне отец, – ибо князья больше никому не нужны”. Я поселился у Мансура, в уединенной сакле на берегу Пшехи. День-деньской Мансур проводил у горна, а я, как и подобает мужчине, упражнялся в искусстве наездничества и в нелегком ремесле стрельбы. Мансур выковал мне маленькую саблю, и я рубил ею орешник. В это время отца моего умертвили на охоте пришлые абреки. Так говорили люди.
Я подрос и помогал старому Мансуру в кузне. Бесчисленные годы ослабили удар его руки и притупили остроту взгляда. Все юноши, рожденные на свет в один год со мной, уже давно сели в седла и добывали себе славы отважными делами, а я ни разу еще не видел правого берега Кубани, не видел, как колышется под ветром казацкая пика.
Тем временем юная Лотоко, сестра моя, вступила в пору первой прелести. Слава о ее красе гремела в селениях. К ней посватался Джембулат, сын нечестивого Айтека, первый из шапсугов. Как красота сестры моей затмевала сами прекрасные горы, так удальство Джембулата обросло молвой, словно ствол чинара – вьюном. Имя это все хорошо знали на обоих берегах холодной Кубани, и в Кабарде, и на той стороне большого хребта – в земле абхазов. Я, скромный кузнец, был горд, что такой знаменитый белад обратил свои взоры на мою сестру. Случилось так, что Мансур, мой аталык, стоял уже на пороге смерти. Радость жизни омрачилась его тяжелыми хворями, дни и ночи я проводил у его изголовья, моля всемогущего Аллаха продлить его дни, утолить его страдания. Но, видно, угодно было всевышнему поскорее приблизить к себе праведника – Мансур умирал. Перед тем как закрыть глаза свои навеки, он призвал меня к себе и поведал следующее:
“– Знай, Салма-хан, мальчик, что многие годы храню я в сердце жгучую тайну. Не абреки убили твоего отца и не казаки на него напали – нечестивый Айтек своей рукой сразил его. Кончилась смута, ибо всё на свете имеет конец, и многие князья вернулись в родные аулы. Страх за содеянное будил по ночам Айтека, и понял он, что не будут спокойны его ночи, пока жив бей-Султан. Он, сын греха, подстерег его на охоте и насквозь прострелил ему грудь – мало того, снял с мертвого оружие, которому позавидовал бы любой джигит, и присвоил себе, а теперь сын его носит это оружие, Джембулат, которому ты, несчастный, отдал свою сестру.
– Почему ты раньше молчал, старик? – вскричал я в ужасе.
– Я молчал, – ответил Мансур, одарив меня взглядом, просветленным предчувствием небес, – ибо тайна – это как отцовское наследство, как отцовское ружье, отцовская шашка: только тогда младший может познать блеск клинка и взяться за рукоять, когда старший выпустит его из своих рук. Только тогда дозволено передать тайну, когда сам стоишь в преддверии других великих тайн”.
Так сказал Мансур, и тут же душа его отлетела. Я похоронил старика и расцарапал себе лицо, словно женщина, без оглядки бросился в горы и бродил там, как зверь. Обезумев, шатался я по скалам, и конь мой понуро шел за мной и вторил моему вою жалобным ржанием. Бесчестие душило меня, я забыл о голоде, о жажде, упал на камни на берегу мелкой речки и призвал смерть… Я лежал на камнях у самой воды. Солнце стояло высоко, просвечивало прозрачную воду до самого дна, ласкалось ко мне, но не для меня оно светило. Быстрая форель мелькнула в голубоватой воде и замерла под камнем. Прелесть мира не радовала моих очей, и злая тоска проникла в душу… Я лежал недвижим до самой ночи и слушал напев потока. Мгла опустилась на землю, и камни похолодели – словно моя душа. Вот уже во мраке журчащий поток скрылся от глаз, и голос его переменился. Охваченный прохладой, теперь он стал звонким и чистым, и средь его легких волн, издалека, из глубины донеслись такие же легкие звенящие голоса. То красавицы-дочери Матери вод вышли играть под луной и черпали воду серебряными кувшинами, и плескали, забавляясь, друг на друга, и тихо смеялись неверным серебряным смехом, вплетавшимся в пенистый говор воды. Они звали в ту невидимую, неясную страну, которая рядом, всех тех, кто устал жить при свете солнца. В первый раз за свою жизнь я не шептал молитву и мне не было жутко от печального смеха волн – страх не осквернил моего пустого сердца. Уже трепещущие звезды нежно заглядывали в мои глаза и их неживой свет увлекал меня на истоптанную тропу позора…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.