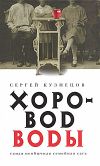Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
В такой-то своеобразной ночлежке и очутился Александр. Наутро он быстро выполнил свою повинность и собрался было отправиться в дальнейший путь, как вдруг попался на глаза хозяину, обходившему свои владения. Хозяин снова улыбнулся Александру, но по своему обыкновению постеснялся расспрашивать молодого монаха. Ему понравилось, как привычно делал свое дело Александр, а еще больше понравилось то, что юноша не походил на обычных соратников его буден. Выяснив, что Александр не имеет ни гроша, Ренан предложил ему остаться на пару дней с тем, чтобы заработать хотя немного денег на дорогу. Александр, полагавший, что работать для человека так же естественно, как дышать, очень удивился тому, что работать можно за деньги, а не за обед, чем чрезвычайно рассмешил и Ренана, и работников, слыхавших этот разговор. Конечно, никто и не поверил, что можно не знать таких простых истин, а Ренан решил-таки побеседовать с юношей с глазу на глаз. Александру пришлась по душе безмятежная улыбка Ренана, во-вторых, он и сам хорошенько не знал, зачем ему нужно в Марсель, да еще в русское консульство, если он во всю жизнь свою не видал ни одного русского, а в-третьих, довольно безразличное к нему отношение всех этих людей как будто дало ему понять, что никакой заинтересованности они в нем не испытывают, а потому опасаться их нечего. К тому же Ренан был стареющий человек, а именно у таких людей Александр привык спрашивать совета. В тот же вечер он без утайки поведал Ренану свою историю. Ренан, слушая юношу, делался то задумчив, то хватался за бока от самого непосредственного хохота, но в конце концов смекнул, что дело это не просто. Не без оснований он решил, что в том виде, в котором пребывал Александр, ему, быть может, и нелегко будет попасть в дипломатическую миссию, поэтому он убедил молодого человека остаться до поры в Лозах, а сам засел писать в консульство письмо, где делился с чиновниками своими сомнениями относительно происхождения Александра. Ответ пришел быстро, но оказался неутешительным: секретарь уведомлял, что не так давно в консульстве сменился состав служащих, а в бумагах по этому делу ничего обнаружено не было. Секретарь писал также, что по этому поводу на его памяти никто из подданных российской короны в консульство не обращался, и обещал сделать запрос в свое посольство. Ренан отправил следующее письмо с некоторыми разъяснениями, но шли недели, а ответа не поступало. Поначалу Ренан отнесся к этой истории играючи, как относился вообще к тем людям, которые так часто находили у него кров. Однако постепенно он понял, что на этот раз провидение вложило в его руки человеческую судьбу целиком, а не мелкие и унылые эпизоды, как обычно. Если почти всех прочих его постояльцев нужно было то и дело скрывать и прятать, то этого, чтобы добиться чего-нибудь путного, напротив, следовало выставлять напоказ. Ренан подивился такой редкости, однако хозяйственные хлопоты отвлекали его и мешали ему отправиться в Марсель вместе с юношей. Он не рассчитывал выехать раньше чем через месяц, а за этот месяц произошли события, которые произвели немалые перемены в жизни «виноградной ночлежки».
Между тем, пока Ренан весь в заботах разъезжал по округе, Александр исправно и с удовольствием работал вместе со своими новыми товарищами, а в свободное время в согласии со своими привязанностями взбирался на окрестные холмы, откуда задумчиво изучал движение природы. Однажды, к своему удовлетворению, Александр обнаружил, что на холмах растут те же самые травы, запах которых сделался ему так мил за долгие годы монашества. Этот запах был – привычка, не привычка – потребность. Юноша обрадовался травам как добрым знакомым, перетирал их в пальцах, и запах дарил воспоминания. Как-то раз он нарвал этих трав целую корзину, снес ее в усадьбу и начал припоминать, каким образом готовили монахи свой становившийся уже знаменитым ликер. Исполнить это оказалось несложным, ибо Александр много раз наблюдал картезианский способ, хотя и не придавал этому никакого значения. Ему ведь и в голову не могло прийти, что картезианцы держали в строжайшей тайне способ приготовления ликера и ревниво оберегали от чужих глаз сам процесс приготовления. Только посвященные знали соотношение разных трав – именно этот способ составлял с недавних пор главную причину их благоденствия. Многие хитроумные дельцы стремились найти секрет La Chartreuse, но безуспешно.
– А ведь действительно, – заметил Альфред, – если виноград надо растить и ухаживать за ним, то травы нужно только собрать. Стоит ли объяснять, как был удивлен и обрадован Ренан, когда его угостили первоклассным шартрезом собственного приготовления! А когда он и в самом деле поверил, что это не шутка, не ошибка, то пришел прямо-таки в неистовство. Он осыпал Александра ласковыми словами и, запершись с ним в кабинете, с замирающим сердцем постигал урок, который весьма умело давал молодой человек. «Вот теперь, теперь…» – приговаривал он, потирая от восторга свои полные ручки, и бегал по всему дому. Что «теперь», Александр не понимал как следует, зато обратил внимание, что с того дня его хозяин развил бешеную деятельность. Устройство судьбы молодого человека на время было отложено, потому что в соседнем городке спешно закупались бутылки особой формы, а в самих Лозах так же споро сколачивались ящики, предназначавшиеся для этих бутылок. Целый отряд под руководством Александра ползал по холмам и лихорадочно набивал нужными травами бесчисленные корзины. Наконец первая партия напитка была готова, и он вышел недурен. В один из дней состоялась дегустация – перед специально вызванными работниками, трактирщиком и местным кюре были выставлены по два сосуда, слитые из разных бочек, с настоящим и поддельным шартрезом, и они, сколько ни пробовали, не могли отличить один от другого. Ренан тем временем связался со своими торговыми агентами в Париже и в некоторых других крупных городах. Агенты заверили его в несомненном успехе. Спустя несколько недель вереницы подвод потянулись завоевывать Францию.
* * *
Альфред пригубил шартрезу, и рука его сделала неопределенный жест: видимо, он тоже не был уверен, чей шартрез он пьет в данную минуту. Очень скоро он продолжил таким образом:
– Протекло время. Неожиданная удача раззадорила Ренана, который всё более сближался с Александром, ее принесшим. Как я уже упоминал, детей у Ренана не было, и в периоды наибольших успехов его всё чаще посещала беспокойная мысль – какую, собственно, цель преследует это безудержное накопление? Ренан был делец, но из ума еще не выжил и порою мрачнел без видимых причин. Александр и по летам, да и по складу, по вполне заметной сотте il faut[22]22
Порядочности (фр.).
[Закрыть] годился ему в сыновья. Ренан смутно это чувствовал и в общении с ним выказывал столько нежности, сколько могла родить его изрядно подсохшая душа. Он ловил себя на мысли, что ему вовсе не хочется, чтобы Александр покинул Ло́зы и оставил его наедине со своим одиночеством, которого с годами становилось всё больше и которое он было приспособился не замечать. Ему не хотелось больше проводить вечера в борьбе с потрепанным томом «Кавалера Фобласа», который, если не считать бухгалтерских талмудов, являлся едва не единственной книгой его кабинета и которого – он знал – ему никогда не дочесть до конца. Ему было невыразимо скучно смотреть на бесчисленные буквы, поэтому он глядел на корешок. С другой стороны, к своей скрытой радости, Ренан примечал, что Александр довольно неясно усвоил те догадки, которыми снабдил молодого человека покойный Рошаль. Александр трудился по привычке, по потребности, и бывшие каторжники охотно слушались «монашка» тогда, когда ему случалось принять над ним начало. Марево сомнений, туман надежд обволакивали Ренана, когда он принимался обдумывать свои соображения и заметки в тиши огромного кабинета, в тысячный раз обшаривая плутоватыми глазками истомленную в предчувствии прочтения обложку неутомимого «Кавалера».
В хозяйстве всё шло хорошо – просто катилось своим чередом по однажды заведенному порядку. Между тем, картезианские монахи, понемногу начавшие оправляться от страшной болезни и сохранившие благодаря жесточайшему карантину основные силы братии, к своему негодованию и возмущению прознали про то, каким грозным конкурентом в лице Ренана наградил их Господь. Не долго думая, они притянули Ренана к суду. «Проклятые попы», – бормотал Ренан, но всё же иногда ходил послушать мессу в соседнюю церковь. Ренан не собирался сдаваться и только чертыхался. У него были деньги, однако les pauvres charteux их тоже имели в избытке, он обладал связями, но и у монахов они оказались в изобилии. Дело должно было слушаться в Марселе, но из-за холеры, схватившей город железной хваткой, никак не получало развития. От кого-то Ренану стало известно, что картезианцы, вполне осознавая бесплодность попыток заставить Ренана совсем отказаться от производства ликера, тем не менее намерены принудить его выставлять на своих бутылках обязательную надпись: Imitation de la chartreuse[23]23
Подделка под шартрез (фр.).
[Закрыть]. На совете со своим адвокатом и нотариусом это требование он признал недостойным служителей церкви, а следовательно, невыполнимым. Ренан готовился к борьбе. Дух соперничества разгорелся в нем – тот самый дух, что подогревал всю его жизнь, наполненную коммерческим интересом. Сразить конкурента для него было делом чести, как для Наполеона было делом чести захватить Сарагосу.
– Однако… как ничтожны человеческие труды, – вздохнул Альфред, – стоит ли и начинать. Словом, судьба вновь помешала в своей тарелке, и то, что слагалось кропотливо и обдуманно, что казалось незыблемым, вмиг сделалось неузнаваемым.
– Холера, хм… какое странное слово, – протянул Альфред, – кажется, греческое? Как вам это нравится: античные боги, погибающие в собственных испражнениях. Н-да. Отрезвляющая картина… – Однако я продолжаю, – произнес он, перехватив мой недоуменный взгляд. Он уже давно оставил ликер и приступил к вину. Мне показалось, что он попросту пьян, – так оно и было. Его вдруг обуяла странная веселость: – В каком году мы с вами живем? Ах да. У нас еще всё впереди. Ха-ха-ха.
Здесь он оправился, налил себе вина и продолжил – довольно связно – так:
– В один прекрасный день, – я хочу сказать, в конце концов, – болезнь сия прокралась в «виноградную ночлежку». Первым почувствовал себя нехорошо тот самый парень в холщовых штанах, которому так удавались непозволительные жесты и которого звали Жан. Озабоченный Александр, заметив знакомые признаки, сообщил Ренану. Тот пошел взглянуть на Жана и после этого сделался задумчив и угрюм. Через несколько дней, несмотря на усилия доктора и тоскливые взгляды приятелей, Жан умер. Вскоре появились и другие заболевшие, и людей объял страх. Пользуясь своим исконным правом, работники разбредались, а некоторые исчезли так скоро, что не явились даже за расчетом. Александр по старой памяти, словно заговоренный, ухаживал за больными, но все остальные хорошо понимали, что, в сущности, снадобье здесь только одно – бегство. Люди уходили, и наконец бегство сделалось всеобщим, так что некому стало уже грузить на подводы готовое вино и ликер.
Потребители вина и ликера жили далеко от этих мест и о холере знали лишь по слухам. Они хотели вина и ликера и требовали этого у содержателей парижских и лионских cafés, те рвали волосы с досады и умоляли поставщиков достать вино и ликер, а последние слали Ренану отчаянные и негодующие письма. Налаженный механизм разваливался, Ренан знал цену эпистолярным любезностям и подсчитывал убытки с той же настойчивостью, что и прибыль. Невозмутимость не покинула его, но он стал безразличен, бесстрастен ко всему, что составляло смысл его жизни. Казалось, что все те раздумья, которые одолевали его в последнее время, были преддверием краха, предчувствием, первым облаком после засухи и очень логично укладывались в линию его судьбы. Он вел прежний образ жизни, не прятался, бродил по своим опустевшим владениям, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться к стонам умирающих, доносившимся из гулких высоких построек. Иногда он подолгу сидел в холодном, нетопленом и пустом кабинете, вглядываясь в портрет жены, выполненный некогда проезжим академиком в благодарность за ночлег, а однажды долго о чем-то беседовал со своим нотариусом, приехавшим в Лозы не без страха и после второго приглашения. Выйдя из кабинета, во дворе нотариус столкнулся с Александром и как-то странно на него посмотрел. Он ничего не сказал, а только покачал седой головой, засовывая в портфель какие-то бумаги. Бумаги эти были завещанием Ренана, в котором он, в случае своей смерти, завещал молодому человеку почти всё то, что у него еще оставалось. Несмотря же на все последние неудачи, оставалось у него главное – имение Ло́зы, обширные виноградники на неплохих землях, пара-тройка складов в Марселе и Маноске и кое-что еще. В лучшие годы всё это приносило ему четыреста тысяч франков чистой прибыли в год, а теперь нужно было только дождаться благоприятной полосы, но это-то и казалось самым трудным. Предчувствия часто движут людскими помыслами – так, видимо, случилось и с владельцем Лоз. Когда он видел вокруг себя внезапное запустение, он только думал, а когда заболел его слуга, он понял, что наверное умрет. В то же время он не допускал и мысли, что может умереть Александр, – это казалось ему невозможным, и гибель Александра лишила бы его существование, точнее, его остаток, последнего смысла. Наитие вполне владело Ренаном, и его замыслы на этот раз двигались рука об руку с тайными капризами судьбы. Дела тем временем становились не просто хуже, а уже прямо никакими. Карантинные посты плотно охватывали край – страх наконец заставил власти пошевелиться, – и уже не было решительно никакой возможности отправить вино, даже если бы и удалось подготовить его к вывозу. Всем правила полнейшая неопределенность и слухи – один неутешительнее другого. Некогда шумное даже и ночью, поместье превратилось в мертвый сад. Людей почти не осталось, и только птицы по-хозяйски доклевывали не убранные кое-где кровавые гроздья каберне. Александр и еще несколько человек – в их числе и старый моряк со сросшимися бровями, тот самый, что угостил когда-то Александра сыром и вином, – продолжали ходить за больными и даже делали кое-что по хозяйству. Александр не испытывал никакого страха перед этим невидимым врагом, и, глядя на него, все прочие приободрились. Если раньше все любили его за нрав, то теперь он внушал подлинное уважение. Эти люди много повидали за свои такие разные жизни, многое схватывали на лету, и их не смущала молодость «монашка».
– Впрочем, – вздохнул Альфред, – спасти удавалось очень и очень немногих – единицы, да и то неизвестно, спасли ли их, или же они сами выздоровели, кто это может знать? Как-то раз в усадьбу с соседнего поста привезли молоденького кавалеристского сублейтенанта – вот его они тоже выходили. Боже мой. Или это только так кажется? Как бы то ни было, какой злой мальчик!
– Однако, – заметил Альфред, потирая лицо рукой, – я велеречив. – Он залпом осушил бокал. – Я становлюсь утомителен. Но вы желали слушать – извольте.
Я жестом пригласил его продолжать и дальше услышал следующее:
– Предчувствия не обманули Ренана – однажды он ощутил подозрительную слабость. Надежда еще шевелилась в нем, но скоро сомнений уже не оставалось. Тогда он призвал Александра к себе, и нотариус огласил завещание. Всё движимое и недвижимое имущество, за исключением самой малости, которая отошла соседнему кюре, с которым Ренан был некогда дружен, доставалось Александру де Вельду. Александр еще не понял хорошенько, какой поворот произошел в его судьбе, что́ именно она вложила ему в руку теплым осенним вечером вместе с листами зеленой бумаги, но он сообразил, что возражать было бы нелепо, возражать – значило отвергнуть нечто такое, что было пока непонятно, но что было крайне важно этому лысому умирающему человеку, воля которого еще светилась в успокоившихся глазах. Единственное, чего не хотел Александр, так это того, чтобы его величали фамилией аббата де Вельд. Нотариус попытался было объяснить, что времени почти нет и что это крайне важная юридическая зацепка, но Ренан решил дело еще проще: «Сынок, – ласково сказал он, – это имя пригодится тебе в жизни куда больше, чем моя буржуазная кличка». Александр смирился. Он чувствовал, что еще на очень многие вопросы придется дать внятные ответы – со временем и самому. «Ты должен жить, – сказал Ренан, приподнимаясь на подушках, – а потом работать. Ты умеешь работать». Александр понял это как вторую, не отображенную на бумаге, часть завещания – хотя, конечно, сама бумага являлась отражением этой второй части.
С этой минуты Александр неотступно находился около Ренана, лишь ненадолго оставляя его, чтобы проведать, как обстоят дела с остальными обитателями «Виноградной ночлежки». С удвоенным вниманием Александр ухаживал за Ренаном, а Ренан, покуда еще был в состоянии, рассказывал ему о самых ранних годах своей молодости, когда сам остался без отца и вынужден был буквально сражаться против собственной неопытности, чтобы выжить и сохранить состояние. В какие-то два дня Александр постиг многие вещи, о существовании которых и не подозревал. Ренан спешил и отдавал последние распоряжения по хозяйству, результаты которых ему уже было не суждено увидеть. Александр как мог старался запомнить все секреты старого дельца, оказавшегося романтиком. Несмотря на все молитвы Александра, Ренану становилось все хуже и хуже и еще спустя сутки его не стало. – Альфред снова выпил целый бокал. – Всё имеет свой конец, – вздохнул он, – и даже человеческая жизнь, что всего более удивляет. Не правда ли, это должно удивлять? – отнесся он ко мне совсем уже нетрезвым тоном. – Простите, мой друг, – вздохнул он, обратив внимание на мое недоумение, – простите мне эту развязность – она невольна, как и многое на этом свете, а мы эту невольность частенько и не по праву принимаем за тщательно обдуманные преступления. – Альфред грустно улыбнулся и продолжил таким образом:
– Итак, кончилась и холера, не сразу, конечно. Мало-помалу всё возвращалось к привычной жизни, всех одолевали повседневные заботы, и людей не сжигали больше вперемежку с кучами хвороста, а хоронили с достоинством по христианскому обряду. Александр был просто раздавлен свалившимся на него – уж и не знаю, как сказать, – счастьем ли… – Альфред задумался на секунду, – да, пожалуй. Наверное счастьем. Хотя правильнее было бы назвать это просто переменой. Он плохо понимал тогда цену вещей, это теперь он ее вполне понимает. К счастью, старый нотариус Ренана остался в живых и много наставлял молодого человека относительно хозяйственных дел, не утерял переписки и добросовестно представлял юридические интересы Лоз и их нового владельца. Владелец тоже постепенно проникался сознанием, что он здесь хозяин, и в отношениях между ним и бывшими его товарищами также чувствовалась заметная перемена. Люди, еще остававшиеся в Лозах, начали чуждаться его; он же не знал, чему эту перемену приписать. Нотариусу пришлась не по душе та видимая простота, которую Александр выказывал всем без разбору, и он не раз замечал ему свое неудовольствие. Но еще большее недоумение, ужас и смятение вызвало в душе старика стремление Александра поделить первые же полученные деньги поровну между всем населением своего поместья. Напрасно нотариус хватался за голову и доказывал молодому человеку, что подобная блажь только навредит хозяйству, – кое с чем Александр соглашался, а кое с чем и нет. Да что нотариус! Сами работники в полнейшем изумлении наблюдали однажды за тем, как Александр и не подумал переодеться к приезду одного полицейского чина, да так и принял его в своей рясе, чем поверг чина в непроходимую досаду. Чиновник всерьез решил, что перед ним ломают комедию, обиделся и долго не желал верить, что этот сопливый замухрышка и есть обладатель такого изрядного состояния. Наконец не без труда нотариус разъяснил дело, а жандарм долго еще тряс головой и, сидя в коляске, предчувствовал неисчислимые беды для закона и порядка, которые имеют случиться в подопечной ему округе с воцарением в Лозах столь непостижимого человека. Если при Ренане власти, с которыми он умел ладить, предусмотрительно задобренные им, смотрели сквозь пальцы на некоторые вольности, бытовавшие в его владениях, то теперь полицейский начальник подозревал уже просто социализм. Социализм – знакомо вам это слово? Оно нынче в большой моде у нас. Впрочем, не в словах дело. Прекрасная идея, не подкрепленная ничем, кроме страстных желаний. Ха-ха-ха, – вдруг дико захохотал Альфред.
– Что с вами? – испуганно поднялся я. Альфред пьянел на глазах. Он указал мне на пол, отделанный кафельным домино:
– Взгляните, какая шутка: два цвета смерти – черный и белый, потому что люди так и не разобрались еще, печалиться ли им, когда она приходит, или радоваться.
Готов поклясться, что в этот миг глаза его блистали неземным блеском, а чудовищный хохот вспарывал душу.
– Ах, вы меня пугаете, – сказал я. – Кажется, сегодня мы хороним меня, а не вас.
Альфред потер лицо и, словно не замечая моих слов, продолжил так:
– Сомнения чиновника, надо сказать, имели под собою буквально все основания, и даже больше. Кое-как хозяйство налаживалось, и следующий урожай был собран и переработан. Солнца было много тем летом, и виноград был полон сахаром. Народ, прослышав про то, что порядки в Лозах после холеры ничуть не изменились, а стали только причудливее, стекался на работы, и машина снова закрутилась. У работников был теперь свой доктор, а для их детей устраивалась школа. Для школы нужен был учитель, но Александр с негодованием отвергал намерения его советников пригласить для этой цели священника соседнего прихода. Эта мысль казалась ему кощунственной, и немой кошмар пережитого вставал у него в глазах. Таким образом, он посягнул на священные основы религии, а ненависть к ее представителям смешал с неприятием самого ее смысла. Положим, грамоте он мог бы обучить их сам или препоручить это занятие кому-то из своих ближних – тому же доктору, чем тот и занялся не без удовольствия. Это был такой же молодой человек, недавно выпущенный медицинским отделением одного из университетов и не боявшийся провинции с таким полем деятельности, каким оказалась «виноградная ночлежка». Но ведь существовало нечто, для чего и изучают грамоту, для чего эта самая грамота служит лишь обрамлением, средством, ланцетом в руке хирурга, и Александр догадывался об этом. Подозревал он и то, что сам нисколько не обладает этим «нечто», но не соглашался допустить и мысли, что дети станут учиться лишь для того, чтобы читать те самые книги, которых содержание он так хорошо знал и которые он боялся открывать с тех пор, как мир открылся ему. Ненависть, которая в свое время так неожиданно его посетила и испугала, чудовищное ханжество его воспитателей, видимая структура мира лишили его страха и ощущения того Бога, которого он знал и верил в его разумность и незыблемость, как в солнце. Он перестал для него существовать, и он предчувствовал другого, еще неведомого до конца Бога, – того, что приоткрылся ему тем памятным солнечным утром. Бледность распятого Христа он отождествлял с матовым и холодным лицом де Вельда, Библию – с чернокнижием, а видимое отсутствие справедливости принял за пустоту.
Он понимал, что и ему самому надобно учиться вместе с теми детьми, для которых затеивалась школа. Как-то ему пришлось побывать вместе со своим нотариусом в Марселе. Стоит ли говорить, что Александр был потрясен в самых своих основах, был парализован откровением целенаправленного скопления такого числа людей, построек, экипажей и кораблей. Корабли, которых, словно белокрылых птиц, ласкало на своей поверхности морщинистое море, волнующий особый загар матросов, чарующий запах простора и щемящее чувство неизвестности – куда уж реальнее. Александр вернулся в Ло́зы одетый, к несказанной радости нотариуса, если не щегольски, то… Во всяком случае, хотя сюртук и напоминал по цвету и покрою сброшенную рясу, но это было уже платье. Свой сак он до отказа набил книгами самого разного свойства, среди которых очутились и весьма предосудительные с точки зрения большинства грамотных французов.
Если прежде Александр считал своим долгом и потребностью ежедневно разделять труды своих работников, то наконец он задумался о том, что ему теперь придется выполнять иную работу. Но по возвращении из Марселя и эти заботы были оставлены на время – Александр читал. Удивительные для его сознания вещи, описанные в книгах, причудливо переплетались у него с непреходящими впечатлениями, полученными в большом городе у моря. Читая и живя, он ощутил сладость добычи, как в то запретное утро, когда воровал груши и персики в чужом саду, почувствовал грацию кокетства, которое вспоминалось ему игрой розовых ленточек на шляпках горожанок, почувствовал прелесть лукавства, непонятную обязательность лицемерия, выгоду хитрости – необходимость греха. Тогда ему стало ясно, что надо видеть этот мир таким, каков он есть, – перламутровым и другим, глубоким и гибким, благодатным, залитым солнцем от края и до края, прекрасным, как сказка без начала и конца, набирать его полные ладони и отдаваться его чарующему движению. Попытки людей со строгими лицами упорядочить этот мир, не касаясь до него, создать с него убогий и душный слепок, увести в области отвлеченного то, что сделалось ему вдруг так просто и пронзительно ясно, показались ему нелепым недоразумением. Он понял ничтожество человека и ничтожество его смирения, ибо перед каплей росы, дрожащей в трилистнике, следует не смиряться, а радоваться ей, и он ощущал, что постижение этой радости никак не сравнимо с религиозным экстазом провансальской вдовы или с мерными шагами причетника, шаркающего по стертым каменным плитам монастырского собора, – жалкое подобие вечности. Ибо эта капля была всем миром, и весь мир был в этой капле – весь без остатка, и даже отец де Вельд, и лягушачьи лапки, выдаваемые за мощи, и неподвижные распятия, и деревянные истуканы – языческие кумиры, истреблявшиеся, словно сорняки, на тщательно возделанном огороде человеческого страха перед самим собой. Теперь уже Царство Божие в исполнении де Вельда – этот гимн небытию – не манило Александра, и он думал о том, что если б не было на свете ни рожающих друг друга людей, ни очаровательных красок, ни бесшумного движения природы, если бы все были монахами и носили черные одежды, на которых не заметна грязь, то мир походил бы на сарай, уставленный бесчисленными и пыльными бутылками с шартрезом.
– Кстати, – усмехнулся Альфред, – вам никогда не приходило в голову, что ангелов изгоняют не за низость естества, а за неразумие?
Я не знал, что отвечать, и молчал.
* * *
– В это самое время события развернулись следующим образом. Как я уже имел честь сообщить вам, холера прекратилась. Однажды в Лозах получили письмо из Марселя от некоего Леру, торгового агента, который пережидал эпидемию вдали от дома, а вернувшись, обнаружил на своем складе значительные запасы шартреза, сделанные, видимо, еще покойным Ренаном. Леру спрашивал, как с ними поступить. «Продавать», – отвечал Александр. Напиток, ставший любимым лакомством многих горожан, снова поступил в продажу. Картезианцы были чрезвычайно смущены открытием, что у них опять появились конкуренты, забили тревогу и навели справки, откуда именно исходит угроза их благосостоянию. Не теряя времени, монахи затеяли новый процесс и притянули к суду теперь уже Александра, даже не зная хорошенько, что́ он за птица. Их требование по-прежнему сводилось к тому, чтобы обязать его выставлять на своих бутылках надпись: Imitation de la chartreuse, т. е. «Подделка под шартрез». Наперсник молодого человека – нотариус – подробно развил перед ним все сложности защиты и говорил прямо, что сомневается в успехе. Замечал и то, что нет лишних денег на адвокатские гонорары. Александр смотрел на дело совсем другими глазами. Он успокоил своего опытного друга и сообщил ему, что по счастливому стечению обстоятельств сам является своим адвокатом. С этими словами он взял перо, подвинул к себе лист бумаги и после недолгого размышления принялся неторопливо заполнять белое пространство чернильной вязью. В легкой приятельской манере Александр убеждал приора отказаться от своих требований, между делом непринужденно намекая на это в таких выражениях, которые живо напоминали де Вельду нелестные для его репутации происшествия последних полутора лет. Он давал понять, что узнал в русском консульстве то, что должен был узнать по праву рождения, и что в любой момент готов предать огласке чудовищные махинации церкви с живыми людьми. Писал – хотя это было и не так, – что история его жизни стала ему известна от людей, готовых под присягой подтвердить свою правдивость, и не жалея красок подробно живописал последствия скандала, который неминуемо разразится, если дело по поводу популярного напитка дойдет до суда. Эти подробности были заимствованы из одного весьма кстати попавшегося романа, с помощью которого наш падший ангел восполнял пробелы своего образования.
«Дорогой отец, – завершал он не без иронии, – согласитесь, что было бы неслыханным кощунством выносить тайны чисто семейной истории на обозрение публики. Давайте же не будем позорить наше славное имя и закончим это неприятное дело так, как и подобает людям, для которых заветы христианства суть не просто звук, а непреложные правила существования. Остаюсь преданный Вам сын
Александр де Вельд»
Проделав всё это, Александр припомнил, каков собою герб на одном из перстней его названого отца, и изобразил его на бумаге. Среди пестрого люда «виноградной ночлежки» имелись мастера на все руки, и не составило труда отыскать человека, владеющего искусством резьбы. Очень скоро в руках у Александра оказался перстень точь-в-точь такой, какой он сотни раз видел на пальце своего благодетеля, склоняясь к его холеной руке для сыновнего поцелуя. Некоторые детали герба должны были указывать на то, что далекий и славный предок его нынешнего обладателя был в числе тех, кто в 1273 году избрал графа Рудольфа германским императором. Довольно насвистывая, Александр запечатал конверт этим самым перстнем, тем самым давая понять, что и он допускает свою причастность к столь древнему роду, славному такими-то делами. Мне, увы, неизвестно, какое впечатление произвело это послание на душу де Вельда, но знаю, что́ тело претерпело. Впрочем, одно без другого не страдает. С ним случился удар, и после продолжительной болезни он был способен передвигаться только при поддержке двух прислужников. Подавленный такими неожиданностями, которые оказалась не в состоянии перебороть его крепкая натура, он едва ли не впервые в жизни растерялся и отступил. Блеф удался на славу, шартрез расходился отлично, однако Александр, начав с обороны, сам перешел в наступление, как это часто случается. Он не вынашивал никаких планов мести и с ужасом оглядывался назад, но коль скоро картезианцы напомнили о своем существовании, Александр решил не щадить их, тем более, что этого требовали его торговые интересы. Как-то раз, пролистывая один труд по естествознанию, он натолкнулся на описание чудесных свойств фосфора и тут же попросил достать на пробу этого вещества. Фосфор доставили, и Александр воочию убедился в том, что в темноте фосфор являет собой удивительное и загадочное зрелище. Тогда Александр без промедления начал учиться верховой езде. От природы ловкий, он в самом скором времени уже недурно держался в седле. Одновременно он списался с Леру и узнал от него, кто участвует в торговле с картезианцами, куда и как часто последние возят свой товар и по каким дорогам передвигаются. После этого он отобрал из своих работников человек шесть-семь отчаянных головорезов, и весь день в каретном сарае шли деятельные приготовления, которые человеку сведущему напомнили бы рабочую комнату парижской модистки. Вечером, когда начало темнеть, вооруженные косами, тихо и незаметно Александр и его люди выбрались из Лоз и собрались через полчаса на большой дороге. Все участники предприятия были налицо, и маленький отряд быстро удалялся в сторону Монперадье.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.