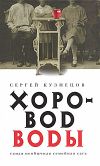Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Безумие, как выяснилось позже, затянулось надолго, а наука тогда была больна Востоком. Туда обращались все пристальные взоры, самые пытливые умы искали ответы на вечные вопросы, штудируя рукописи, заполненные арабской вязью, и многие экспедиции прилеплялись к торговым предприятиям, как раковины моллюсков к днищам морских судов, и исчезали на раскаленных солнцем неведомых пространствах. Тревельян не был исключением. Целью настоящего его путешествия была религия огнепоклонников. Густав воспламенялся, посвящая меня в свои планы, тем более, – тут Троссер скромно улыбнулся, – что в моем лице он обрел не только благодарного слушателя, но и… занимательного собеседника.
«– Вообразите себе веру, – пылко восклицал Тревельян, – которая существует уже три тысячи лет, которая уже славила мир задолго до рождества Христова и не утратила до сего дня своей первозданной свежести, прелести невинности, веру, исполненную детским восхищением перед жизнью и мудрым и зрелым осознанием ее. Представьте веру, свободную от кровавой нетерпимости нашей религии, чьи благородные принципы так же ясны и велики, как ясно небо, под которым горят неугасимые священные огни. Младшие братья ее – христианство и ислам, а Зороастр – вот вам первый гуманист…
– Да вы, честное слово, еретик, язычник, – смеялся я, восхищенно внимая Густаву.
– Друг мой, – устало вздыхал он, – чего может бояться ученый?»
Я, заражаясь его увлеченностью, рисовал в своем воображении древние храмы, занесенные песками, следы своих сапог в горячей пыли веков, гаремы, полные задумчивых красавиц с огромными глазами, черными и влажными, словно цветы бугенвиля за минуту до рассвета, магов в остроконечных шапках, священные книги, в которых таится мудрость столетий, и целые пригоршни драгоценных камней уже сверкали в моих ладонях.
«Вас далеко заводят ваши мечты, – подтрунивал надо мной Тревельян, – ведь для того, чтобы разбогатеть, достаточно разок ограбить англичан».
Тем временем мы прибыли в Тунис. Стоянка позволила нам с моим новым приятелем устроить небольшой набег на город. Танжер поразил меня грязью кривых улочек, глинобитной архитектурой, пронзительными криками ослов и гамом их погонщиков, устойчивым запахом масла, на котором пекли просяные лепешки, и если бы ко всему этому не примешивался божественный аромат кофе, то мое воображение постигло бы чудовищное разочарование. Запах кофе – волнующий, бодрящий – был, пожалуй, единственным, что более или менее соотносилось с моим сказочным видением Востока. Тревельяна, напротив, ничто не удивляло, ничего не смущало и не разочаровывало – с необычайной целеустремленностью он рыскал по грязному городу. Его усилия увенчались успехом. Пока мы с Брюшоном гадали, что́ может скрываться за каждой встречной паранджой, Тревельян на нескончаемом базаре выменял у торговца древностями, а заодно и прорицателя, два потрепанных свитка, отдав взамен свою сорочку. Вернувшись на «Аванти» в одном сюртуке, он надолго засел за изучение своей добычи. Мы пополнили запасы воды и снова устремились к Гибралтару – корабли просились в открытый океан.
* * *
Гибралтар мы проскочили в темноте незамеченными, и скоро я смог гордиться тем, что имел полное право украсить свое ухо серьгой – как человек, обогнувший мыс Доброй Надежды. Тут и подоспели события, еще раз за этот короткий срок перевернувшие все мои надежды и упования.
Как-то с флагманского корабля заметили английское судно, шедшее без конвоя, который, вероятно, отстал в тумане. Судно было окружено и сдалось после нескольких пушечных выстрелов. В этот день нам необыкновенно повезло, ибо мы захватили значительные суммы колониальных доходов, за которыми из Англии трижды в год снаряжались особые рейсы. Сундуки и бочки с золотом перетащили на «Св. Этьена», под присмотр самого Лепажа. Эта удача смутила меня подозрительной легкостью, а бескровная победа вызвала самые обоснованные подозрения. Англичанин совсем не сопротивлялся, и это обстоятельство, как я смог разузнать, пришлось очень не по душе и Брюшону и прочим его офицерам. Наши опасения оправдались, не успели мы завершить погрузку и рассовать пленную команду по трюмам. В голове нашей стройной колонны, в середину которой был помещен захваченный галион, произошли непонятные мне перемещения, колонна расстроилась, послышалась пушечная пальба, очумелые матросы забегали по палубе, и Брюшон бешено что-то кричал с капитанского мостика. «Аванти» вздрогнул, заскрипел и стал разворачиваться – это мы наткнулись в тумане на тот самый конвой, о близости которого Лепаж так легкомысленно забыл. Вражеские корабли выросли из тумана слева по борту, как призраки. Увы, я не моряк, и поэтому мне мало были понятны все эти маневры. Помню только грохот всё сметающих ураганных залпов, помню, как ядро свалило Брюшона, как с треском обрушилась нам на головы фок-мачта и как свирепо вгрызлись в борт абордажные крючья. Я понял лишь, что настало время оправдывать значение громких слов в наскоро подписанном договоре. Английская пехота ворвалась на верхнюю палубу, и завязалась отчаянная, но короткая схватка. Оттесненные к корме, мы дрались упорно, остервенело оспаривая свои жизни, обливая друг друга грязью ругательств и брани. Мой клинок снова и снова погружался в чьи-то податливые тела, пока мне не прострелили руку, после чего я был уже весь исколот…
Когда я очнулся, вокруг было темно, как в аду. Мерное покачивание, однако, дало мне понять, что до этого еще далеко, а близкий плеск воды указывал мне, что нахожусь я в трюме. Постепенно глаза привыкли к темени, и я стал различать силуэты предметов: вокруг громоздились бочки, мешки и огромные ящики. Я пошевелился и ощутил, что мои раны перевязаны. Боль выдавила из меня приглушенный стон, и на этот стон в стороне от меня вдруг зашевелилось несколько фигур. Они окликнули меня, и я, борясь с качкой, перелезая мешки и то и дело падая, пробрался в их угол. Вглядевшись, я узнал двоих матросов с «Аванти» и разглядел еще несколько незнакомых людей, по виду, впрочем, французов. Тут же на груде окровавленного тряпья выделялся неподвижный знакомый силуэт и неровные очертанья взлохмаченной головы. «Тревельян!» – мелькнула у меня мысль. Я склонился над ним.
«– Где мы? – обратился я к матросам.
– У этих проклятых англичан, – проговорил один из них, мрачно сплюнув табачной жвачкой».
В этот момент взвизгнула крышка люка, и полоса света пробежалась по лицам моих товарищей. В трюм спустился доктор в сопровождении офицера и двух матросов, поставивших два кувшина и корзину с сухарями.
«Где умирающий?» – спросил офицер на ломаном французском языке.
«Умирающий? Кто это здесь умирающий?» – оглянулся я и тут только понял, что они имеют в виду беднягу Тревельяна. Мы расступились, освобождая проход. Врач взял в свою руку руку Тревельяна и что-то сказал по-английски своему спутнику. Тот поморщился и отрицательно покачал головой.
«– Простите, – вмешался я, – но этот человек ничем не провинился. Он ученый, к тому же немец…
– К чему вы это говорите? – возразил офицер, – он всё равно умрет.
– Ну, так поднимите его на свет.
– Это невозможно, – пожал плечами он».
В эту секунду Густав зашевелился на своих тряпках.
«– Это невозможно, говорите вы? – раздался в темноте его слабый голос. – А что возможно? Где мои книги, где рукописи? Где они? Я прошу вернуть их мне.
– Сожалею, но мне ничего не известно о ваших книгах, – отрезал офицер. – Думать надо было раньше, на берегу. Но если мы и наткнемся на них, то уничтожим именем Его величества короля эти ваши книги. От ваших книг несет революцией и беззаконием».
На этих словах офицера Тревельян дико расхохотался:
«Доктор! Где доктор? – отыскав глазами врача, он сжал его запястье холодеющими пальцами. – Доктор, вы же образованный человек, вы давали клятву… вы европеец, ученый, наконец, поймите, что эти книги не мне нужны, они всем необходимы… Найдите их, заклинаю вас, не дайте им погибнуть в матросском гальюне, сохраните… Погодите, вот Томас Хайд, он тоже англичанин, как и вы, “История религии древних персов, парфян и мидян”. Это знаменитый труд и принадлежит перу вашего соотечественника».
Ни словечка не понявший из этой тирады, доктор с усилием и видимым неудовольствием высвободил свою руку и молчал, отойдя поближе к люку. Офицер сказал что-то доктору и обратился к Тревельяну:
«– Нужен вам священник?
– Пошлите его к черту, – отвернулся Тревельян».
Через минуту крышка захлопнулась, на много недель оставив нас в полной темноте. Я не буду утомлять вас ненужными подробностями этого ужасающего перехода, скажу лишь, что англичане рановато распрощались с моим Густавом. Кое-кто из наших действительно умерли, однако Густав пережил весь этот кошмар. В трюме висел отвратительный смрад испражнений, гноящихся ран, вода плескалась у самых ног, порою достигая щиколоток, а в ней плавали дохлые крысы, щепа, обрывки материи и прочая гадость. Густав напрасно грешил на доктора. Тот хоть и не отыскал никаких книг, но о клятве своей не забывал и дважды спускался в нашу клоаку, чтобы сменить повязки тем, кому это еще требовалось.
* * *
Однажды, уж и не знаю, было ли то утро или вечер, потому что мы полностью утеряли счет дням и ночам и просто перестали их различать, на палубе над нами раздались крики, сигналы проникли сквозь толщу досок и пушечный выстрел потряс корпус судна, а тошнотворная качка сменилась блаженным покоем. Крышка люка отлетела в сторону, и нас подняли на свет божий. Солнце обрушилось на нас и надолго ослепило. Вы не можете представить, что за жалкую картину являли мы собой, шатаясь на палубе в кольце веселых, дочерна загоревших матросов. Впрочем, наши пепельно-зеленые лица вызвали у них толику участия, как это было написано в их любопытных взглядах. Нас свели на незнакомый берег, и от конвойных солдат мы узнали, что находимся в Бомбее. Сил огорчаться мы уже не имели, так что это известие произвело на нас не слишком значительное действие. Шумный, грязный портовый мир обступил нас со всех сторон, а когда мы выбрались на улицу, новые впечатления обрушились на нас. В отличие от французов, англичане неузнаваемо изменяли самый внешний вид своих колоний. Бомбей поражал обилием высоких зданий европейской архитектуры; улицы, по которым мы едва переставляли распухшие ноги, были широкие, мощеные, но грязные. Целые шайки нищих несколько раз бросались нам наперерез, протягивая незатейливые гирлянды из жасмина. Солдаты разгоняли нищих прикладами, и мы медленно двигались дальше, а острый аромат жасмина преследовал нас на всем протяжении нашего путешествия к бомбейской тюрьме, до приземистого здания которой мы добрались примерно через час. Здесь нам была оказана любезность: нам дали вымыться и почистить платье. После этих процедур, не получив никаких внятных объяснений, которые скорее всего нам и не полагались, мы были препровождены по квадратному коридору до камер с низкими железными дверями. С ужасом мы обнаружили, что помещаться будем по одному. Тюремная комната не представляла собою ничего примечательного. Напротив входа высоко в стене было проделано крохотное окошечко, этакая щель, забранная ржавой решеткой. Если подняться на носки, то можно было наблюдать из него тюремный двор, который преграждался высокой и толстой каменной стеной, усыпанной битым стеклом. Мое окно оказалось выше стены, так что я имел счастливую возможность видеть, что происходило за ней, но там-то как раз ничего и не происходило, а тянулась пыльная пустая улица, по которой только изредка проносились взмыленные рикши. Единственным моим развлечением на многие месяцы сделалось созерцание куста бугенвилиев, который произрастал прямо из тюремной стены, с внешней ее стороны. Живые и сочные, колыхаемые малейшим движением ветерка, белые и розовые легкие гроздья переваливались в этот вытоптанный двор и служили мне отрадным утешением.
День за днем тянулось заключение, и изменений не предвиделось. Я вспомнил, что узникам полагается вести счет дням, проведенным в неволе, и от нечего делать отмечал на стене черточками каждые прожитые сутки. Молодость редко отчаивается, не отчаивался и я. Полутемная комната, устойчивый пол под ногами всё же лучше мокрого, смердящего, могильно черного трюма, сдавленного со всех сторон безумной бездной. Когда стена над моим топчаном сплошь покрылась штрихами и их число перевалило за сто, на пороге моей камеры возник судейский чиновник и пригласил ступать за ним. Меня завели в какой-то кабинет, и чтобы в него попасть, нужно было пересечь двор и войти в другой дом, отличавшийся от тюремной постройки широкими светлыми окнами. Мы шли без конвоя, и это наполнило меня робкой надеждой. Прокурор, который являлся хозяином кабинета, сообщил мне, что я свободен, принес извинения, сам не зная за что, и предложил за счет английской казны отплыть в Европу на первом же английском судне. Похоже, тогда это было самым страстным моим желанием, – старик развел руками и продолжил таким образом: – Другой мечтой было увидеть Тревельяна. В канцелярии мне было объявлено, что их выпустят завтра.
«– Почему же не сегодня, как и меня? – удивился я.
– Процессуальные причины, – учтиво сообщил чиновник».
Мне оставалось лишь посмеяться над этой нелепостью. Заглянув в бумагу об освобождении, я узнал, что на дворе уже 1791 год. На прощанье я получил старый камзол, проеденный молью у самого сердца, и пару вполне крепких башмаков. У прокурора висело зеркало – я мельком взглянул в него и долго озирался в поисках того заросшего бородой человека, но нас в помещении было только двое, и я сообразил, что борода – это я сам.
Чудесное избавление объяснялось просто. Тревельян доказал, что никаких иных целей, кроме сугубо научных, он никогда перед собой не ставил, показал, что нанял меня в Бордо таскать его пожитки и разделять с ним тяготы дальних странствий, а у меня хватило ума ничего на это не возражать. К тому же, никто уже и не мог помнить, был ли я захвачен с оружием в руках, а злополучный договор, как видно, не нашли, потому что он скорее всего сгорел во время абордажа. Тратить драгоценные королевские доходы на наше бессмысленное содержание у властей желания не было, да и преступниками мы казались не бог весть какими. Исполнив все формальности, я очутился на улице, однако идти мне было некуда. Где ж было дождаться утра? Попроситься обратно в камеру? Это решение оказалось выше моих сил. Окажись я опять под этими мрачными сводами, думал я, и тропинка на свободу будет утеряна навсегда. Солнечный свет слепил меня, я жмурился, улыбался тихой улыбкой счастья и благодарил Святую Деву за такой завидный исход.
Грубый пинок заставил меня очнуться – до солнца было высоко, а английский часовой этим почтительным жестом намекнул, что пора убираться и что бесцельно стоять – не лучшее времяпрепровождение в землях Его Величества. Я сделал пару шагов и внезапно понял, что боюсь идти на шумные площади, на улицы, забитые людьми, боюсь идти к людям. И тут мне пришла изумительная мысль – найти ту тихую улочку, пустотой которой я так долго наслаждался, стоя на носках у тюремного окна. Найти ее оказалось совсем просто. Я обогнул здание и уселся под куст бугенвилей. В его тени я и провел остаток дня и ночь, любуясь на черный проем своего бывшего окна. Кто знает, быть может уже новый страдалец моей темницы запечатлел в своей памяти мой силуэт так же надолго, как я занес в свою этот самый куст, как знать… Ночь миновала, и я сжал в объятиях своих товарищей. Тревельян был худ, как жердь, подобно мне зарос рыжей бородой удивительных размеров, но главное, он улыбался, и я заметил, что ему удалось сохранить все зубы, тогда как я расстался с целыми тремя.
Между тем положение наше было вот каково: все французы были решительно настроены на немедленный отъезд, что они и не замедлили совершить за счет английской короны. Я, признаться, не меньше их склонялся к тому же, но дело осложнялось тем, что Тревельян несколько месяцев назад исхлопотал разрешение отправить на родину весточку. И, как это часто случается, отец, узнав о тех ужасных обстоятельствах, в которых оказался его блудный сын, сам испугался собственной суровости, прислал в ответ любезное письмо, в котором сообщал, когда и как отправил некую сумму денег. Таким образом, деньги еще не подошли, и Густав собирался их дожидаться. Меня, как нетрудно уже угадать, он уговаривал остаться с ним до их прибытия. Я долго колебался и наконец решил, что оставить Тревельяна одного было бы непростительно. Итак, проводив тяжелыми вздохами и печальными взглядами английское судно, увозившее приятелей к берегам нашей belle France, мы с Густавом побрели по нечистым портовым улочкам, мимо запыленных домов, в первых этажах которых располагались многочисленные харчевни и кабаки, в любое время дня и ночи набитые цветными босоногими матросами, полные шума, гама, незнакомых наречий, пьяной ругани, визга размалеванных женщин, дыма, чада и копоти. При одном из таких заведений на втором этаже отыскали мы дешевую гостиницу и буквально за гроши, выданные нам английскими властями в виде вспомоществования, наняли там одну малюсенькую комнатку на двоих. А поскольку никакими вещами мы не располагали и помещать в наше жилище нам предстояло лишь самих себя, да и то изрядно похудевших, то устроились мы замечательно. По утрам мы пили кофе, который приносил мальчишка-индус, и смотрели, как мимо нашего единственного окошка неслись на мостовую стремительные потоки помоев с верхних этажей.
«Трудно поверить, но столетие назад в Париже царили подобные нравы», – сказал Тревельян, сбрасывая с подоконника дынную корку.
Наведя справки в порту, мы выяснили, что голландский торговый корабль, на борту которого находился ожидаемый нами человек, должен прибыть недели через две – в нашем распоряжении оказывалось много времени, и мы проводили его в походах по городу. И, конечно, Тревельян не терял его даром. В Бомбее существовала чрезвычайно древняя и многочисленная община огнепоклонников, занимавшая обширный квартал, и некоторые даже утверждали, что этих парсов насчитывают едва ли не четверть всего разноязычного населения города. Потомки Зороастра, согласно объяснениям Густава, переселились в Индию что-то около десятого века по нашему исчислению, спасаясь от мусульманских притеснений и несправедливостей, – основная же их часть по-прежнему жила в Персии. Переселенцы привезли с собой древнейшие манускрипты, в которых запечатлены были принципы их веры, а также пепел от неугасимых священных огней, которые несколько тысячелетий подряд горят на их старой родине.
Знакомство с ними, однако, осложнялось тем, что огнепоклонники, хотя и участвовали довольно деятельно в жизни города, образ жизни исповедовали крайне замкнутый и осторожный и к иноверцам относились с предубеждением, так что не было ровно никакой возможности ни войти в их жилища, ни, тем более, заглянуть в те священные рукописи, которые разыскивал мой друг. А после того, как в 1760 году некий французский ученый, который был отлично известен Тревельяну – мне же это имя ничего не говорило, – заполучил от одного видного жреца из Сурата перевод Авесты, община еще строже блюла свои тайны. Я-то был убежден, что никаких тайн в привычном смысле нет и быть не может, но для Тревельяна всё, связанное с Зороастром, было тайной, и там, где я видел всего лишь обыкновенное старье, его фантазия давала буйные побеги.
Итак, день за днем мы с ним слонялись по улочкам квартала, где обитали зороастрийцы, но наши исследования никак не продвинулись. Даже если Тревельяну удавалось заговорить с кем-нибудь из них, они, узнавая в нас европейцев, обходили молчанием всё то, что могло бы его заинтересовать. Тревельян был близок к отчаянью, но не сдавался. Мне же было любопытно следовать за ним и слушать его объяснения тех сцен, которые представали нашим взорам. Навещали мы и базарные ряды, но здесь встретили серьезных соперников – пожилые джентльмены и английские майоры в пробковых шлемах, дымя трубками, ворошили стеками и элегантными тростями груды старого барахла, тряпья и позеленевшей меди в надежде откопать будущую гордость своей коллекции древностей, любовно размещенной где-нибудь в эдинбургской гостиной, обшитой мореным дубом. К тому же этим господам было, по-видимому, чем платить, тогда как у нас имелась возможность только не умереть с голоду.
Между тем настал день, когда голландский «Антверпен» бросил якорь в бомбейском порту, и мы отыскали того, кому отец Тревельяна доверил передать деньги в городскую тюрьму. Этим посланцем оказался немолодой немецкий купец из Ростока, старый друг Тревельяна-отца, торговавший чаем и пряностями и дважды за год бывавший в Бомбее. Герр Кноспе очень обрадовался тому, что может лично передать посылку, любезно с нами обошелся, расспрашивал о наших злоключениях и предложил вернуться в Европу на «Антверпене», капитан которого являлся его коротким приятелем. «Антверпен» должен был отчалить через месяц, груженый табаком. Денег, полученных Тревельяном от отца, вполне хватало, чтобы оплатить проезд на «Антверпене» и прекрасно провести время до его отплытия. Не скрою, ждать еще месяц показалось мне многовато, но делать было нечего.
В обществе герра Кноспе мы ощутили себя наконец европейцами, а не оборванцами с торгового брига. Знакомство с герром Кноспе, который за многие годы свой торговли хорошо изучил бомбейскую публику, открывало нам двери того общества, куда еще вчера вход нам был заказан. Мы приоделись, наведались в цирюльню, где распрощались со своими страшными бутафорскими бородами, и приобрели вполне приличную внешность геттингенских или оксфордских студентов – это уж как кому нравится, – а вечером сошлись за ужином в ресторации «Бомбей» при гостинице того же названия, которую содержали два ирландца и где стоял герр Кноспе. Это уже было кое-что, даже неугомонный Тревельян получил видимое удовлетворение, очутившись в знакомой обстановке. Увы, если бы это означало и то, что он отказался и от своих нелепых планов!
Между тем герр Кноспе привез множество любопытных новостей. Из английских газет мы уже знали о неудачном бегстве короля и о резне в Париже и Нанси. В общем, безумие продолжалось, и после разговора с Кноспе мы с Тревельяном, пожалуй, впервые за долгое время почувствовали какое-то смутное беспокойство. Мы начинали понимать, что кровопролитие, которым охвачена Франция, разрастается, сулит еще многие годы беспорядков и грозит многими бедами. Франция бурлила, поток эмигрантов, по словам герра Кноспе, захлестнул Гамбург и немало других немецких городов. По словам Кноспе, воевали все, а те, кто еще не воевал, не на шутку готовился к тому же. Я крепко задумался. Нет, нет, не то чтобы мне недоставало патриотизма, скорее наоборот, если мне и недоставало его, так это только тогда, когда речь шла о бессмысленной резне и о гражданской войне. Но, знаете ли, понять – это одно, а повлиять в сложившихся условиях не то что на ход вселенских событий, а пусть на собственную судьбу ни я, ни кто другой не оказался бы в силах. И мне виделось не без оснований, что на родине меня ждет солдатская куртка и ранец. Пускай хоть офицерская, генеральская – всё равно, мне это было не по душе. Я предпочитал занимать позицию разума, которому столь благоволил почитаемый мною Монтень, говоря себе, что спокойствие и чистую совесть никто никогда не поставит мне в преступление. Впрочем, Тревельян с высоты своего знания прошлых эпох смотрел на дело совсем иначе.
«– Дело идет к тому, Ноэль, что очень скоро некоторые лица именно это возведут в ранг преступления такого страшного, что перед ним смолкнет ужас отцеубийства, – хмурился он. – Этим людям кажется, что история – это они, они опьянены призрачными успехами, а сама история их и не заметит и быстро докажет им обратное. Они, словно ботаники, гоняются за бабочками, но, к сожалению, только за теми, которые существуют в их сознании. Не обстоятельства у них во власти, но они во власти обстоятельств. Найдется проходимец… и всё сначала, ибо круг один. А мир… Мир – это не отсеченная голова короля, а молочница, разносящая душистое молоко ранним солнечным утром, дети, резвящиеся на лужайке, дровосек, с котомкой за плечами выходящий из своей хижины на поиски поваленного молнией дуба, умиротворяющее поскрипывание люльки, колыбельная, сопровождающая нежный закат, юная цветочница, продающая букетики ландышей на бульваре Распайль, маленький савояр, присевший отдохнуть в тени старого каштана, озабоченные взгляды старушки, приметившей дырку на простыне, муха, угодившая в тесто, тягучий звон колоколов над Сеной, призывающий к молитве, а не бьющий в набат, шелест книг в старой Сорбонне, брызги лафита, свежий вкус спаржи. Вот что придает миру прочность египетской пирамиды, вот вам вся вечная всемирная история, достойная слов.
– И именно из-за того, что на всех не хватает ни спаржи, ни хлеба, выпеченного из этого теста, происходят революции, – обронил я.
– Увы, – грустно кивнул Густав и добавил, как настоящий историк: – Увы, но этим вы почти ничего не сказали. Государство – это еще не родина».
Скажем прямо, эта мысль была мне очень понятна.
* * *
Однажды вечером мы по обыкновению ужинали в обществе герра Кноспе в ресторации «Бомбей», как вдруг двое молодых офицеров в красных мундирах королевских стрелков приблизились к нашему столу и радостно приветствовали нашего избавителя.
«– А, граф, майор, – в свою очередь оживился тот. – Присаживайтесь, господа, окажите честь.
– Счастливчик, – деланно вздохнул майор, снимая шлем и утирая мокрый лоб. – Сразу видно – из Европы, на вас это просто написано. А у нас всё то же – жара, жара, и еще раз жара».
Кноспе представил нам майора Кэмбелла и лейтенанта графа Радовского, поляка на английской службе, красивого и приятного светловолосого человека лет двадцати пяти. Разговор, как это водится, касался самых общих тем, пока герр Кноспе со свойственной ему лукавой задушевностью не ввел новых знакомых в круг наших проблем.
«– Милый Густав, – ворковал он, – непременно, непременно переговорите с графом, он здесь уже три года и настоящий знаток Востока. Он уж порасскажет вам множество интересных вещей.
– Вы мне льстите, – сдержанно отвечал граф, – возможно ли за три года постичь то, что не удается целой Европе тысячу лет подряд? К тому же, не подобает солдату учить ученого.
– Ну, не знаю, что насчет солдат, – расхохотался Кноспе, – а я бы разрешил этот вопрос так: если что-то не удается, делайте это вместе с деньгами, ха-ха-ха. С деньгами.
– Не так это просто, как кажется, – ответил граф. – Имей вы дело с мусульманами – здесь деньги к месту, а вот парсы – другое. Нет таких людей в целом мире, которые были бы столь скрытны в своей вере, как парсы. Мне жаловался один английский профессор, который чуть не волосы рвал с досады, проведя почти год в Бомбее и Сурате и увозя на родину едва ли не только то, что привез. Видите ли, парсы полагают, что есть две основы вещей, и невозможно, чтобы основа была одна, потому что все вещи бывают двух видов либо двух сущностей, то есть добрые или злые. Потому-то вы и не встретите среди них нищего или нуждающегося – каждый считает своим первейшим долгом борьбу со злом и помогает, как может, тем из своих, кто менее удачлив или же по какой-то причине несчастлив. Думаю, что с ними чего-нибудь путного добьешься скорее, не прибегая ни к каким деньгам. Если вообще чего-нибудь добьешься, – заключил граф.
– Это верно, – согласился майор Кэмбелл, – у меня есть один знакомый парс, он поставляет просо в гарнизон, и я даже бывал у него в доме, но ничего такого я не заметил. Правду сказать, не особенно-то я и приглядывался.
– Зато успели вы заметить, – обратился граф к Тревельяну, – что их женщины никогда не закрывают лиц и ходят свободно?
– Да, это я записал, – откликнулся Густав. – Меня и самого поразило, что они не избегали нас и разговаривали вполне естественно, прямо европейские нравы.
– Ну вот, – улыбнулся майор, – попробуйте с этой стороны».
Тревельян густо покраснел и в ответ лишь грустно улыбнулся.
«– Однако, господа, просим извинить нас, – поднялся Кэмбелл.
– Куда так рано? – удивился Кноспе.
– Нужно явиться к полковнику, – пояснил граф, натягивая перчатки, – послезавтра мы с отрядом отплываем в Бендер-Бушир, на подкрепление тамошнему гарнизону. В Персии ведь опять возмущение.
– Радовский? – поинтересовался Тревельян, когда офицеры удалились. – Разве он англичанин?
– Нет, славянин, вы опять все пропустили, – ответил купец, – польский граф. Сейчас, когда Польши более не существует, много поляков разбрелось по свету в поисках свободы. Радовский вот – волонтер английской армии. Чудачество, на мой взгляд. Но сколько же поляков участвуют во французских смутах, майн готт! Безусловно, наш граф сделал неправильный выбор – самое место для него среди якобинцев, которые обещают возродить Польшу. Имей он на голове не пробковый шлем, а фригийский колпак…
– Как бы Францию саму не пришлось возрождать, – хмуро перебил его Тревельян. – А что, где стоят эти офицеры?»
Кноспе назвал место.
* * *
На следующий день, проснувшись, я обнаружил, что постель Густава пуста. Он объявился лишь под вечер, вид имел возбужденный, метался по комнате, то снимая, то вновь надевая свой камзол.
«– Где вы были? – удивился я.
– Мой друг, – отвечал он, пряча глаза, – мне надобно сказать вам кое-что.
– Что же? – нехорошее предчувствие шевельнулось во мне.
– Видите ли… – замялся он и принялся теребить пуговицу, – видите ли что́…
– Да что́ же?
– Я… я не поеду в Европу, – скороговоркой ответил мой приятель.
– Как? Почему? – вознегодовал я.
– Я отправляюсь в Персию с англичанами, но это еще не все, – он не дал мне перебить себя, – то же я предлагаю и вам.
– Мне? – я расхохотался. – Вы с ума сошли. Что же мне за нужда? Или таскать ваши сундуки с книгами?
– Нет, нет, я не шучу. Вы ведь прекрасно знаете, что никаких сундуков уже нет… Поймите, прошу вас, можете же вы понять, что я не имею права пропустить такой случай. Теперь, когда позади такие испытания, когда цель настолько близка – разве можно отступить? Да и ради чего?
– Как это ради чего? В своем вы уме? Неужели вы не соскучились по родине?
– Как же нет, как раз напротив. Но поймите, когда я отправлялся два года назад, я полагался лишь на удачу. И вот она – эта оказия. Да, я знаю, я очень виноват перед вами, я заставил вас ждать, но простите меня, думал ли я, что выпадет такая возможность. Вот… – Тревельян полез за монетами, – теперь есть даже средства… Не таите обиду… Я виноват перед вами… вот, возьмите, это сделает ваше путешествие приятным, – быстро заговорил он, протягивая мне десяток золотых. – Но все же… Я, конечно, рискую показаться назойливым, однако – поедемте вместе, это займет всего-то несколько месяцев, а потом мы вернемся в Бомбей и на первом же корабле отплывем на родину, обещаю вам. Мне необходим спутник, и я очень привязался к вам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.