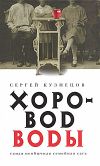Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
«– Смысл обряда, – говорил Тревельян, – заключен в следующем. Последователи Зороастра верят, что существует закон природы, согласно которому солнце движется равномерно. Изначальная весна, таким образом, сменяется летом, оно – осенью, а последняя – зимой. Солнце обеспечивает смену времен года, и тем самым сохраняется незыблемый порядок всего существующего в мире. Мир создан благим и на благо, поэтому и добродетель в человеке – изначальна, как весенний полдень, в который произошел акт творения. Добродетель, справедливость – это естественный порядок вещей. Зло – его нарушение. В молитве они видят исполнение своего долга по поддержанию мира в состоянии устойчивости, порядка и чистоты. Мир был создан совершенным и неизменным, и в этот час солнце, восхищенное замыслом Творца, замерло в зените на небесах, сотворенных каменными, затем чтобы защитить землю своими сводами. По чистой земле, поросшей первой травой, питаемой кристальными ручьями, ходило единотворное животное и питалось этой травой, а в тени первого дерева, распустившего навстречу ласковому солнцу нежные листочки, стоял единственный человек и наслаждался миром. Огонь пронизывал все эти творения и посредством солнца управлял ими. Явления природы суть олицетворения семи божеств, которые явились Зороастру ранним весенним утром, чтобы открыть ему истину и передать завет хранить землю в чистоте, а душу в справедливости единством помысла, действия и… ух… слова.
– Зороастр не разделил бы мнения Иоанна относительно того, что Бог – это любовь. Он считал, что любовь – это Бог, и его последователи вылепливали образ Бога в соответствии с этим представлением, – вставил граф.
– Именно, именно так, – подхватил Тревельян, все более восхищаясь познаниями графа».
Лошадей мы оставили внизу, в селении, и теперь то и дело спотыкались о торчащие из земли камни и время от времени останавливались перевести дух.
«Стояло раннее утро, тронутое первыми солнечными лучами. Зороастр отправился к реке, чтобы набрать воды. Он вошел в реку и постарался взять воду из середины потока. Набрав ее, возвратился на берег. Здесь, в степном мареве, и возникло перед ним видение, открывшее всю правду мира. В присутствии семи божеств, ослепляющих сиянием, пророк не увидел своей тени на земле…»
Наши спутники-зороастрийцы хранили благопристойное молчание и с любопытством прислушивались к назойливому жужжанию чужого языка. Их поднималось на гору семь человек – ровно столько, сколько насчитывалось благих творений и бесконечно добрых, по-детски добрых божеств.
«Суровая действительность подсказала пророку ту мысль, что доброта и справедливость отличны от насилия и жестокости по своей природе. В одну из ночей, исполненных созерцания, он увидел Ахримана, зловредного духа, первопричину всякого зла. Ахриман набросился на мир и принялся вредить ему. Он помутил безупречную небесную твердь, окунулся в воды земные, и там, где проплыл, воды стали солеными, а где промчался вихрем по земле, там стали пустыни. Он иссушил дерево, убил корову, уничтожил человека, а огонь испортил дымом. Тогда божественные существа объединились. Они собрали остатки изувеченного растения, истолкли его в порошок и развеяли по земле, и этот посев дал бесчисленное количество растений; солнце и луна очистили семя быка и человека, и оно породило много скота и людей. Началась великая борьба…»
Стало значительно светлее. Мы поднимались к вершине по тропке, вьющейся среди отрогов большого хребта, нависшего над нами черной крепостной стеной и загородившего солнце, всходившее на другой его стороне, навстречу нам, из-за зубчатых пиков, отрицавших мягкие линии кромки. Небо вдоль нее побледнело – то первые лучи расчищали место своему сюзерену, точно офицеры квартирмейстерской части, высланные вперед, готовят ночлег принцу крови в маленькой деревушке, в которой нет церкви, в доме обезумевшего от счастья лавочника.
«С вторжением Ахримана мир утерял свою изначальную благость и превратился в смесь добра и зла. Божества, явившиеся Зороастру весенним утром, поведали ему, что у человека то же предназначение, что и у них. Все вместе они должны победить зло, изгнать его из мира и вернуть ему первозданную прелесть, придать ему первоначальный вид…»
Меня, скажем откровенно, раздражал этот примитивный дуализм, в котором я с полным основанием усматривал насмешку над христианской мыслью, утонченной восемнадцатью веками изысканного богословия. Поэтому спросил между делом: «А как Зороастр относится к смертоубийству?»
Тем более, что этот вопрос таился у меня под спудом.
«– Допускает, – ответил граф и продолжил так: – Посмотрите, господа, сколько достоинства оставляет эта благородная религия человеку, привыкшему считать себя или рабом, или самим Господом Богом. У высших сил и у человека цель одна, как одна бывает цель у полководца и его армии. Какие же могут быть счеты? Никакого соперничества. Все подчинено одной задаче – восстановить в мире идеал, нарушенный вторжением зла. Справедливость этой религии я усматриваю и в том, что она способна разумно объяснить взаимные отношения людей и богов. Люди считают настолько неприличным вмешивать Бога в свои дела, что попросту лишают его права по прихоти или из сострадания изменять людские судьбы – ведь они являются не чем иным, как результатом, последствиями всеобщей борьбы со злом.
– Совершенно верно, – согласился Густав, – у них не принято просить Бога о чем-либо.
– Разве разумно солдату пенять на командующего, когда он ранен в битве или убит? В этом повинен только враг, и больше никто, – сказал граф.
– Да, – заметил я, – это так, если, конечно, командующий не только заведомо хороший стратег, но и признанный тактик.
– Откуда столько злобы, Ноэль? – Густав внезапно остановился.
– Никакой злобы, никакого соперничества, – откликнулся я, – один лишь разум, не так ли? – Я повернулся к графу.
Он вежливо поклонился:
– Однако не станете же вы отрицать, что этим людям удалось ответить на самый больной человеческий вопрос – чем объяснить те обязательные страдания, которыми полна земная юдоль, почему человек, отдающий всего себя бесконечным нравственным усилиям во славу добродетели, пребывает несчастным и терпит, терпит, а какой-нибудь негодяй получает от жизни удовольствие в полной мере? И они отвечают – не воля Творца повинна в этих страданиях, ибо страдания – необходимость большой войны.
– Я не силен в богословских вопросах, – отделался я. – Быть может, все дело в том, что страждущие возлюбили Господа больше, чем самоё добродетель.
– Слова верные, но не в этом контексте, – возразил граф, – о таких людях я говорил выше. Точнее, ниже, – улыбнулся граф и посмотрел назад. – А сейчас я имел в виду как раз их антиподов – тех, кто, делая добро, даже и не задумывается над этим, потому что добродетель – это тот воздух, которым они дышат, та пища, которой питаются. Многие из таких людей несчастнее остальных. Многие, – прибавил граф, – но не все. Идет война. Промысел ее жесток. Одним везет, а другим нет. Идет война, – повторил он.
– И исход ее предрешен, – вздохнул я, – победит, конечно же, благо. Зачем же она идет?
– Да, – твердо ответил граф моей иронии и усталой недоверчивости, – ибо все завоеватели рано или поздно гибнут. Под тяжестью своих доспехов. Но если им не противостоять, доспехи не покажутся им невыносимыми».
* * *
Некоторое время мы шагали молча. Тревельян широко переставлял ноги, опираясь ладонями о колени, и вертел головой во все стороны, лучистым взглядом изгоняя мрак. Глазами он выбирал место, куда поставить ногу, и осторожно переступал через камни и ветки ползучего кустарника, то и дело выползавшего на тропу, белевшую в темноте россыпями камней. Граф хлыстом постукивал по голенищу элегантного – даром что форменного – сапога и потупился, уйдя во власть размышлений, изредка отбрасывая с дороги встречные камни обрезанными носками своей обуви. Зороастрийцы двигались знакомой тропой легко и свободно, не останавливаясь и не задыхаясь. Я шел и смотрел на людей, созданных сотрудниками и союзниками богов, терпеливо сидящих в засаде на своей собственной родине, в стране, возлюбившей Аллаха большей любовью, чем добродетель, увенчавшей бесплодным символом все свои начинания, и замечал на их спокойных лицах, темной бронзой слившихся с предрассветным сумраком, неизбывную тоску по утерянному праведному миру – по идеалу, который они призваны воссоздать, не надеясь увидеть его в этой жизни, – тоску, скрепленную непоколебимой убежденностью в правоте и нужности каждого своего жеста, в необходимости для мира каждой своей молитвы, каждого слова в ней, ибо порядок этих слов так же незыблем, как и самое неслышное движение мира.
До лысой вершинки, на которой располагалось, если можно так выразиться, капище, оставалось туазов двести, хотя в темноте не трудно было ошибиться. Гасли последние звезды, засидевшиеся на небосводе.
«– Вы спрашиваете о смертоубийстве, – обратился ко мне граф, – греховно ли оно в сознании габров? Послушайте: “Мужи, ездящие быстро, обладающие хорошими конями, призывают меня, будучи окруженными в бою. Я возбуждаю вражду. Я, щедрый Индра. Я вздымаю пыль, моя мощь несокрушима. Я делал всё. Никакая божественная сила не может сдержать меня, неудержимого. Когда глотки сомы, когда песни опьянят меня, тогда устрашаются оба беспредельных пространства”».
– Это из Ригведы, – отметил Тревельян.
– Вот слова Ахримана, символ веры сатаны. Все эти мужи, положившие себе делом чести ограбить старика, убить ребенка, обесчестить женщину, сжечь селение, угнать табун, обрекая на голодную смерть целое племя, отнять свободу у побежденных… Красивые слова, ничего не скажешь, – прервался вдруг граф, – их мощь завораживает, их обаяние манит, обаяние силы… отвратительность насилия… Кто же защитит маленьких детей, кто убережет женщин и стариков, себя самого, в конце концов? Можно ли уничтожить таких мужей, или следует простить им? Только сам человек может избавить себя от посягательств этих мужей. Такие вот мужи бряцали копьями по всей Европе, возлагали друг другу на головы нелепые куски железа, громко именовавшиеся коронами, а на самом деле выглядевшие насмешкой над терновым венцом Господа, во имя которого оскверняли огонь человеческой плотью, унизывали пальцы перстнями, каждый из которых имел такую цену, что мог спасти от смерти десятки голодных, решали, кому жить, а кому не жить, а сейчас Европа кишит их потомками – потомками феодальных баронов, – правда, уже не способными “ездить быстро”, но еще “обладающими хорошими конями”, отнятыми у других, умеющими ныне только быстро жевать, но всё еще ведущими не обузданное совестью существование. Против их власти сейчас восстал народ во Франции, их утопит в крови… Зороастр создал свою религию, когда увидел мир, прекрасный мир, залитым кровью, солнцем и кровью, когда ради медной фибулы отнимали жизнь, когда эти мужи, не имеющие силы духа схватиться с богами, похвалялись друг перед другом числом скота, отбитого у соседей, а люди, чьими руками был выращен этот скот, оставались умирать в заснеженной степи».
Граф казался человеком скрытых страстей. Вся эта тирада, довольно напряженная, была произнесена вполголоса, и оратор задрапировал свое чувство светской небрежностью, равномерным постукиванием хлыста по голенищу, но оно прорывалось на доли секунды сквозь эту кисею несдержанными ударами хлыста, нарушавшими общий ритм. Первые лучи солнца, встающего нам навстречу, уже перевалились через верхний предел хребта, точно мальчишки, опирающие рваные локти на забор вожделенного сада.
«– Или продолжали ухаживать за тем же скотом, но уже в новом качестве, – продолжил Тревельян. – Однако как же удивительно, что для зашиты угнетенных во Франции приходится покончить с религией – там отказали ей в существовании, а в те далекие времена для той же самой цели религию создали, причем религию, очень близкую по этике.
– Жизнь циклична, – сказал граф, подумав. – Не замечали?
– Нет, – ответил я, а Густав усмехнулся моей поспешности».
От площадки наше шествие отделяло уже несколько шагов, и маги, ушедшие вперед, разложили на просветлевшей земле пестик ступки, горшок с тлеющими углями и горшок с водой – словом, всю свою дароносицу, – когда дальний гребень вдруг окрасился приглушенным багрянцем, еще через минуту заалел, а потом горячее солнце распрямилось и обрушилось всей своей расплывчатой громадой; диск его, необратимо выплывающий из-за горы, задрожал в просиявших небесах, обрушился на каждый застывший камень, на каждый притихший в счастливой истоме дубовый лист, на замершие горы, на остановившихся, переставших думать людей. Зрелище было настолько великолепно, что все мы сделали невольный шаг по направлению к этой родившейся жизни и даже прикрыли лица ладонями, словно испугавшись, что вот-вот светило стечет с утренней лазури и зальет землю расплавленной лавой, в которой – по зороастрийским представлениям – должны погибнуть грешники в день страшного суда. Я оглянулся – за спиной, в вышине, очищенное от мрака небо искрилось под солнцем голубым хрусталем.
«И впрямь твердь небесная», – заметил Тревельян графу.
Тот сощурился, кивнул головой и вышел на самый откос, заглядывая в бездну, захваченную врасплох солнечными лучами. Он следил за восходом, как будто видел такую картину, виденную сотни раз, впервые в жизни, а я против воли залюбовался одинокой человеческой фигурой, резко очерченной на черном еще выступе скалы. Его облик был свободен от той холодной суровости, какой исполнены потомки Зигфрида, и той мешковатой простоты, какая отличает их северных собратьев. Он стоял, пронизанный бесчисленными лучами. Распущенные льняные волосы как будто вспушил легкий отсвет восхода, они тысячами позлащенных нитей трепетали вокруг головы, напоминая божественное сияние нимба. А где-то там, на далекой родине, статуи божеств раскалывались, сброшенные с пьедесталов разъяренным народом, рушились молельни, и храмы ветшали в одну секунду. Я не мешал графу отдаваться впечатлениям и с восторгом угадывал те приветствия, которыми на моих глазах обменялись Природа и человек. Что ж, нередко случается так, что новообращенный превосходит своей одержимостью того, кто приоткрыл перед ним тайны веры. Послушник святее папы, а папа святее Бога. Клянусь, Делакруа отдал бы руку, чтобы только оставшейся запечатлеть эту завораживающую картину. В ней художник нашел бы всё для своего холста: и буйство души, и величие ландшафта, и непередаваемые краски, и современника, и магов, одной ногой стоящих в прошлом тысячелетии, – здесь не было как всегда только одного: зримого Бога.
Через несколько минут граф снова зашел за строй жрецов, которые распустили свои пояса-кисти и презрительно ими махали, провожая зло, и встал рядом со мной.
«Вы верите в Бога?» – почему-то спросил я.
Его лицо, хранившее еще печать неземных ощущений, отчетливый след эманации, вновь приобрело свое непроницаемое спокойствие.
«Вольтер не велит», – рассмеялся он.
* * *
Между тем день занялся. Настоящий, жаркий, пыльный день; свежесть утра утекла вместе с прохладной мглой и туманами, невесомыми вуалями, свернувшимися в ущельях. Очарование междуцарствия длилось недолго. Обряд подошел к концу, и зороастрийцы собрались спуститься в селение. Бессонная ночь давала о себе знать – религиозный экстаз сменялся усталостью, внимание рассеялось, и разговоры прекратились. Мы молча ступали друг за другом, топча извилистые тени, которыми обросли елочки эфедры – единственное украшение склона. Испуганные суслики разбегались в разные стороны по своим норкам, уходившим в сырую землю черными косыми впадинами. Тропинка сделала крутой зигзаг, и внизу мы увидели деревню, расчлененную на два неправильных полукружия волнистой лентой дороги. Башня возвышалась над плотно притиснутыми друг к дружке саклями, словно кувшин рядом с расколотым блюдом. Крохотные фигурки людей, уже копошившихся на разноцветных и неровных заплатах полей, шевелились светлыми червяками.
Спуск занял около часа, и к этому времени солнце, не сдерживаемое ни единым облачком, уже жгло нестерпимо. С последнего пригорка нам стало видно, как люди бросают свои занятия и торопливо стекаются к подножию башни, а очень скоро целиком открылись и сама бурая башня, и возбужденная толпа, окружившая ее. Наши провожатые тоже это отлично видели и пришли в неописуемое волнение. На минуту они в нерешительности остановились. Скорбь завладела их лицами, они понурили головы и изредка перебрасывались негромкими словами. Мы недоуменно переглянулись, надеясь на опечаленных физиономиях поселян найти причину неожиданного волнения. Граф приблизился к самому старшему из них и подозвал переводчика.
«– Что случилось, люди? – спросил тот.
– Случилось большое несчастье, – поводя рукой, объяснил старик. – Ильнар-хан, будь трижды проклято это имя, приехал забрать себе в жены Хвови, дочь Тансара. Этот правитель, которому подвластны земли до самых развалин Пасаргада, повадился к нам, как змей в птичье гнездо, и уже много лет таскает наших птенцов, и многих девушек, чьи перси нежнее шелка, чьи души светлее дамасского клинка, увел себе на потребу. А ведь одно прикосновение нечестивца повергает сердце невинных в пропасть отчаяния. Их, безутешных, заставляют осквернить себя и принять проклятую веру, и они, изнемогая, рожают сыновей, которые вырастают под сенью зеленого знамени, и души их черствеют, и обращают они, неразумные, мечи свои против своих дедов. Наш долг – дарить свет мира себе подобным крохотным существам, и так – до конца времен. Кто знает, возможно, этой девушке всеблагой Ахурамазда предназначил искупаться в водах озера Кансаойа, глубины которого скрывают семя Пророка, и зачать от него, и осчастливить мир улыбкой Астват-Эрэта, воплощающего праведность, Спасителя, Саошйанта, ибо сказал пророк: “Моя праведность будет воплощена”. Или какой-нибудь из тех тихих, как гладь священного озера Кансаойа, других прекрасных девушек, которых уже отняли от нас».
Старый габр вздохнул, и его борода, длинная и узкая, похожая на скрученный соломенный жгут, скорбно покачнулась, не касаясь груди.
Мы посмотрели туда, куда указывала черная высохшая рука старика, и действительно разглядели нескольких всадников, качавшихся посреди толпы на беспокойных скакунах. Их розовые тюрбаны высились над толпой, облаченной в зеленые и белые одежды, словно цветы, занесенные внезапным снегом. То и дело всадники вздымали руки, и над головами людей тонкими нитями повисали ремни плеток – люди раздавались, и тогда становились видны блестящие крупы коней. Разъяренные собаки, сбежавшиеся со всей деревни, оглашали воздух свирепым лаем, в исступлении прыгали вокруг мусульман, а те яростно стегали их плетками, так что только летели клочки собачьей шерсти. Вырванные с собачьих спин пушистые клочки, скрепленные кровью, взлетали над косматыми спинами, а потом медленными спиралями опускались на землю, словно тополиный пух. Собаки от того свирепели еще больше и кусали лошадей за бабки. Зороастрийцы были бессильны отогнать животных, а мусульмане взялись было за сабли, чтобы обуздать озлобленных тварей, которым передалось ожесточение их хозяев, молча и мрачно взиравших на мусульман. В их глазах застыло отчаяние бессилия. Глухой топот вертящихся лошадей, рев собак, проклятья всадников, осаживающих коней, среди безмолвных, смирившихся мужчин, женщин и стариков – это были все звуки, достигавшие нашего слуха. В сердце начало закрадываться нехорошее, липкое чувство, которое всегда тут как тут, когда становишься свидетелем насилия и в то же время знаешь, что не в твоих силах ему помешать.
Спуск кончился; мы подходили по плоскогорью, скрытые от взоров нагромождением построек, и протиснулись в толпу почти незамеченные. Граф тут же отправился на поиски наших лошадей и вскоре вернулся, убедившись, что они по-прежнему мирно стоят под навесом, уткнув морды в торбы с овсом. Тем временем мы как следует разглядели всадников, явившихся за невестой. Их было пятеро, облаченных в расшитые доломаны. Шаровары их были настолько широки, что наплывали на сапоги, продетые в стремена, словно истекший воск на основания подсвечников. Все они были вооружены кривыми саблями, которые болтались на длинных ремнях, а за плечами имели кремневые винтовки, и только у предводителя, как мы узнали от габров, младшего брата Ильнар-хана, из-за толстого пояса выглядывали продолговатые дула отделанных слоновой костью пистолетов. Между ними стояла непокрытая повозка, напоминающая арбу, запряженная двумя лошадьми и внутри устланная мягкими коврами. Это, без сомнения, были мужи, «ездящие быстро». Граф мельком взглянул на меня.
Хвови оказалась дочерью того самого старика, который ночью первым приветствовал наше появление и обменялся с Тревельяном витиеватыми любезностями, озадачившими нашего сообразительного переводчика. Старый Тансар стоял чуть поодаль, насупив седые брови, и на его суровом лице горе собрало крупные морщины в сетку страдания. Рядом с ним неподвижно стояла девушка, ростом доходя высокому старику до костистого плеча, на котором покорно повис холщовый рукав его рубахи, как в отсутствие ветра поникший парус безвольно повисает вокруг мачты баркаса.
Это и была Хвови, готовившаяся к закланию, сладострастной прихотью правителя здешних каменистых мест обреченная провести остаток дней в тенистом гареме, куда ее бог-солнце мог проникнуть только через крохотные отверстия сетки, сплетенной из конского волоса, которой бывают забраны окна в этом логове порока. Девушка стояла рядом с отцом, потупив глаза, чуть касаясь своим плечом сильной руки бессильного родителя. Лицо ее было смугло, но нежностью превосходило лица других габров, и оттого казалось белее. Свежесть этих черт не оскорбляла ни сурьма, ни краска, а ровные дуги бровей, взлетевшие над глазами, отливали синевой, словно перья на крыльях ласточки. По обычаю своего народа она еще не закрыла лица чадрой, и волосы, подернутые легкой рыжиной, жесткими волнами огибали голову и сходились у нее за спиной простой косичкой. Широкая зеленая куртка без каких-нибудь украшений и зеленые же шаровары свободно обтекали ее хрупкую фигурку, не задерживаясь на формах. Ее лицо хранило спокойствие, черты его сковала непроницаемость дикарки, но все встревоженные мысли прильнули к глазам, к этому источнику настроений, и смотрели на мир в эти окна души. Солнце, равнодушное солнце, перекатывавшее по бездонному небу валы света, словно беспристрастная держава видимого мира, словно скипетр ойкумены, бездушный символ живого, не слало на землю ни надежды, ни помощи безутешному отцу, притихшим габрам, и снисходило с высот одним лишь ослепительным состраданием, заливая горячими лучами и правых, и виноватых. Вся эта картина, застывшая на секунды, была столь красноречива, что не хотелось вдаваться в какие-либо подробности. Тревельяну это было хорошо понятно, и он устремил в небо близорукий взор, словно окруженный в сражении боец, требующий у ставки подкреплений. В жарком мареве висела жуткая тишина, предчувствие несчастья, даже собаки на минуту захлебнулись своим диким лаем, и только песок, взбитый ногами коней, прохрустел на зубах обреченных. В этот-то неуловимо краткий миг прекрасная Хвови и подняла, вскинула на толпу взгляд своих огромных глаз, и обвела ими каждое лицо, с которым она навеки прощалась, каждое очертание знакомых фигур, заляпанных тенями, вобрала безбрежность неба и чудовищную, страшную справедливость далекого и присного божества, тяжело вращающего землю рукоятями светил. И эти бархатные черные глаза отразили и вызывающе красный мундир застывшего в восхищении графа, и шляпу Густава, возвысившуюся над непокрытыми головами, и ее куцые измятые поля, и меня, и нашего толмача – одним словом, всех странных, неизвестно кем помещенных в этот фантасмагорический мир лиц, неизвестно откуда взявшихся, невиданных и тоже онемевших в полном согласии с уставом чужого монастыря. Ее трепещущий взгляд столкнулся, скрестился на этот миг, подвластный одной лишь многодневной наблюдательности живописца, с глазами графа, с такими близкими глазами этого непонятного существа, и была высечена искра – ее зрачки расширились на еще более краткий миг, а потом излили потоки самых разнообразных чувств, чувств, богатых оттенками, исполненных глубины, и невидимыми прочим струями перетекли из одного взора в другой.
– Я не живу в огне, – изрек Троссер, – я просто стоял рядом… Этот взгляд, врезающийся в память постороннего, содержащий целую жизнь, но насчитывающий тысячу и одну ночь для посвященного, чудесным образом рассыпающийся на миллионы беззвучных слов… Он прогремел, прогрохотал в напряженной тишине последней минуты безмолвного прощания, которую не решились прервать даже всадники-звери, под которыми кони нетерпеливо перебирали тонкими ногами, а прозвучав, привел в движение всю эту карусель. Собаки, опомнившись, снова набросились на обидчиков, лошади, играя статью, загарцевали, всё зашевелилось, обросло сотнями звуков, жадно хлынувших в пространство, а младший брат Ильнар-хана и его нукеры уставились на нас удивленными глазами. Габры загалдели, заговорили разом, видимо, объясняя мусульманам, кто мы такие, а предводитель, раздвинув толстые губы в хищной усмешке, пятками тронул бока лошади и как бы нехотя наехал на толпу. Остальные кони тоже вздрогнули, собираясь последовать за беком, но тут же успокоились, сдержанные влажными дланями нукеров. Люди подались в стороны, образовав неровный коридор, обнажив красный мундир графа, и их место в мгновение ока захватили собаки, перебежав между лошадиных ног и вынырнув перед всадником. Один – тот, что сидел в седле, – легонько поводил опущенной рукой, с кисти которой свисала наборная плетка, другой заложил руки за спину, и было видно, как покачивается перегнувшийся стебель хлыста. В это мгновенье одна из обезумевших собак ухватила зубами конец плети, волочившейся по земле, и принялась его терзать. Всадник гневно зарычал и, не спуская глаз с графа, выхватил саблю. Мы инстинктивно подались к графу, и он сам уронил быстрый взгляд на шотландский палаш, висевший у него на перевязи, но всадник, свесившись с седла, одним молниеносным ударом снес голову неосторожной собаке. Габры закричали. Лохматое тело забилось в судорогах, обдирая коченеющими лапами корку земли, а голова, не успевшая даже заскулить, откатилась к ногам графа. Капли темной крови упали на его сапоги и, помедлив, одна за одной скатились к подошве, протащив на пыльных голенищах размытые извилистые борозды, похожие на те следы, которые оставляют слезы на усталом лице угольщика, на чумазом личике маленького трубочиста. Граф сопроводил их ход невозмутимыми глазами и, лишь закусив губу, снова поднял их на человека, только что доказавшего, как приятно осознавать себя хозяином в своей собственной стране, где Аллах велик, кони быстры, а солнце неумолимо. Граф, похоже, не разделял этого ущербного мнения и чувствовал себя если не хозяином, то, по крайней мере, дома – в любом уголке и под недремлющим оком любых богов. Именно эту мысль и выразил в ту же секунду его взгляд, отмеченный безмерным благородством. На грубый вызов он ответил дерзновенным хладнокровием, и это не осталось незамеченным. Габры снова притихли и, протискивая головы между плеч стоявших впереди, придвинувшись друг к другу, осыпали графа самыми разнообразными взглядами. В одних ясно читалась благодарность, другие засветились надеждой, а третьи исходили мольбой, как исходит водами родящее лоно, как исходят слюною негодования низвергнутые короли. И Хвови, прекрасная Хвови, скромная собеседница божества, послала графу оживший взор, и ее хмурый отец поглядел исподлобья.
Тревельян сощурился и заметил вполголоса:
«– Гм, смотрите-ка, наш граф борется с желанием принять роль Тесея.
– Это меня и пугает, – не поворачивая головы отвечал я».
Тревельян наблюдал сцену с интересом, как если бы сидел в партере Operá, наблюдал так, словно всё это вовсе его и не касалось. В то время как мне отнюдь не улыбалось это нежданное похмелье в чужом пиру, тем более, что я навсегда запомнил лишний стакан вина в бордосском кабачке, и эта роковая жидкость еще бродила в жилах неиспаряющимся наказанием.
«Но Ариадна того стоит, кажется, – присмотрелся милейший Густав. – А ведь мы видели уже эту девушку ночью, не так ли? Воистину, всё самое достойное взора всегда рядом, и как всегда его-то заметить всего труднее».
В мой взгляд по капле, сквозь все фибры самообладания процеживалась злоба на себя и на этих подвижников. Ох уж мне эти стихии и их воплощения. Я не саламандра, я не живу в огне!
– Ну зачем, зачем я полез в это пекло, сокрушался я в душе, отирая со лба ручьи пота, – воскликнул Троссер. – Однако большинство из нас в нем не живет, а только издали наблюдает за переливами пламени. Все мы Гефесты, топчущиеся вокруг раскаленной наковальни, вот только ноги у нас целы, и припадаем мы не на левую стопу, а хромаем правой стороной груди…
* * *
– В это время, – старичок подвинул к себе чашку с молоком и продолжил повествование, – переводчик пробился к графу и встал рядом со своим офицером, затравленно озираясь. Граф воспользовался его услугами и сказал мусульманам несколько слов. Они как будто успокоились, потому что уже слыхали о посольстве, застрявшем в их владениях. Однако утро бессонной ночи продолжало свое невеселое представление. Вновь поднялся переполох. Младший брат Ильнар-хана, которого привело в негодование присутствие иностранцев, а более всего неистовство псов, еще раз решил уверить всех в незыблемости своей власти. Уже когда бедняжку Хвови, от ужаса едва переступавшую ногами, подвели к повозке и усадили, между ним и стариками завязался новый неприятный разговор. Граф, по-прежнему не спускавший глаз с несчастной девушки, пожелал знать, почему гневается бек, и переводчик, на мгновения замирая и вытягивая шею, потихоньку делился тем, что ему удавалось разобрать. Грозный бек вспомнил, что зороастрийцы хранят какие-то древние книги, наполненные мудростью веков, и требовал от стариков вынести их на свет божий из тайных закутов. Старики качали головами и растерянно переглядывались, а бек в нетерпении поднимал окровавленную плеть над их непокрытыми головами. Жалобными голосами они уверяли рассерженного бека, что все их книги содержат только тексты, относящиеся исключительно к их вере, и робко намекали, что правоверному шииту зазорно даже и прикасаться к этим нечестивым книгам. Речь, насколько я понял, шла о тех самых книгах, которые эти самые старики наотрез отказались показать Тревельяну прошедшей ночью. Услыхав о книгах, Густав навострил уши, подался вперед и сделал несколько нервных движений. Признаться, его внимание было куда серьезней, чем судорожный лепет стариков, и испугало меня гораздо больше, чем тронула озабоченность старейшин, которые в отчаянии оборачивались на графа. Может быть, добрые люди хотели видеть в нем Саошйанта, Спасителя, чудесным образом явившегося из далекого далека, чтобы повести их в последний бой против зла, воплощенного в шиитскую нетерпимость. Тем более, что они верили, несмотря на представление о необычном зачатии Спасителя, в его человеческую сущность, чем отводили человеческому роду весьма завидную роль в великой битве добра и зла, прости Господи. Спору нет, происходящее приходилось графу очень не по душе. Он ласкал взглядом безутешную Хвови и впал в мрачную задумчивость. Возбуждение Тревельяна дошло до того, что пару раз он дернул его за рукав мундира, словно призывая к действию. Граф ответил ему задумчивым взглядом. Настало время вмешаться. Я приблизился к графу и сказал:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.