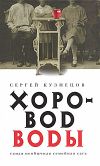Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
– Что́ же вы оставляете вашей любезной Франции? – удивились мы.
– Сударыня, – с легким поклоном молвил Румильяк, – я не сказал, что могущество и величие непременно прекрасны. Так что Франции я оставляю всё то же – хорошеть!
За этот изящный ответ следовало выпить. Мы достали бутылку Клико из тех запасов, какие мы захватили в дорогу благодаря предусмотрительности жены, и остаток дня провели тем более весело, что цель нашего странствования была почти достигнута. На следующий день мы уже видели Гавр, наплывающий из вечернего марева. Сердечно простившись с нашим спутником, которого еще надолго задерживали дела в порту, мы заняли два места в дилижансе, который и доставил нас в Париж. Мы привязались к мсье Румильяку, а он обещался непременно навестить нас, когда доберется до столицы.
* * *
По совету мсье Румильяка на набережной Целестин мы отыскали и наняли небольшую, прекрасно меблированную квартирку. Квартирка имела старинный камин, и его основательный вид и гулкая утроба приятно не вязались с прочей легкомысленной обстановкой. Окна квартиры выходили на набережную Сены, где в любую погоду раскрывали свои переносные лавки сутулые букинисты. Мне нравилось поутру придвигаться поближе к окну и, потягивая свой кофей, любоваться этим маленьким базаром, а чтобы еще глубже проникнуть в «парижские тайны», я даже принялся читать все подряд газеты и похаживал в фехтовальную залу Гризье. Елена навещала модисток, а вечером я сопровождал ее во Французскую комедию или в полюбившийся нам театр Буфф. Я мечтал отыскать Ламба, но отыскал только роскошный особняк в Сен-Жерменском предместье, им занимаемый. Там я узнал, что Ламб уже с месяц как в провинции, и когда будет обратно – неизвестно. Дом этот показался мне что-то уже слишком хорош. Впрочем, мне была памятна эта маленькая его слабость. Я оставил карточку и передал на словах, что намерен оставаться в городе всю предстоявшую зиму. Мало-помалу мы обросли знакомыми, что́ сделалось главным образом усилиями мсье Румильяка, который оказался одним из тех уникальных людей, которые сами по себе ничем не примечательны, но обладают знакомствами и связями почти везде и примечательны именно этим. Той зимой в Париже проживало много русских, некоторые из которых были известны нам если не коротко, то по крайней мере достаточно для того, чтобы свесть знакомство поближе. А к одной даме, Вере Николаевне У., имел я даже письмо, переданное мне через мать Чаадаевым. Вера Николаевна была вдова, после смерти мужа перешедшая в католичество, уже лет десять-двенадцать жила в Париже, исправно получая доходы с трех своих имений на родине и содержа – другого слова не подберешь – салон, один из известных во французской столице. Вера Николаевна, как говорили о ней, была капризна, но не проста, веру изменила по глубокому убеждению, в мистику не впадала, хотя и слыла за глубокий ум, а потому считала свою копейку и точно так же кормила обещаниями теперь уже матерьяльных жертв воистину стада католических иерархов, бродивших за ней, – как и они угощали ее вечным блаженством, соблазнами исключительной благодати и – о, святая простота – возбуждали в ней надежды на святость. Русских католиков, кроме Чаадаева, я еще не встречал, и потому было сильно любопытно, но что касается до этого письма, то за всеми заботами семейного счастия не сразу об нем вспомнил. Как это было невежливо, и это было действительно так. Матушка и покойный дядя считались с Верой Николаевной родством, с другой стороны, письмо было доверено мне в руки, и, верно, корреспондент имел свои причины не доверяться почте, так что я не видел решительно ни одной возможности к тому, чтобы послать пресловутое письмо с кем-либо, тем самым малодушно избегая вполне заслуженного наказания. Не без трепета перед скорой расплатой за свою забывчивость, что, замечу, в моем положении очень извинительна, переступил я порог изысканного жилища своего «палача», комкая в досаде надушенный куверт. Расплата не замедлила явиться: Вера Николаевна слегка пожурила, немного попеняла, чересчур посмеялась и перешла наконец к самой казни – три часа кряду я, напрягая всю свою память, припоминая все обрывки разговоров, слышанных мной мимолетом в петербургских и московских гостиных, набрасывал самыми широкими мазками полную свадеб, разводов, рождений, смертей, дуэлей, ссылок, скандалов и производств величественную картину отечественной действительности. К ужину я несколько утомился и заговорил moderate[17]17
Умеренно (итал.).
[Закрыть].
– Не правда ли, что этот… ну, вы знаете, господи… Дорохов. Правда ли, что он опять кого-то зарезал? – следовал вопрос. – И его снова заставили надеть солдатскую шинель?
– Истинная правда, madame, – доверительно подтверждал я, всей своей позой изображая живейшее сочувствие, вот только не знаю до сих пор кому: то ли зарезанному, то ли г-ну Дорохову.
– А как могли они, не правда ли, – Вера Николаевна выражалась восторженно во всех обстоятельствах, а ее духовные опекуны, к слову сказать, принимали эту восторженность за готовность содержать пузатую братию и были здесь неправы, – как могли они обойти Кобылину и сделать фрейлиной эту выскочку Фитенгоф, не правда ли, выскочку?
– Ах, это так, – сокрушался я, хотя и не знал ни одну, ни другую.
– Но Несвицкая, Несвицкая какова, – разражалась вдруг смехом Вера Николаевна, – какую сумела сделать блестящую партию! Ручаюсь, что тут не обошлось без графини Анастасии.
– О, – отвечал я как бы в раздумье, – это очень может быть.
Таким образом, ни красноречия, ни времени я не жалел, на оттенки не скупился, был найден милым ребенком – хм… – и гильотина была великодушно заменена званием пожизненного – весьма двусмысленное слово – гостя, то есть правом, а скорее самой строгой обязанностью, бывать когда угодно, то есть всегда. В итоге мы с женой были приглашены – к чему откладывать – на небольшой вечер уже в самом недалеком будущем. На наш счет тоже была сказана пара слов.
– Уж вы покажите, покажите мне свое сокровище, – грозила мне пальцем Вера Николаевна, но сразу взяла строгий тон: – Отчего же, я помню Сурневых, очень помню генерала самого, супругу его хуже… Признаться, я слышала кое-что об этой истории, да, мой мальчик, свет зол, зол, однако здесь у нас курортные правила, условности снимаются легко… Чувство – это, конечно, главное, я тоже была молода, тоже любила, ах, как это мне знакомо… И отчего так повелось, не пойму, что не бывает совсем легкой любви? Наверное потому, что это высшее блаженство, и оно никому не дается даром. Это немалая смелость – любить. Ибо в любое мгновенье можно потерять это дорогое.
– Да? – несколько глуповато спросил я.
– О, – отвечала она то ли грустно, то ли лукаво и теми же самыми словами, какими несколько минут назад я сам глумился над ней, – это очень может быть.
– Вот и я, – продолжила Вера Николаевна, – сижу здесь в этой чужой стране, в этом черном платье, в окружении этих, – она повела плечом, как будто поежилась от холода, – господ, ха-ха-ха, овечек христовых, словно ворона. А всё от невозможности самой… Кстати, так им и говорю: и без меня не пропадете, а то всё дай да дай. Хитры они, канальи, вот хоть картезианцы – эти придумали из каких-то горных трав делать настойку, и ведь нельзя сказать, чтобы была плоха. Теперь под именем «Chartreuse» везде подают. Прибыли имеют баснословные, а вот же поди – сколько их из Гренобля у меня перебывало. Ну, да я не М-те Svetchine, плутишек различаю. Но боже мой, как тут всё шагнуло вперед по сравнению с нами, и в смысле торговли, и в смысле промышленности вообще, – покачала она головой. – Ах, к чему я это вам говорю. Вы сами все разглядите.
При этих словах она задумчиво посмотрела на стену налево от меня, и мне почему-то показалось, что это не связано с бедными картезианцами. Я перехватил этот взгляд и осторожно его сопроводил. На столике я заметил маленькую акварель – портрет молодого офицера в русском мундире. Изображен был дядя, и этот портрет был точной копией такого же, что хранился у нас в библиотеке. Я не мог сдержать изумления, невольно поднялся, что называется, машинально, с намерением подойти к столу, смутился и виновато встал. Вера Николаевна смотрела на меня с грустью и нежностью. «Да, да», – будто бы говорили ее всё еще прекрасные глаза. Так же молча она перевела взгляд на акварельку и утерла слезу.
– Последний раз видела его в 31-м году, – с непередаваемой тоской в голосе молвила она. – Какое выдалось в тот год ненастное лето… Я ехала во Францию, мы встретились на пути. Погода ужасная, холера, поляки бунтуют, направление на Вильну забито войсками, поэтому пришлось свернуть и давать крюк через Витебск. Светопреставление! Там я его и застала. Он казался чем-то озабочен, спешил, тоже поворотил с Виленского тракта, но лошадей было не достать ни за какие деньги – в Витебске ведь умирал от холеры Константин. Князь Иван узнал об этом и был у него, хотя доктора не советовали ходить. Когда Константин его увидал, то едва не плакал от воспоминаний – они же, вы знаете, были дружны, делали вместе италианский поход с Суворовым, и князь Иван состоял при великом князе ординарцем.
«– Вот и смотрите, – сказал тогда Константин своему лейб-медику, – все меня бросили, все боятся – кто холеры, кто моих братьев, а кто и меня, ха-ха-ха. Перед вами человек, который ничего не боится, – указал он на князя.
– Ваше высочество, – отвечал князь, шутя, хотя и невеселым тоном, – я питаю к вам такие чувства, что из привязанности следовало бы и мне захворать, но мне пока нельзя.
Это развеселило Константина, и он немного воспрянул. Он уже знал, что надежды нет, но еще боролся. «Куда ты едешь? Дать тебе лошадей?» – спросил Константин. Князь Иван тоже слышал от медиков, что Константин обречен. Он помолчал, а потом тихо произнес: «Уже никуда».
Вера Николаевна притихла.
– На этой упряжке уехала я. Князь остался при Константине и еще три дня неотлучно сидел у его постели, до самой его смерти.
– Это судьба, – сказал он мне на прощанье, когда пришел подарить тех лошадей.
– Что вы хотите сказать этим? – удивилась я.
Он ответил: – Просто я очень спешу».
Никогда мне не забыть этой вселенской горечи в его голосе, и его глаз – они глядели сквозь меня…
* * *
Вечер у Веры Николаевны прошёл, как и всегда, негромко, но внушительно. В числе гостей я наблюдал португальского посланника, известного фельетониста, двух начинающих литераторов, упитанного банкира, питающего симпатию к вечно голодным музам, издателя, правительственного деятеля, польского деятеля-эмигранта; также мы наслаждались обществом капитана одного из модных столичных полков, девицы Мишель – не тем будет помянута, – графа де Вез с женой и княгини Бризетти с мужем. Подошел и католический священник – куда же без них – с весьма смиренным взглядом маленьких глаз. Из русских были лишь Елена и я, не считая, конечно, самой хозяйки. Лена, мне показалось, не слишком понравилась Вере Николаевне и, думаю, не из прихоти, а что-то разглядела она своими женскими глазами, чего я не видел. Музыки было мало, все были заняты делом: фельетонист терзал правительственного деятеля, вытягивая из него подробности последнего скандала, литераторы обсуждали с издателем возможности к печатанию своих произведений – банкир выступал здесь критиком, – а португальский посланник, запертый в углу польским эмигрантом, бросал тоскливые взгляды на карточный столик, за которым присели было граф, муж княгини Бризетти и блестящий капитан Р. Вера Николаевна обходила гостей, католический священник неотступно следовал за ней, суетливо перебирая четки и то и дело нашептывая ей что-то в самое ухо. Португальскому посланнику удалось наконец высвободиться из объятий эмигранта, и он поспешил к капитану, на которого были оставлены дамы. Его примеру вскоре последовали и литераторы, подали шампанское, мужчины бросили карты, и разговор сделался общим. Мы, как недавно прибывшие из России, возбудили известный интерес. Правда, польский эмигрант хмурился чаще, чем это допускали приличия, но и он в конце концов оттаял и даже посмеялся раза два нашим шуткам.
– О России я знаю только по книге Кюстина, – сказала княгиня Бризетти, – что вы о ней скажете?
– О книге? – спросил я.
– Да, да.
– Я нахожу, княгиня, – отвечал я, – что это злая книга.
– Но не пристрастны ли вы? – возразил граф де Вез. – Вера Николаевна, например, считает, что там много правды.
– Дело здесь не в правде или неправде, – вмешалась сама хозяйка, – нападать надобно не на книгу, но на Кюстина.
– Отчего же? – ехидно поинтересовался польский эмигрант.
– А оттого, – пояснила Вера Николаевна, – что маркиз встретил в России чрезвычайно хороший прием – и вследствие трагической судьбы отца и деда, погибших на гильотине, и по причине радушия русских вообще. Его ласкал двор, он был всюду желанный гость – и вот как отплатил за гостеприимство.
– Но вы же говорите противоречие, – заметил граф. – Если путешественник встретил ласковый прием, то он что же, должен был описать не то, что увидел собственными глазами? Что же тогда? Неправду?
– Лучше было бы ничего не описывать, – сказала княгиня Бризетти. – Это вопрос чести. По крайней мере, не публиковать.
– Однако что́ вы скажете о фактической стороне? – настаивал польский эмигрант.
– Что́ ж о ней сказать, – пожал я плечами, – думаю, что автор сей не дал себе труда лучше изучить русский народ и саму Россию, иначе не судил бы столь решительно.
– Неужели же выдумал Кюстин и зверства, имевшие место после подавления Польши, и нетерпимость к несчастным униатам, и рабство? – спросил де Вез.
– Нет, это он не выдумал, – ответил я, – но никто не давал ему права ненавидеть Россию только потому, что он ненавидит правительство. Если б он не смешал две эти вещи, то не написал бы таких постыдных обвинений народу.
Тут доложили о прибытии нового гостя. При его имени головы всех присутствующих обернулись на вошедшего. Им оказался довольно высокий молодой человек с очень темными коротко стриженными волосами и быстрым взглядом черных глаз. Кожа его лица едва уловимо отливала перламутром – чувствовалась какая-то неверная, неопределенная смуглость, некий оливковый оттенок, более заметный тогда, когда черты лица приходили в движение. Этот тончайший слой олифы природа нанесла, без сомнения, уже из последних сил, не в состоянии дальше передавать в поколениях невольное завещание какого-нибудь пиренейского или неаполитанского предка. Лицо показалось мне спокойным, и решительность его линий напоминала о натуре, привыкшей добиваться своего, идя к цели кратчайшим путем. В то же время оно должно было будить в окружающих уверенность, что его обладатель имеет в табакерке весь мир – легкая надменность и невозмутимость как будто указывали на это. Молодой человек казался не старше двадцати пяти лет, и я тем более удивился испытанному мной ощущению, которое представлялось мне тем вернее, чем дольше я подвергал его испытанию. Что-то в этом лице показалось мне очень знакомым, не само лицо, а его выражение; но это ощущение таково, каков и предмет, его вызвавший, – мимолетно, и если не разрешишь загадку сразу, то сколько ни вглядывайся, ничего не придумаешь. Время упущено, ощущение исчезает, а воспоминание не в силах его возродить. Так что я посмотрел – и только. Не укрылось от меня и то обстоятельство, что появление Александра де Вельд – так звали запоздавшего – вызвало в католическом священнике сильное волнение и, может быть, даже и возмущение, а в капитане Р. и некоторых других гостях помоложе, напротив, чрезвычайную радость и воодушевление.
– Вот так сюрприз! – воскликнула Вера Николаевна в то время, как Александр исполнял ритуалы приличий, – а мы уже не смели видеть вас в живых. Какие ужасные слухи доходили до нас, не правда ли, Фернье? – повернулась она к фельетонисту.
– Мой корреспондент сообщал мне из Нового Орлеана, что вас захватили дикари, – обратился тот к Александру.
– Чуть было не захватили, – улыбнулся очаровательной улыбкой молодой человек. Дамы издали сдержанные возгласы ужаса. Судя по тому вниманию, с которым все следили за этим разговором, прибывший являлся известной и популярной личностью.
– Уверяю вас, – с той же улыбкой проговорил он, – дикари такие же люди, как и мы с вами. С ними очень можно столковаться.
Эти вопросы и ответы пробудили во мне известный интерес. Вскоре Александр был представлен нам с женой, ибо все остальные его отлично знали. Между тем разговор, прерванный его появлением, возобновился. Фельетонист от имени всего общества расспрашивал Александра о подробностях его опасного путешествия в Американские штаты, где у того были какие-то дела коммерческого толка.
– Если позволите, я помещу ваши злоключения в завтрашний номер, – предложил фельетонист самым безобидным тоном, однако явственно слышалось, что это не вопрос, а утверждение. Положительно, Европа дарила нам сцены, не виданные в России.
– Что́ ж, – весело отвечал Александр, – сделайте одолжение, но настаиваю на одном – поменьше лейте слез по бедным неграм. А то подумают, что и я купаюсь в черном золоте. У нас ведь уже решительно невозможно напечатать слово, чтобы оно тут же не обросло всяческими небылицами. Газеты правят всей страной – кто бы мог подумать. Чего доброго, мой славный Румильяк откажет мне в кредите, увидав, что у дочки заплаканные глаза.
– С каких-то пор вы стали защищать рабство? – удивилась Вера Николаевна.
– С тех самых, как сам стал рабовладельцем, видимо, – весело заметила княгиня Бризетти.
– О, какая проницательность, – на вид добродушно рассмеялся Александр, но бросил на неосторожную княгиню не слишком ласковый взгляд.
– Положительно, история повернула вспять, – вскричал банкир, подходя к нам с неизменным бокалом в мягкой руке. – Европейская цивилизация, честное слово, не так уже цивилизована, как хотят уверить нас г-да Кюстины и Констаны. Не прошло и пятидесяти лет, как успели очистить от скверны собственную Францию, и уже несем на другие континенты, что бы вы думали, ха-ха-ха, да то самое, ради изгнания которого погибло так много славных французов, именно так – славных французов. Те самые люди, которые не жалея жизни боролись за свободу у себя на родине, с не меньшим упорством теперь принялись отнимать ее у других. Что скажете, Александр?
– Вы заработали свои деньги, – отвечал Александр, слегка раздосадованный тем, что стали известны некоторые стороны его деловой жизни, – будьте любезны, дайте и нам сделать то же. Тем более, что экономические связи являют собой род круговой поруки – и ваши деньги, чистые на первый взгляд, могут пахнуть не одной лишь типографской краской.
– Вас послушать, так любая деятельность представится грехом, – возразил банкир.
– Не боитесь, – спросила княгиня Бризетти, – что вас обвинят в человеконенавистничестве?
– Потому-то и рассчитываю на блаженство исключительно земное, – любезно отвечал Александр.
При этих словах Елена взглянула на него с новым интересом, а я прекрасно слышал, как святой отец, забавно надувая щеки, прошептал Вере Николаевне:
– Ну зачем, зачем, сударыня, вы компрометируете себя и принимаете этого расстригу?
– Что́ же касается того, что история повернулась вспять, – продолжил нехотя Александр, – то вы совершенно правы, ибо она движется по кругу – на смену одному злу спешит уже новое, так что мы тешим себя лишь видимостью перемен. Они иллюзорны.
– Не скажите, – вмешался де Вез, – прогресс – великая вещь, мир меняется на глазах, а с ним вместе и души.
– Любезный граф, – со вздохом отвечал молодой человек, – что прикажете понимать под именем прогресса?
– Ну, я думаю, это общеизвестно: тут и те благотворные плоды, которые приносит образование, и торжество веры, осветившей самые варварские углы мира…
– Веру вы оставьте, – махнул рукой Александр, – этот ваш свет только обжигает.
Священник сделал злую гримаску и устремил на Веру Николаевну жалобный взгляд.
– К тому же, посудите сами, – воодушевился Александр, – как можно насильно заставить человека поверить? Чем же заняты наши миссионеры? Народам диким в полном смысле слова, народам, занимающим самые первые ступени развития, они прививают итоги развития целой Европы за тысячи лет. Это же всё равно, что вы ребенку, младенцу, кричащему в колыбели, вместо погремушек и молока дали бы бутылку виски и тридцать томов энциклопедии и не на шутку бы злились, если б ваш урок не был усвоен. Все дороги имеют сходство, но у каждого дорога своя и пройти ее он должен сам. Для чего же вмешиваться в природу? Ведь только для того, чтобы удобнее было грабить этих детей ее и пользоваться их землей и трудом. В результате мир получает тысячи, миллионы несчастных, оторванных от корней, часто и от родины, и будьте уверены – они ничуть не понимают этого вашего навязанного Христа, а верят в то же, во что верили и раньше, и исполняют только обряды, да и то из рук вон. Негры в Луизиане, например, смешивают элементы христианского культа со своими кровавыми ритуалами и неясными видениями незрелого ума, так уже выходит совершенно черт знает что. Я это видел – просто ужас. Вот вам и все следы цивилизации.
– Конечно, нельзя сеять на неподготовленную почву, – согласился граф, – однако распространение религии неизбежно должно сопровождаться самым широким образованием, и тогда это принесет пользу, а добро никогда не бывает несвоевременным. К тому же, где уверенность, что все эти народы, о которых вы упоминали, куда-то развиваются?
– Что они вообще способны к развитию, вы хотите сказать? – переспросил Александр. – Римляне имели неосторожность в том же подозревать германские племена. В итоге, римляне сегодня – просто приятное воспоминание, а германцы… – он широким жестом указал на всё вокруг.
– Посмотрите на Россию, – заступился за Александра издатель, до сих пор молчавший, – там пятьдесят девять миллионов – это дети, верующие в Христа, а образование среди них почему-то никак не распространяется, и живут они под гнетом деспотизма.
– Ну, это потому, что в церквях у них не делают проповедей – это просто, – заметил граф.
Нужно ли говорить, что эти слова заставили меня почти расхохотаться, но я сдерживал себя как мог. Видимо, мои усилия всё же выдали меня, и граф сказал:
– Вот вам и русский, сейчас из России, – он нам и скажет.
– Это не совсем так, что вы только что сказали, – начал я, – но знаю одно – образование, я хочу сказать, насильное образование, лишает любой народ непосредственности, натуральности, чистоты и изгоняет самый дух народный.
– Вот, – заметил Александр.
– Что – вот, – пробурчал банкир, – вот вам еще один рабовладелец.
– Никого не сделать счастливым насильно, – сказал я. – Нетерпение всему виной.
– Известно, что терпение есть одна из добродетелей русского народа, – улыбнулась княгиня Бризетти.
Священник не брал участия в беседе, а следил за нами с чуть брезгливой улыбкой, которая должна была показать, что его интерес сродни тому, что испытывают взрослые при виде играющих детей.
– Сомнительная добродетель, – усмехнулся вдруг Александр. Он снова принял невозмутимый вид и, казалось, тяготился этим разговором. Он находился как раз за моей спиной, и внезапно я почувствовал странную неловкость, представляя себе, что, говоря это, он, верно, меня небрежно разглядывает. Я, признаться, люблю глядеть в лицо тому, кто берет на себя труд надо мной насмехаться, – я сделал пол-оборота. Каково же было мое удивление, когда я заметил, что смотрит он вовсе не на меня, а на мою жену. Вера Николаевна поймала этот взгляд, и на ее лице изобразилась озабоченность.
– Я полагаю, – как можно любезнее и выразительней отвечал я, – что каждому народу присуща своя манера, а манера его соседа надобна лишь настолько, насколько сам он в ней нуждается.
– Однако Николай Павлович пугает Европу, – заметил простодушный граф.
– Это оттого, – вмешалась Вера Николаевна, – что Европа пугает Николая Павловича. Они, господа, друг друга пугают, – подвела она итог, – а мы здесь ломаем копья, защищая каждый свой страх, и совсем позабыли, что должны сегодня выслушать г-на Жерве и дать оценку этой его новой новелле. Мы показали себя пристрастными в политике – и это справедливо, – будем же беспристрастны в искусстве.
– Это будет нелегко, – вздохнул издатель.
* * *
После ужина все мы перешли в угловую гостиную – небольшую комнату, обитую светлым шелком. Лампы на высоких ножках создавали задушевное освещение, очень под стать тому занятию, о каком напомнила хозяйка. Вера Николаевна слыла за друга литературы и пользовалась своими знакомствами с иными знаменитостями, чтобы обратить их внимание на попытки некоторых начинающих авторов. И хозяйка, и эта уютная гостиная с удобными низкими креслами в стиле казненного короля – всё это было своего рода последняя инстанция, последний таможенный пост перед выходом в свет, и, как сказали мне позже, сам Дюма порой исполнял здесь роль таможенного чиновника и Арбитра. На этот раз слушалась новелла одного из молодых людей, который счел своим непременным долгом – если забыть о необходимости – представить свой плод в это своеобразное чистилище. Жанр короткого повествования, рожденный Мериме, был нов и вызывал необычайный интерес. Мы разместились и приготовились слушать.
«Благодарность
Я родился на севере Испании, в благословенной Астурии, в 1780 году от рождества Господа нашего Иисуса Христа. Мой отец занимался скорняжным ремеслом, а мать следила за хозяйством, хотя следить было не за чем. Мои родители были необыкновенно бедны, как мало семейств в нашем маленьком Кольянсо. Заказов у отца почти не бывало, и в иные дни даже олья подрида не дымилась на нашем столе. Мы перебивались каштанами и козьим сыром. Коза у нас была своя, и не одна. Эти козы составляли предмет особой гордости моих родителей, потому что козы, если не считать отцовского станка и убогого домишки на окраине городка, являлись всем немногим их достоянием. Рано утром, когда брезжил рассвет и покрывал окрестные горы нежным розовом светом, мать, вздыхая, поднималась со своей лежанки и выводила коз на склон холма, привязывая их там за колышки, вбитые в сухую почву. Я обыкновенно шатался по кривым улочкам с другими мальчишками или, если держалась жаркая погода, проводил время на каменистом берегу нашей холодной и быстрой Навии. На том берегу реки, довольно высоком, поднималась ограда бывшей коллегии иезуитов. Она закрывала собой все постройки, и только башня звонницы да бурая черепичная крыша собора виднелись нам. Всем нам было очень интересно проникнуть за эту ограду, но стена была высокая, гладкая и ровная, а вокруг как назло не росло ни одного деревца, за ветку которого можно было бы зацепиться, чтобы заглянуть внутрь. Иезуитов изгнали за тринадцать лет до моего рождения, поэтому я не мог помнить, как это происходило, но отец рассказывал мне, что в одну ночь явилась конная стража, очистила коллегию и всех увезла с собой. Иезуитов сильно не любили у нас в городке за то, что они были связаны с инквизицией, хотя и учили бесплатно всех детей, родители или родственники которых пожелали бы отдать их на обучение в школу при их коллегии. Что сделали с ними дальше, отец, конечно же, не знал, но предполагал всякие небылицы. И я заодно с ним представлял, как усатые солдаты топят их одного за другим в бурной Навии. Позже я узнал, что пять тысяч иезуитов, собранных в ту ночь по всей стране, под конвоем были отправлены в Папскую область. С тех пор и наша коллегия пустовала. Таким образом, я никогда не видел иезуитов, и воображение предлагало мне образы самые отвратительные и загадочные. Они сами и всё, с ними связанное, всегда было окружено всяческими секретами. Болтаясь по улицам, я слышал, как одни горожане называли их исчадием ада и слугами дьявола, другие же, напротив, защищали их и скорбели об утрате благочестивых помощников папы, однако и те и другие говорили потихоньку и с оглядкой. Хотя в те годы меня никак не занимала подобная чепуха, а занимали развлечения, свойственные тогдашнему моему возрасту, всё же я вынес впечатление, что иезуиты – люди интересные, таинственные, а главное, пострадавшие. Я-то тоже ведь в некотором смысле причислял себя и свою семью к этой последней категории. Отец хвалил иезуитов, утверждая, что они то и дело заботились о бедняках и помогали калекам. Особенно он поминал одного – Франциско де Ла Пенья, который однажды подарил отцу медную монету. Монета не была потрачена и до сих пор бережно хранилась отцом, уверявшим, что на ней запечатлено Божие благословение. “Эх, – вздыхал отец порою, когда вспоминал о монете и о Франциско, – кабы все было по-старому, ты бы, сорванец, пошел учиться и выучился грамоте, а то и научился бы красиво писать – вот как писцы на площади у дома алькальда. Может, стал бы канцеляристом, увидел бы другую жизнь”. Эти слова отца глубоко запали мне в душу, потому что я всегда с восторгом смотрел на красивых господ, у которых были разноцветные камзолы, кружевные белые воротники и туфли с железными пряжками. Они казались мне существами из другой жизни, и так оно и было. Отец говорил мне, что все они умели грамоте, и тогда мне казалось, что стоит только научиться этой науке, как тут же у тебя появятся и красивый камзол, и шелковые чулки. Я ошибался, правда, не очень сильно. Я внимательно осматривал свои необутые ноги, избитые острыми каменьями и покрытые ссадинами, и мечтал о том времени, когда смогу сменить свою дырявую рубашку на одеяния более приличные. Нашу семью в городе не слишком жаловали по причине нашей безобразной бедности. В церкви мы всегда стояли у самого входа и поминутно жались, опасаясь кого-нибудь замарать своей грязной одеждой, да и просто к кому-то случайно прикоснуться. Жена булочника запрещала своему сыну играть со мной, то же делали некоторые другие наши соседи. Иногда я играл в нищих и, если меня не прогоняли взрослые нищие, часами сидел на паперти, но городок наш был невелик, все знали друг друга как облупленных, и поэтому мне никто не подавал. Сами мальчишки тоже частенько надо мной смеялись, издеваясь над неопрятной и жалкой обстановкой нашего жилища, куда им было нетрудно заглянуть. В праздничные дни мальчиков наряжали в новые курточки, на ногах у них красовались башмаки без дырок, а мне надеть было нечего, и я слонялся в чем обычно. Несмотря на запреты старших, все мы всё равно бродили вместе, одной компанией, но несколько раз общее настроение нашей ватаги менялось непонятным мне образом, и я был побиваем довольно жестоко. То Альфонсо, сын булочника, подслушает за столом разговоры о том, что отец задолжал за три булки, то Педро, племянник трактирщика, услышит невзначай жалобы на то, что мать плохо отстирала скатерти – мать иногда брала что-нибудь постирать, – и маленькие люди принимались вымещать зло больших на мне как на зеркальном отражении моих несчастных родителей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.