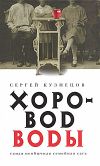Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
Однажды ночью я вполне отдался обуревавшему меня чувству. «Неужели – да», – признался я, и вдруг эти слова радостно и беззаботно застучали в потоке крови, толчками идущей в висках. Я с удовольствием подумал, что каретный сарай так и останется с незаделанной крышей до следующего лета, а флигель не будет пристроен. Этими занятиями я от скуки руководил лично, но пришла любовь, и стало не до них. К тому же сухой стук топоров будил во мне худшие чувства. Я с упоением готовился к поездке в Сурневку и, подыскав вскоре незначительный повод, отправился знакомой дорогой.
* * *
На этот раз меня встретили несколько настороже. Как будто флюиды чувства, носителем которого я являлся, беззастенчиво и красноречиво обосновались в воздухе этого дома задолго до того, как я уселся в коляску. Мне казалось, что я в самом нескромном виде предстал взорам дам, которые отнюдь не отгораживались от этого зрелища батистовыми платочками и не вдыхали нервически нюхательной соли, а смотрели прямо и насмешливо. Но я ведь прибыл сдаться, на что же было пенять? С пленными не церемонятся. Старушка была что-то уж слишком неразговорчива и поглядывала на меня с опаской и неудовольствием, а Елена то и дело заставляла меня глядеть себе под ноги. В довершение всему, проклятая дворня затаилась за дверьми и нагло перешептывалась. В напряженной тишине я даже слышал, как падала на паркет шелуха от семечек, и ушей моих достигли приглушенные девичьи смешки. Я было отчаялся, но вовремя вспомнил, что и сами пленные обычно обретаются в непотребном виде – я, в свою очередь, решил не церемониться. Вальяжно развалившись в креслах, я дерзко и улыбчиво поглядывал вокруг и делал изумленной Елене самые нелепые и неудобные вопросы. Я спрашивал, к примеру, есть ли в доме клопы, интересовался, во что́ стало надетое на ней платье и где сейчас находится персидская кошка, которую замечал я ранее.
– Чем вы так взволнованы? – осведомлялась моя хозяйка, а я, помогая себе жестами, никак не делающими чести племяннику моего покойного дяди, продолжал в том же духе. Впрочем, это забавляло Елену, и вскоре мы к обоюдному удовольствию стали похохатывать. В этот момент в дверях показалась Ольга Дмитриевна, бросила укоризненный взгляд уже дочери, а мне улыбнулась. «Черт знает что», – подумал я.
Ледяные нотки вновь зазвучали в было оттаявшем голосе младшей Сурневой. «На сколько же лет она старше меня?» – пробовал я подсчитать в уме, но вместо этого сделал это вслух. Я боялся себя, боялся ее, вспоминал Неврева, нервничал и старался сделать ей больно. Я нападал все язвительнее, выдавая себя вполне, и от того расходился еще больше и начинал испытывать к ней уже нечто вроде ненависти.
– Однако хватит, – со стуком захлопнула она крышку фортепьян, – это переходит уже известные границы.
– Ну что ж, – тяжеловесно парировал я, – я добился того, чего хотел.
– Этого ли вы хотели?
Мы простились очень холодно, и, в крайней досаде на свою глупость, я ехал домой, проклиная ее, себя, всё вокруг. В последнее время я взял манеру проклинать чересчур часто, и это открытие также не обошлось без проклятия. Будучи раздражен до последнего предела, я даже легкое почесывание от ворсинки одежды принял за укус насекомого. «Неужто я клопов на себе притащил?» – ужаснулся я, поднял своих людей, и до света мы искали несуществующих клопов, бегая со свечами по всем комнатам, перетрясая тряпки и ворочая мебели. Клопов я боялся до смерти, а смерти – еще больше.
* * *
Всю следующую неделю я провел с гадким чувством. Невезение казалось мне почти итогом всей дурацкой жизни. С досады я принялся было читать, но именно по этой причине чтение не шло, и я слонялся по дому, злобно и презрительно взирая на ежедневную суету своих владений. На глаза мне попался старый шкап, оклеенный изнутри разноцветной бумагой. Шкап помещался в темном чулане, куда залез я от скуки. Я с детства помнил этот неуклюжий, покрытый темным лаком и буйной резьбой шкап, испокон веков стоявший в чулане, где много лет назад я частенько проводил долгие, но загадочные часы, скрываясь от мсье Брольи. Тот поднимал в доме переполох, все бросались на мои поиски, и всегда меня кто-нибудь обнаруживал. Я выглядывал из пыльной темноты умоляющими глазами, которые по тесноте чулана заменяли мне отчаянные жесты, и заклинал не выдавать моего убежища. Меня искали дальше, а я удобно устраивался на старых матрасах и, завороженный, впивался взглядом в полоски света, проникавшие из солнечного коридора через кривые дверные щели. Дверь почти наглухо отгораживала солнце, и всего две светлые полоски, упруго застыв у порожка, вторгались в царство тьмы. Вот в чем дело, размышлял я, опершись спиной о черный шкап, всё дело в том, чтобы не закрывать дверь – тогда свет будет переходить в темноту плавно и постепенно, незаметно и неторопливо.
Шкап всегда стоял под замком, и что таил он в своих неведомых недрах – про то знал один мой покойный отец. С грустной улыбкой ласкал я глазами эти остатки своего детства, пытаясь хоть на секунду зацепиться за него, за какой-нибудь его остро и неосторожно выступающий уголок, распластав душу в воспоминаниях… Я вызвал Трофима и велел принести ключи от старого шкапа. Трофим зашаркал за ключами, но ключей не нашлось, и мы сломали замок железной палкой. Дверцы словно приросли к основанию – дерево скрипело, обсыпая меня какой-то шелухой, отставшими кусочками лака, травяной пылью, трухой и черт знает чем еще. Я распахнул их широко и заглянул вовнутрь. Шкап был почти пуст – в углу на боковой стенке висел иссохшийся березовый веник, на дне белели обрывки материи, а на верхней полке я обнаружил несколько старых книг. Я обтер их и прочитал названия. Одна была французская и называлась «Любовь до гроба», прочие были на родном языке, но носили не менее захватывающие заголовки. Впрочем, одна оказалась «Философией» Шервуда – ее я поставил на место.
«Какая прелесть», – благоговейно шептал я, чувствуя в руке несколько фунтов увесистой любви, не ощущая, однако, тяжести гроба. Я жадно набросился на свое приобретение. Я читал, как готовая на всё (во имя любви) девица де Труа, взращенная в душном от одеколонов покое с видом на бескрайние провансальские виноградники, мечтала о принце, который бы вывел на свет божий ее истосковавшуюся по воле душу, в то время как ее суровый отец гонялся за алжирскими пиратами близ Сеуты, следя, однако, как бы самому не угодить в лапы испанцев… Принцем оказался худощавый юноша, весь сентябрь таскавший корзины с виноградом под самым окошком томной, но самоотверженной девушки. Едва она взглянула на него черными горячими глазами, ей сразу стало ясно, что парень – не простолюдин, а урожденный дворянин, родителей которого давным-давно поглотил мерзкий дракон на самом краю христианского мира. Ведь только так можно было объяснить, почему незнакомец имел такие чудные маленькие руки и не стриг роскошных льняных волос… Впрочем, я не стану пересказывать концовку этого поучительного романа – вы всё увидите сами. Я читал и ощущал, что Елена – словно огромный весенний ком снега, готовый свалиться с крыши, а я для него – только луч солнца, от которого ком лишь подтаял, осел, чтобы еще надежнее подготовиться к своему безвозвратному движению. Мысль, безусловно, верная, но кто бы научил меня действовать в полном согласии со своими мыслями, если даже все прожитые годы привели пока только к осознанию этой великой истины?
* * *
Всё свершилось на удивление быстро: я прибыл в Сурневку незадолго до заката, уж и не могу сказать – намеренно ль, нет ли. Ольга Дмитриевна снова удалилась хворать. Елена обрадовалась мне! Вот чего я не ожидал. Она неподдельно улыбнулась и облегченно произнесла:
– Ну, вот, нельзя же так, право. – Она взяла меня за руку, но, смутившись, тут же отдернула свою.
Уж поздно, когда, наговорившись, мы замолкли на мгновенье и она подошла к окну, я неслышно приблизился сзади, поражаясь своей храбрости. За моей спиной догоревшая свеча делала последние попытки рассеять лиловый мрак, жидкая желтая луна стояла низко над черной полоской леса и клала свой неземной свет на пол через раму окна причудливым узором. Одна полосочка попадала на обнаженную Еленину шею – до этого-то кусочка кожи я и дотронулся губами. Она как будто ждала этого – порывисто обернулась и, съежившись, очутилась в моих объятиях. Я себя не помнил и никак не мог оторваться от холодных ее губ.
– Я принесу тебе несчастье, – прошептала вдруг она, еще теснее прижимаясь ко мне. Я почувствовал, как теплая слеза прокатилась у меня между пальцев.
Елена смотрела в окно. Огромная луна во всем своем непознанном могуществе, словно олицетворение судьбы, еще ближе придвинулась к дому и обливала нас своими мягкими серебряными лучами. Это зрелище показалось мне многообещающим и зловещим. Я усмехнулся.
* * *
Нас венчали воскресным днем в первую неделю бабьего лета на рождество Пресвятыя Богородицы у нас в Никольском. Гостей почти никого не было – так, два-три местных помещика. Матушку я вызвал заранее, и сейчас Хруцкий в куцем фраке ублажал ее своим обществом, при разговоре почти касаясь матушкиной щеки своим красным носом. Она вежливо отодвигалась. Хруцкий хохотал. Поначалу матушка сильно противилась моему выбору, но я был непреклонен, и она, скрепя сердце, уступила. Изрядно уже навеселе, меня тронул за рукав Хруцкий:
– А ведь я лгун настоящий, – весело подмигнул он мне. – Ведь я вам налгал давеча, а прямодушие есть мое неизменное правило. – Он глядел на меня, счастливо хлопая веками.
– Полноте, о чем вы? – не понял я.
– Ведь солдат мой зажег невзначай.
– Что́ зажег? Какой еще солдат?
– Да дом-с, замок-с.
– Что́ за дом?
– Да графский же дом. Ну, тот, откуда картины эти происходят. Вспомнил я вчера. Что-то пошел я щеночков своих проведать и припомнил. Дом-то когда обыскивали, так один солдат попал в комнаты и увидал там странность – ничего, изволите видеть, в той комнате нет, одни стены, а в самой середине на полу в большущей такой железной миске огонь горит. Не то чтобы камин – нет-с, заклятие какое-то. Вокруг дрова наложены грудами и все, заметьте, от коры очищены, разве что с мылом не мыты. Погода-то была неважная, дрянь была погода. Ну, шинель-то и намокла. Он, болван, и завалил миску полою. От того и занялось. Я, знаете… не то чтобы… а порядок в роте всегда имел отменный. Но что́ же делать прикажете, если дурень такой попался. Ничего-с не поделаешь… От свечки, говорят, Москва сгорела, – захихикал Хруцкий. – Я никому и не говорил, потому что может и поп поджег, а у меня, так сказать, карьер. А вам сейчас говорю, потому что вижу, что вы человек с понятием и благородный.
Сразу после свадьбы мы с Еленой намеревались выехать за границу, а в ожидании необходимых документов поселиться в Петербурге, в доме покойного дяди.
– Я не представляю себе, как мы вступим в осень. Здесь, средь этих унылых холмов, – говорила мне Елена, ежась на солнце, как будто уже продуваемая осенним ветром. – Ты только представь себе, – твердила она, – только представь: деревья станут голыми палками, их все до нитки вылижет мокрый ветер, бр-р-р, грязь, слякоть, дождь день за днем, а главное – темнота, темнота, о боже, это невыносимо. Поедем в Италию, быть может, там будет сухо и светло. Но твоя татап… не могу понять, ненавидит она меня или презирает?
– Она грустит, – улыбнулся я, – всего лишь грустит.
* * *
В дядюшкином доме всё было строго и пусто. Люди сновали по нему неслышно и незаметно, как тени. Мебель не меняли, всё оставалось на своих местах. Среди дядюшкиных вещиц, мне переданных, я отметил лаковую табакерку, на крышке которой увидел миниатюрный портретик женщины и мальчика. Я приложил табакерку к портрету Хруцкого и увидел без труда, что между этими изображениями существует очевидная связь. Табакерка, кроме того, приглянулась мне и с другой стороны – я собирался использовать ее для ношения табака. Старые вещи скрепляют, сплетают наше непрерывное существование подобно узору восточного ковра. Одно обнимает другое, какой-нибудь древний гобелен намертво зацепляется за новейший монокль, а мы барахтаемся в этой необычной корзине. Вещь, на мой взгляд, тогда лишь умирает, когда теряет способность служить по своему изначальному предназначению. Впрочем, и здесь встречаются исключения. Есть вещи-калеки, точно так, как есть солдаты с утраченными ногами или руками. С ними, правда, главным образом имеют дело низшие сословия, когда делают ручку для сковороды из ножки венского стула.
Обедали в той самой столовой, где много-много времени тому назад дядя томил нас с Невревым печальною своей историей. Елена села на тот самый стул, где сидел тогда Владимир. Некий сдавленный звук вырвался у меня из гортани. «Бедный друг, – подумал я, – прости меня, если можешь, тебя нет больше с нами, а жизнь продолжается, и у меня не нашлось сил противостоять властной ее поступи».
С отъездом нашим откладывать не предполагалось. Мне моя женитьба (женитьба на Сурневой, я хочу сказать) не казалась предосудительной, но, по своему обыкновению, я не подумал о том, что некоторые другие могут рассудить как раз иначе. Елена справедливо считала за лучшее не привлекать к себе внимания, полагая, что общество – буде в нем надобность – за сроком давности встретит нас без косых взглядов. Но то, что не удавалось ей, легко получилось у Николеньки Лихачева. Я живо представил, как воровато он спросил швейцара: «Одни?» – и, оглядываясь, заспешил наверх, наступая носками на самый краешек лестничных ступеней. Елена встретила его как доброго знакомого:
– Ах, Nicola, вы единственный, кто осмелился посетить несчастных вольнодумцев, – проворковала она, протягивая к нему обе обнаженные руки.
– Помилуйте, – в таком же духе отвечал он, отвешивая византийские поклоны, – правду говорят, что деревня навевает тоску. Откуда такой decadence[14]14
Упадок (фр.).
[Закрыть]?
Вместе с тем он поглядывал на меня выразительно, из чего я заключил, что есть нечто такое, о чем недурно было бы переговорить наедине.
– Собрались в Европу, я слышал? – продолжал он. – Чудно. Россия, entre nous[15]15
Между нами (фр.).
[Закрыть], скучновата. Если не служишь, – рассмеялся он собственной шутке. – Как я. Да, надо служить, а так ведь хочется куда-нибудь поехать. В Швейцарию. Увидеть горы. Ах, горы.
– Поезжай на Кавказ, там много гор, – заметил я с улыбкой.
– Ах, никуда, никуда я не поеду, – запричитал он, но метнул в меня уничтожающий взгляд. – Так много работы в департаменте, просто ужас. Я ведь за всех, за всех. Но Господь с ними, послушаю вас.
Когда Елена удалилась к себе, я спросил:
– Что́ скажешь?
– Что́ сказать? – деланно удивился он и зашелся неживым смехом. – Ну, что́ здесь скажешь – ты слишком смело поступил. Езжайте, езжайте, это самое лучшее. Поживете годик в Париже, а то у наших сплетниц длинные языки. Нам ведь неприятностей никаких не надо – ни больших, ни маленьких.
– Стало быть, ты не одобряешь моего поступка? – спросил я напрямик.
Николенька испуганно оглянулся:
– Видишь ли, здесь особый случай, так сказать, и всё же дело не в частностях, позволь тебе заметить. Вообще женитьба – грустное для меня дело, а уж женитьба друга – тем более. Ты же себя просто губишь. Семейное счастье – разве это счастье для человека дела, для мужчины? Это же отрицание всего: умственной жизни, стремлений, карьеры наконец. Ты бы не сделал подобной нелепости, если б служил. Удивляюсь, как твоя матушка позволила.
– Ничего, – возразил я, – некоторые звездоносцы только своим женам и обязаны.
Николенька сделал жест рукой, который должен был означать, что моя жена – не самая подходящая для этого жена.
– Ты безумец, – проговорил он недовольно, – куда ты спешишь? У тебя же всё есть, всё было, – поправился он, – а теперь ты залез в болото… Зачем ты вышел из службы? Перевелся бы опять в гвардию, поближе ко двору…
– Коля, – ответил я, – я уже удовлетворил свое любопытство в полной мере, поверь. Мне это неинтересно, вот тебе крест святой. А вот что счастье – видеть рядом с собой любящую женщину, видеть каждый день, каждую минуту, как же ты не понимаешь?
– Да кто ж тебе мешал – это никому не запрещено, – улыбнулся он и понизил голос, – сам государь… – он снова оглянулся и подался ко мне, – погоди, я тебе сейчас расскажу, был я тут у Сесиль Новодворской, она мне, кстати, и сказала про ваш отъезд, так вот… – Тут Николенька рассказал мне неприличный анекдот про Николая Павловича.
– А я-то думал, – сказал я, – что у него любимая женщина – это гвардия, причем только тогда, когда одета по всей форме.
– Ты умрешь на дыбе, – фыркнул Николенька. – Смотри, не скажи такого моей тетушке, а то она тебя принимать не будет. Но всё же, что ты намерен делать теперь? Ну, поездишь, посмотришь, а дальше что?..
– Да видишь ли, – задумался я, – что и всегда – ничего. Ты со мной так говоришь, будто я до этого что-то делал.
– Мой тебе совет – приезжай, а мы тебе подыщем что-нибудь, что-нибудь эдакое, а?
– И просиживать штаны в канцеляриях до смерти? Увольте. Да, кстати, где нынче Ламб? Я слыхал, он вышел из службы?
– Так, так, – закивал Николенька, – тетка у него преставилась во Франции, открылось наследство, он поехал. Отец, правда, остался и его не пускал, но что же было делать – надо было ехать. С тех пор нет известий.
Николенька ушел недовольный.
* * *
Петербург погрузился в пучину дождей. Всё было мокро – крыши, стекла, козырьки модных магазинов. Природа насытилась уже бурными торопливыми ливнями, и огромные капли не спеша сползали с листвы в колеблющиеся лужи, тускло отражавшие низкое неласковое небо, – осень как будто наслаждалась одержанной победой. Время было и нам отправляться в путь. Но один пасмурный день сменял другой, а мы не двигались с места, хотя не выезжали и принимали только своих близких. Мною овладела грусть необыкновенная – спущусь в библиотеку поутру, брошу на колени какого-нибудь Поля де Кока, да и сижу без дела, бездумно глядя в мутное окно. Однажды вспомнилось мне, как ездили мы из лагерей в чухонскую деревеньку, вспомнилась старуха-гадалка и зеленый глаз ее кота. Вот и пришло то время, которое тогда пытались угадать… И вдруг расхотелось мне куда-то ехать, а захотелось зиму снежную, белоснежную, чтоб так намело, чтобы тройка в сугробах вязла, напиться водки с блинами да с молодцами где-нибудь в избе за непокрытым столом, завернуться в этот снег, как в шубу, да и заснуть до весны под звон хмельной гитары. Ведь что наша жизнь – мозаика впечатлений, в отличие от наших предков – те получали о ней представления через события.
– Ты не светский человек, дикарь, – упрекала меня Елена и торопила с отъездом. – Всё-то тебя тянет в твою сонную Москву.
– Если б туда, – замечал я и ничего не говорил определенно.
Впрочем, осень любое счастье почернит. И еще одна смутная страстишка ворочалась во мне. Танцевал ли я экосез у княгини Ф., пил ли чай у Н.Н. или просто ехал ли в карете – всё мне казалось, что нужно для жизни еще что-то, что-то такое важное, обязательное, для чего всё остальное служит лишь оправою. А между тем я имел почти всё, чего может пожелать человек. Николенька тож подлил масла в огонь, сам являя собой пример, противоположный моему образу жизни. Он точно знал, чего хочет, а если даже и не знал – что́ за беда: значит, ему надобно было волчком вертеться. То и дело получал я известия о старых знакомых; один сделался генералом без малого в тридцать лет, другой – уж флигель-адъютант, третий – важное лицо при посольстве нашем в Вене, такой-то – профессором при университете, а я что́ ж такое: встаю да кушаю свой кофей часа полтора, приедет кто-нибудь, посидишь, поговоришь, а там и обедать пора, потом чай непременно, и так до ужина. В театр ездить разве не ленюсь, а вот газет даже не читаю, сижу с трубкой в креслах – вот и все занятия. Конечно, всё это не без удовольствия, и тысячи прочих так же живут, а то и хуже. Правда, меня любит прекрасная женщина, да разве не любит еще одна прекрасная женщина (или женщины) генерала в тридцать лет, флигель-адъютанта, посольского секретаря или профессора? Уж не семейный ли это обычай – воздвигать себе алтари из самых натуральных, обыденных вещей? Опыт дяди, упокой господи его душу, как будто указывал на это. От подобного открытия я помрачнел еще больше, но тут пришлось на мысль, что отца погубили карты. Мне сделалось спокойнее – пусть хоть карты, какое-никакое, а всё ж дело.
* * *
Стояла уже глухая осень, когда мы наконец наняли каюту на последнем пароходе, отплывавшем в Гавр. Николенька провожал нас до Кронштадта. Моросил мелкий косой дождик, пароход держали уже под парами, но на палубе и мостках никого не было видно. Одинокий экипаж мок на валу – вскоре и он уехал. Помощник капитана, любезный молодой француз, показал нам каюту, похожую больше на большой темный сундук с круглым, толстым и глухим окошком и узкими койками, вделанными в стены. Непогода еще усилила волнение, связанное обычно с отъездом. Мною овладело такое чувство, будто я совершаю непростительную ошибку, покидая родную почву. Глупое, глупое чувство – тяжело уезжать в ненастье. Мой брегет прозвонил полдень, и сразу корабль вздрогнул. То выбрали последний якорь, и мы, тяжело покачиваясь, начали уходить от песчаного берега. Гудок, пронзительный даже сквозь шум дождя, надорвал мне сердце. Елена ушла в каюту, а я долго смотрел на одинокую круглую фигурку Николеньки в широком боливаре, мне почудилось, что он шлет нам вдогонку крестное знамение. Очень скоро и берег, и мрачные бастионы, и Николенька на валу исчезли из виду совершенно, и осталась только серая клубящаяся каша. Быть может, именно так выглядел божественный эфир в день творения. Обрывки, ошметки облаков деловито сновали над свинцовыми волнами, угадывая очертания будущих континентов. Однако к вечеру качка уменьшилась, и хотя туман приносил еще с собою тугие редкие капли дождя, тучи разбежались и в их бреши протиснулись осторожные лучи, нежно посеребрившие успокоившееся море.
В полной темноте прошли мы Борнгольм, просигналивший ярким маяком, а через пять дней бросили якорь в Зунде, против Эльсинора. Один из немногих пассажиров, возвращавшийся из России француз, пожелал съехать на берег, и мы, не без опаски забравшись в шлюпку, последовали его примеру. Погода стояла престранная – солнца не было, не было и пасмурно, а было светло, прозрачно – пусто. Средневековый замок, который имели мы целью осмотреть, мрачно и настороженно следил за нами узкими проемами окон. Невзрачные домики – невольные свидетели бессмертной старины – тесно и беспорядочно жались вкруг него, как будто напуганные нашим вторжением. Они точно были не рады, что один известный англичанин открыл всему миру угрюмую правду древних их обитателей. Но англичанин ушел неотмщенным, а мы были здесь – новейшие Мельмоты – и бродили надменно между коров, попирающих следы Гамлета. Какую пищу находили животные на этом скудном берегу, я не разглядел. Да, наглые грязные чайки, коровы, глаженые чепцы, пароход – и всё это на том месте, где бродил между соленых брызг, задумчив и угрюм, мятежный королевич. Равнодушные волны глухо пинали отшлифованные валуны в такт неожиданным мыслям, а из залива выводили свои лодки то ли рыбаки, то ли контрабандисты.
– Вот она, усталость веков! – Елена пробудила меня от раздумья. – Так и мы устанем любить, увянем и превратимся в такой вот Эльсинор, а внуки, пожалуй, и посмеются…
– Не посмеют, – ответил я, – ведь мы будем для них очаровательной стариной.
– Вот она, твоя старина, – кивнула она головой, – что́ в ней очаровательного? Да и что́ этот Гамлет, как не дикарь – навроде наших мужиков… Всю жизнь прожил в этой деревне, считал своих коров да детей, грабил соседей и купцов, обрюзг и от того, что имел три отреза шелка и серебряный крест, считал себя повелителем мира – это смешно.
– Гамлет умер. – Я удивленно повернулся к ней.
– Да? – безразлично сказала Елена. – Что ж, хорошо сделал.
– Может быть, вы и правы, madame, – молвил мсье Румильяк, наш спутник, неслышно приблизившийся к нам, балансируя на скользком камне. – Ничто, скорее всего, не изменилось с тех пор, разве что флаги развевались над крепостью, и домов поменьше, и публика потемнее. Эльсинор значит «коровья деревня».
– При чем здесь это, – с досадой возразил я, – а впрочем, я уверен теперь в том, что не только тень старика, но и тень самого Гамлета здесь вызвать не легче, чем в любом другом месте.
– О да, в кабинете проще, – откликнулся с улыбкой мсье, довольный тем, что я угадал его мысль. Мы, судя по всему, испытывали здесь сходные чувства, с ними и направились к шлюпке, где поджидали нас матросы. Зеленые волны всё ворочались между камней, меланхолически перебирая холодными пальцами водоросли, как Офелия – свои бледные цветы.
Мсье Румильяк, проведший в России около года по торговым делам, сделался нашим развлечением в дороге. Он запросто заходил к обеду, но чаще – из-за тесноты кают – мы устраивали наши rauts[16]16
Встречи (фр.).
[Закрыть] на палубе. Поскольку наш новый знакомый имел самое полное представление буквально обо всех сторонах французской жизни, то он и взял на себя обязанности проводника задолго до того, как мы ступили на французскую землю. О России он тоже имел представление, как было сказано, не понаслышке. Нередко он судил нашу жизнь пристрастно, но больше уклонялся от ответов, видимо, щадя самолюбие своих собеседников.
Однажды мы, как обычно, стояли на корме и любовались простором.
– Смотрите, как красиво, – воскликнула Елена, указывая на французский берег, кусок которого был ярко освещен солнцем, пробившимся из-за туч.
– Очень красиво, сударыня, – согласился Румильяк. – Это, если угодно, иллюстрация к прошлому нашему разговору, – обратился он уже ко мне. – Поглядите, поглядите, как чудно освещен этот участок, и посмотрите вокруг – серые унылые краски, которых не касается солнечный свет. Так и в России – самая незначительная часть населения образована, богата, находится на острие европейской цивилизации, пользуется всеми ее благами, а большинство населения – тёмные крестьяне, трудами которых вы живете.
– Все иностранцы, бывавшие в России, говорят то же, – возразил я, – но вы упускаете из виду, что и в нашем сословии большинство таких, которые едва отличаются по уму и манерам от собственного камердинера, а в университетах в то же время есть профессора из крепостных.
– Всё так, – сказал Румильяк, – однако подобным неравноправным положением вы лишаете народ возможности самому создавать политику.
– Подобно тому, как это происходит во Франции добрых пятьдесят лет, – не без иронии заметил я. – Нет уж, увольте, мы будем жить своим умом. Довольно нам обезьянничать.
– Что же, у каждой страны свой путь, – отвечал француз, – в Германии всё решают философски, а удел французов – политика.
– Вы рискуете тогда сгореть в революционном вихре. Вот почему, – заметил я не без злорадства, – один известный прорицатель прочит в 1848 году Франции революцию, а Петербургу – только холерную эпидемию.
– Полноте, – улыбнулся Румильяк, – допустит ли Бог до гибели Франции? Никогда! Видите ли, все ответы нужно искать в вере. Немцы, утвердившие протестантизм, раскрепостили разум, и философ у них нынче то же самое, что у нас – министр правительства.
– Гениально, – воскликнул я, – об чем же мы спорим тогда? Вы сами только что сказали главное, а я продолжу – в России православие играет ту же роль, что римская церковь во Франции, лютеранство – в немецких княжествах, и даже, кажется, немного более. Сами принципы нашей веры таковы, что позволяют без потрясений строить свое существование, и существование это слагается усилиями всех сословий. Помещики владеют землей, крестьяне обрабатывают ее, а царь властью, данной Господом, посредник между всеми классами – вот точно так, как вы продаете наше сало и пеньку на своей прекрасной родине и в ее колониях. Кстати, о них. То и дело наши газеты сообщают о тех ужасных притеснениях, которые там творятся. Между тем, в России инородцы живут вольно, веруют во что хотят, и никогда им не суют креста на пушечном лафете.
– Да, ваши башкиры имеют о себе память в Париже, – невесело пошутил Румильяк, – однако это всё младенчество, что вы говорите. Православие, завещанное вам дряхлой Византией, согласитесь, мертвая догма. Я скажу вам откровенно, никаких признаков развития, никакого движения мысли не заметил я в вашей церкви. Даже формы, и те большей частью неизменны столько времени! Спору нет – церковная живопись прекрасна, но призвана впечатлить, пожалуй, и напугать, а не задуматься. Отсюда я вывожу особенности народного духа, а именно: терпение, молчаливость и покорность. Но ведь вы сами любите повторять, что в тихом омуте черти водятся, – вот и рассудите сами, что́ может ожидать Россию.
– Такой опыт мы уже имели, – не согласился я, намекая на двадцать пятый год, – Россия не приняла этих людей.
– Мне говорили, что среди заговорщиков было немало дельных и значительных людей, – возразил Румильяк.
– Безусловно, однако они решили освободить народ, не спросясь его самого. Так сказать, рассчитали без хозяина. Вот народ только и глазел, как их из пушек расстреливают. А если бы вы видели коронацию – красноречивое зрелище, даю вам слово. Вот где истинно дух народный проявил себя.
– Нет, нет, – мотнул головой Румильяк, – всему свое время. Буря еще только собирается, и чем дольше вы будете тянуть с освобождением крестьян, тем страшнее она прозвучит.
– Г-н Румильяк, – вмешалась Елена, до тех пор молча наслаждавшаяся видами, – для чего вы все напасти обрушиваете на бедную Россию? Что же Северная Америка? Там, кажется, целые плантации живут рабским трудом, не так ли?
– Сударыня, – вежливо отвечал Румильяк, – вы судите по внешнему признаку. Рабство в России напоминает отрока, растущего в родительских покоях. Он не играет с другими детьми, не развивается, поэтому я и утверждаю, что, когда придет для него время жить, то жить он не сумеет, ничему не наученный в срок. Америка же подобна взрослому уже человеку, которого постигла хотя и позорная в его положении, но излечимая, а главное, кратковременная болезнь.
– Не пройдет же она сама собой?
– О нет, не думаю, скорее всего, тоже используют порох вместо порошка, но раны быстро зарастут, – с неизменной улыбкой заключил наш иноплеменный пророк.
– Тогда наша тесная дружба с Американскими штатами есть одно из знамений времени, – заметил я.
– Быть может, и так, – кивнул головой негоциант, – быть может, не в очень далеком будущем свет увидит две исполинские демократии – Россию на Востоке, Америку на Западе: перед ними смолкнет земля.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.