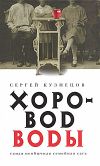Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
– У вас месяц – всё равно что год, – съязвил я».
Тревельян как-то сник, сгорбился, уловив твердость в моем ответе.
«– Что ж, очень жаль. Очень, очень жаль, – подавленно произнес он, глядя себе под ноги. – А я было сказал графу…
– Ага, – догадался я, – так вы едете вместе с теми офицерами».
«Совершенно верно», – подтвердил он и рассказал, что разыскал Кноспе и попросил его ходатайствовать перед ними. Кноспе чрезвычайно огорчился, но никакие увещевания ни к чему не привели.
«– Как же ваши родители? – напомнил я. – Они ждут вас. Да и Кноспе вы ставите в неловкое положение.
– Ничего, ничего, – отвечал Тревельян, – это не займет много времени. Я должен увидеть Персию, священные огни. Подумайте только – священные огни, которые горят с начала мира! Мужественные люди, которые из поколения в поколение любуются их божественными отблесками.
– Да я и Европу еще толком не видел, – заметил я.
– Европу увидеть просто – сядете в дилижанс и поедете, не правда ли? В конце концов, вы не русский, которому суждено ее увидеть только в составе какого-нибудь кавалерийского полка. А здесь мы послужим науке – кто может быть счастливее нас?»
Я помалкивал. Густав продолжал метаться по нашей узенькой комнатенке. Наверное ему казалось, что он собирается в дорогу, хотя собирать было нечего. Просто нужно было надеть сюртук и выйти за дверь. Мною овладело тихое раздумье. Рассмотрев свое положение со всех сторон, я неожиданно для самого себя пришел к выводам, которые никак не согласовывались с моим стремлением поскорей увидеть родину. Возвращаться домой мне было небезопасно, а сам дом не оставил по себе ничего, кроме доброй памяти. Брат нес бремя собственных привязанностей, и наши отношения были не таковы, чтобы ускорять встречу ценой поступления на военную службу. А дело шло к тому, я это чувствовал и этого опасался. Я не был честолюбив – это первое, что отвращало меня от упомянутого исхода. Во-вторых, я не понимал хорошенько, кого и как мне предстоит убивать. Под чьими знаменами наносить удары? И последнее – никакой природной тяги к подобной жизни я за собой не замечал, а что́ до моего увлечения фехтованием, так это было ремесло, игра, доставлявшая мне лишь скромные средства к существованию. Я был молод, и, следовательно, даже грустный опыт моей жизни не успел еще превратиться в ту усталость, которая позволяет человеку совершать действия только хорошо известные, хотя, может быть, и не приносящие никакого удовольствия. Но главное, у меня имелась одна штука… свобода, вот что. Я нигде не состоял, ничего не имел за душой, а только в душе, то есть совсем рядом. Мир лежал у ног, ноги болели. О, человек, – внезапно воздел руки старик, – вот он я, памятник твоему неразумию! Едва избежав одной тюрьмы, наскоро насладившись свободой в три недели, я начал томиться смутной жаждой новых застенков. Итак, я вполне осознавал свой выбор: либо неизвестность на родине, либо вдали от нее, однако всё на свете решает чувство – верьте мне, это так! Когда мы молоды, мы всегда поступаем как раз обратно тому, что советует наша башка. Поймав в темном уже пространстве нашего жилища умоляющий взгляд Тревельяна, готового к выходу, неожиданно для себя я приподнялся с кровати и хмуро сказал:
«– Погодите, я с вами. Дойдем вместе до порта, а там видно будет. “В конце концов, – подумал я, – всего-то несколько месяцев, и мы вернемся в первую неизвестность, превратив в известность вторую”.
– Благородный друг, – только и вымолвил растроганный Густав».
* * *
В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел Ламб, играя довольной улыбкой. Я приложил палец к губам, но он и сам уже отложил свои восторги, видимо, по поводу отлично улаженных дел, и молча присел с нами.
– Таким образом, – продолжил Троссер, – мы ступили на борт английского фрегата «Надежда» и через две недели утомительного плавания под раскаленным солнцем увидали красный персидский берег и бурую цитадель британской торговой фактории. В Персии свирепствовала очередная смута – Каджары пытались вернуться к обладанию страной. Проницательность англичан в делах такого рода не имеет себе равных, и в Каджаре Ага-Мохамеде они зорко различили того властителя, при котором Иран имел возможность снова стать единым целым. Несмотря на то, что до покорения мятежного Хорасана оставалось еще несколько лет, англичане уже сделали свою ставку – и майор Кэмбелл, и граф Радовский, и прочие офицеры по долгу службы сопровождали английского посланника, имевшего целью встретиться с Ага-Мохамедом и заранее расположить его к дружбе с Британией. Не успели мы еще как следует осмотреться в крепости, как уже прибыли люди Ага-Мохамеда, которые должны были провести маленькое посольство в глубь страны. Путь предстоял неблизкий и небезопасный. Сперва предполагалось добраться до Шираза, где наш почетный конвой обещали пополнить некоторыми знатными мусульманами. Нет нужды говорить, что в стране, охваченной междоусобицей, по дорогам болталось множество самого темного люда. Английские купцы и носа не казали из крепости, гарнизон которой стоял под ружьем, в любой момент готовый прикрыть, если бы потребовалось, отступление населения на корабли. Тревога чувствовалась весьма отчетливо, и многие чиновники уже паковали сундуки, не сегодня-завтра намереваясь отплыть в Индию. В таких условиях наши офицеры намекали Тревельяну, что разумнее было бы не подвергать себя напрасной опасности, но тот, конечно же, не для того проделал это путешествие и претерпел все эти мытарства, чтобы разглядывать страну своих грез с подмостков глинобитной башни. Само собой разумеется, что созерцание прикорнувших на рейде судов Ост-Индской компании с повисшими парусами, скучающего английского воинства, суетливых чиновников Его Величества, а также членов их семейств, и прослушивание из их уст всяческих небылиц никак не могло удовлетворить его любопытству, и, так сказать, жажда его в стенах пыльной крепостицы была неуемна. Впрочем, опасения Кэмбелла, как показало будущее, не стали пророчествами. Нас ждали тревоги другого рода, и, увы, мы оказались обязаны их возникновению исключительно сами себе.
Не теряя времени, мы деятельно готовились к походу. Тревельян запасся писчей бумагой и перьями в местной европейской лавчонке, а за день до выступления, по моему настоянию, сторговал у крепостных ворот, где всегда шумел неистовый базар, двух отличных куртинских жеребцов вместе с седлами и сбруей. Попутно он каждого встречного и поперечного расспрашивал об огнепоклонниках. Мусульмане только пожимали плечами, стараясь угадать причину такого неистребимого внимания к народу жалкому, неверному – к габрам, как они презрительно именовали зороастрийцев, и махали грязными руками на север, давая понять, что там он встретит этих неверных собак с их смешными огнями и нечистыми обычаями. И Тревельян щурил глаза на ярком солнце и всматривался в затянутый жарким маревом горизонт, где бурые волнистые горы подпирали бесконечно синее небо.
* * *
Ранним, но уже нестерпимо душным утром наш маленький отряд, под заунывные крики муэдзинов и бойкий перестук пресвитерианского колокола, выполз на большую дорогу. Дорога была широка, но очень камениста, и розовая пыль, вмиг поднятая множеством копыт, осыпа́ла нас словно снежная пороша. В авангарде кавалькады ехал майор Кэмбелл в парадном мундире рядом с каким-то знатным беком, десятка три королевских стрелков следовали за экипажем посланника, где поместился обязательный миссионер, по виду чистый иезуит, и за повозками с обязательными подарками, которые двигались в центре, а по обе стороны отряда гарцевали беки и их нукеры на таких превосходных лошадях, какими мне никогда прежде не приходилось любоваться. Навстречу попадались первые персы, спешившие в Бендер-Бушир по торговым делам, и многие из них, сбитые на обожженные солнцем обочины, останавливались и долго оглядывались на красные куртки английских кавалеристов. Мы с Тревельяном держались позади, но несколько раз он проявлял нетерпение и выносился на своей лошадке далеко вперед, смешно подпрыгивая в высоком персидском седле. Я чувствовал себя неуютно без своей неизменной спутницы, но шпага – отмирающее оружие тесных городов – едва ли здесь на что-нибудь бы сгодилась.
«Ну, довольны вы?» – спросил граф Радовский, направляя своего коня к Тревельяну.
Тот отвечал счастливой улыбкой, а я с досады также не ронял ни слова. Местность вокруг лежала безлесная, печальная, и все прелести Востока пока ограничивались статными конями наших провожатых, ни на минуту не прекращавших свои ловкие джигитовки. Искусство наездников, таким образом, казалось достойным самих этих благородных животных. Очень скоро наш караван остановился, и все до одного персы слезли с лошадей, расстелили прямо в пыль разноцветные коврики и предались намазу. Мы тоже спешились и в стороне ожидали завершения обряда. Граф сбросил на мгновенье душный шлем, и густые белокурые волосы свободно обрамили его загоревшее лицо.
«– Не правда ли, граф, – заметил Густав, – чем южнее, тем настойчивее солнце требует поклонения. Здесь почитаются иные боги, которым нет дела ни до Мохамеда, ни до Исы – минутных заблуждений человечества.
– Почему все верят в богов? – кивнул тот на мусульман. – Все верят в богов, хотя их никто не видел. Отчего не верят, скажем, в добро, ведь его видели все. Как это делают эти ваши бедные габры».
Было видно, что эти богохульники очень довольны друг другом.
«– О, как вы правы, граф, – живо откликнулся Тревельян, – еще Шардэн писал, что зороастрийцы устраивают праздники в честь стихий.
– Да, именно так, – сощурился Радовский, расстегивая ворот мундира, – добро как стихия. Стихия души. – Он вздохнул. – К сожалению, это не мешало Дариям и Ксерксам, культивировавшим это абсолютное добро, лить кровь ручьями.
– По крайней мере, они делали это откровенно. “По милости Ахурамазды я таков, что я – друг правых, я – недруг злых. Я не желаю, чтобы слабым делали зло сильные, и я не желаю, чтобы сильным делали зло слабые. Того, что справедливо, того желаю. Я не желаю, чтобы кто-либо, делающий зло, не был бы наказан”, – привел Тревельян доподлинные слова Дария.
– Что ж, – ответил Радовский, – тоже добродетель. “Я благодарю Бога за все благодеяния, которые он мне оказал. Множество благодеяний вызывает в ответ глубокое чувство благодарности. И поскольку я считаю, что благодарность должна выражаться и словами и делами, я стремился поступать так, чтобы наилучшим образом угодить миру. И я понял, что пока существует небо и земля, горы остаются недвижимы, реки текут и земля хранит чистоту, благодарность эта заключается в справедливости”.
– Между этими надписями тысяча лет! – вскричал восхищенный Тревельян. – Браво, граф! Хосров Ануширван, который приказал высечь это изречение на раскаленной глыбе, выполнил бы любое ваше желание».
«Боюсь, что нет. Великой ведь истиной является то, что мир принадлежит людям труда, а пользуются им бездельники», – покачал головой граф, косясь на жалкие поля с чахлой растительностью, которые неровно тянулись вдоль дороги. По углам узких возделанных полос белели груды камней, собранных с участков.
«– А вы бы попросили справедливости для всех? – спросил Тревельян.
– Если бы это было возможно. Так что и Хосров Ануширван был справедливым на свой лад. То, что нам кажется справедливым, ему могло показаться святотатством. Единственное, что́ привлекает в этой религии, так это то, что солнце и огонь являются воплощениями истины. Им удалось понять, что антропоморфность в религии неизбежно приводит человека к самолюбованию. Она превращает его в этакого откупщика, терзающего мир в отсутствии и Отца, и Сына, и Святого Духа. Человек начинает забывать, что он такое, забывает, что он и сам – частица мира, и уж если создан, то не случайно, и в благодарность мир ждет от него не только резни цесарок и кур, не только бесконечных войн и мелочных раздоров, и видит в нем не повелителя и не раба, а достойного и честного союзника. Вообразите, что и Бог может быть не всемогущ, и человека породил, как сына, и возлагает на него надежды, подобные тем, которые престарелые родители мечтают увидеть воплощенными в своих неразумных детях. Тоже своего рода этика, не так ли? – улыбнулся Радовский разочарованной улыбкой светского человека.
– О, граф, – протянул Тревельян, – вам, видно, нелегко жить с таким безразличием в мыслях. Вы все презираете, вам все знакомо, вы ничего не любите».
«Почем знать, на мой век достанет любви. Вы же слышали: “…пока существует небо и земля, горы остаются недвижимы, реки текут и земля хранит чистоту”», – и он улыбнулся так, когда улыбаются не одни губы, а когда улыбается душа, передавая взгляду безмятежную уверенность осмысленного счастья.
Тревельян внимательно посмотрел на него своими близорукими глазами.
Вскоре намаз закончился, и мы двинулись дальше.
* * *
Климат Персии чрезвычайно переменчив. К полудню солнце припекает так, что просто невозможно держаться в седле, – вот почему караваны здесь часто передвигаются по ночам. Однако ночь готовит незадачливым путешественникам свои неожиданности – жуткий холод, достигающий своего нижнего предела перед рассветом. По мере нашего продвижения на глазах изменялся и ландшафт. Горы приобрели резкие очертания, хребты громоздились вдоль дороги, которая вела нас долиной быстрой, порожистой реки. Склоны были обложены песчаными осыпями, кое-где темно-зелеными оползнями виднелись редкие рощи невысоких дубков.
На третий день пути, незадолго до полудня, взорам нашим открылась следующая картина: по обе стороны дороги разбросались низенькие, без каких-либо украшений домишки, сложенные из бурых глиняных кирпичей. Чуть поодаль возвышалась величественная круглая башня из больших тесаных камней, около тридцати футов высотой, но без всякой двери или входа. Несколько мальчишек в суконных некрашеных штанах и рубахах, завидев всадников, бросились прочь, но замешкались. Два-три наездника вырвались вперед, наехали на них лошадьми и принялись нещадно хлестать их плетьми.
«– Велик Аллах! – только и сказал Радовский, поморщившись. – Что это за селение? – крикнул он персидскому толмачу.
– Нечистое обиталище подлых габров, – отвечал тот».
Мы съехали на плотную каменистую почву и направили лошадей в сторону деревни. При нашем появлении несколько женских фигур в ярко-зеленых одеяниях испуганно мелькнули в узких улочках между домиками. Радовский подозвал нашего переводчика и заметил: «Проклятье, они так боятся мусульман, что и говорить-то с нами не будут».
И действительно, едва протискиваясь на своих лошадях между неровных и низких стен зороастрийских жилищ, мы не встретили ни одного человека, догадываясь, однако, что несколько десятков обитателей наблюдают за нами во все глаза. Радовский по-прежнему ехал без шлема, держа его в руке. Солнце разморило нас, и его поза изображала величавую усталость победителя, вступающего в покоренный град.
«– Знаете, граф, – рассмеялся вдруг Тревельян, – вы похожи на Александра, попирающего твердыни Ахеменидов.
– А я и есть Александр, это мое имя, – возразил Радовский».
За неимением времени на этот раз мы ничего не добились и с сожалением присоединились к каравану. Но к счастью ли, к несчастью, одна из наших повозок сломалась, не выдержав каменистого пути. В безлесной местности негде было найти деревца, чтобы заменить расколотую ступицу, и пока повозку приводили в порядок, спустился вечер. Все персы, посланник и солдаты отъехали на ночлег в мусульманское местечко. Граф же Радовский, справедливо не доверяя себя жилищам, наполненным насекомыми, предпочитал ночевать в своей собственной палатке, которую за ним возили двое слуг. Майор Кэмбелл, его неизменный спутник, как старший воинской команды обязан был находиться среди своих стрелков, и граф любезно предложил нам с Тревельяном разделить с ним ночлег. Палатка оказалась весьма просторна, и мы с радостью приняли приглашение графа, так как не любили проводить ночи в духоте. Граф позаботился о нас еще более, и его стараниями нам было доставлено всё, в чем могли бы мы нуждаться для удобного сна, а именно: несколько охапок соломы и мягкий ковер. Увы, – вздохнул Троссер, – нам так и не пришлось воспользоваться всеми этими благами.
Жара дневная заметно спала, темнело на глазах. Тревельян вздумал отправиться в гости к зороастрийцам и склонил к тому же графа. От этого селения мы отъехали на самое незначительное расстояние. Тревельян не желал упускать ни малейшей возможности для своих изысканий и наблюдений, графу же попросту не спалось. Они дождались из отряда переводчика и отправились. Я последовал за ними, прихватив пару листов бумаги для Тревельяна, которые он приготовил, но по рассеянности позабыл. Если бы о нашем предприятии узнал Кэмбелл, то едва ли одобрил бы его – ведь они там в лагере выставили даже часовых, хотя и находились под защитой своих знатных провожатых. Впрочем, лишняя осторожность никогда не помешает, особенно в чужой, неединоверной стране, охваченной нескончаемой и кровавой смутой, а чего стоит покровительство этих хранителей ночного горшка да любимой невольницы повелителя, печально известно. Мне, помнится, доводилось читать в газетах о зверском умерщвлении в Тегеране вашего посла со всей свитой. Вот только не запомнил, как его имя.
– Вы говорите о Грибоедове, – напомнил я.
– Совершенно верно, Грибоедов, – обрадовался Троссер и продолжил так: – Дело в том, что вооруженным среди нас оказался один граф, ибо переводчик имел красноречивую внешность человека, не привыкшего иметь дело с такими изобретениями человеческого гения, а мы с Тревельяном и вовсе не имели никаких приспособлений для убийства, если не считать зубов и страстного желания, – пошутил старик. – Зато уж Радовский, как и следует человеку военному, никогда с оружием не расставался и еще в палатке одолжил мне один из своих пистолетов. Ориентиров нам не требовалось, а нужно было только ехать по знакомой дороге в обратную сторону и держать на огни. Не прошло и часа с небольшим, как мы подъехали к нашей цели. Множество собак высыпало нам навстречу, но, к нашему изумлению, ни одна из них не издала ни звука. Собаки, купаясь в пыли, зловеще вились у конских копыт. Неужели даже собаки настолько боялись мусульман, что не смели даже и тявкать по своему обыкновению? Нам доводилось слышать, что сами зороастрийцы весьма почитают этих животных, а мусульмане не упускают случая поиздеваться над бедными тварями и, терзая одних, тем самым доставляют мучения и другим. Спустя несколько часов я убедился, что эти собаки ничуть не опасаются подать голос в присутствии мусульман, и до сих пор тешу себя надеждой, что почтительное собачье поведение объяснялось тем, что они учуяли в нас европейцев, – рассмеялся Троссер. – Как бы то ни было, а мы-таки добились своего, ибо уже несколько человеческих фигур показались в дверных проемах убогих лачуг. Людей становилось всё больше и больше, они появлялись боязливо и следовали за нами, словно эти собаки, не спуская с таких диковинок, какими мы, верно, им представлялись, смутно белевших на темных от бесконечного загара лицах глаз. Они не имели привычки красить бороды хной, как это делают тщеславные персы, подражая рыжему закатному солнцу. Среди них были и женщины всех возрастов, не скрывавшие свои лица, наблюдавшие за нашими передвижениями прямыми, открытыми взглядами, и тут уже удивлялись мы, привыкшие к робости и строгости мусульманок. Высокий старик, во внешности которого не было ничего примечательного, если не считать роста и роскошной ухоженной бороды, выступил вперед и огласил воздух речью, отдаленно напоминавшей клекот горного потока, обтекающего лежачие камни. Старик этот оказался старшиной селения, но, кроме преклонных лет, ничем особенным не выделялся из возбужденной толпы своих одноземельцев. Наш переводчик был весьма учен и хорошо понимал старика, а старик, как мы убедились, неплохо понимал его. Тревельян весь превратился в слух, запоминая, как следует произносить слова, известные ему только по написанию. Переводчик объяснил, кто мы такие и какая причина побудила нас навестить деревню и нарушить покой ее обитателей. И старик, и все прочие жители были видимо довольны, что не видят между нами мусульман, и в свою очередь изучали нас с нескрываемым интересом, а после того как переводчик поведал, из каких дальних стран мы прибыли, лица габров сделались заметно приветливее, и они успокоились. Что́ такое ученый, им было очень понятно, они так и сказали, что так зовется человек, читающий и пишущий книги, и они, повинуясь какому-то наитию, прямо указали на смущенного Густава. Граф расхохотался, видя его замешательство. Его неотразимый красный мундир тоже приковывал к себе восхищенные взгляды. Когда же Тревельян попросил толмача пояснить, что он желал бы услышать об их вере, видеть их священные книги и изучить обряды, вышла небольшая заминка, так как эти люди в каждом ученом видели миссионера, не отделяя – по собственному опыту – всё написанное чернилами или высеченное на камне от вместилища души и острых углов совести. Хотя их совесть, бесспорно, была самой чистой из тех, что мне приходилось встречать, все они жарко заговорили между собой, а граф выразительно взглянул на Тревельяна. Немалых трудов стоило переводчику растолковать, что Густав ничуть не собирается искушать их души и проповедовать неведомого бога и что его намерения не простираются далее того, что не они должны переваривать непонятные, а главное, ненужные истины, а он желает внимать и записывать услышанное – так, как если бы он готовился стать адептом солнца и огня, – ибо поклонником добра он, безусловно, уже был, нуждаясь только в символе. Многословие переводчика долго не оказывало желаемого действия, и все мы поняли, что даже на Востоке красноречие не всегда способно убеждать.
Старшина селения повел рукой и обратился к Тревельяну с такими словами: «Да будет тебе известно, чужеземец, что давно-давно, еще до того, как твои далекие предки поклонились распятому богу, когда Магомет еще не родился, а имя Аллаха не оскорбляло эфир – благое творение Ахурамазды, – окрыляя демонов на неправые дела, эта земля, облагороженная солнечным лучом и увлажненная щедрой слезой благодарности, уже видела великую борьбу тьмы и света».
Тревельян не растерялся и попросил перевести следующий ответ: «Мне хорошо известно, что я нечист и недостоин той улыбки, которую всеблагой Ахурамазда в безграничной своей милости посылает мне ласковым солнечным лучом, потому и явился во мраке, однако не из-за того, что сочувствую демонам-дэвам, сеющим зло, а потому, что праведность мира мила моему сердцу».
Старик остался доволен такими речами. К тому же, – усмехнулся Троссер, – у Густава было вполне честное лицо. Таким образом, семинар не грозил обернуться теологическим диспутом, но всё равно для меня это были богословские бредни. Чем-то он успокоил недоверчивость габров, им было приятно осознать, что кто-то может всерьез интересоваться их униженной и забитой верой, терпящей нещадные насмешки и поругания мусульман многие столетия. Не знаю, что до меня, но Тревельяна и особенно графа эти люди, тщетно, но незыблемо ожидающие спасителя три тысячи лет подряд, принимали за всемогущих господ. Посовещавшись, габры сделали исключение для Тревельяна, а заодно и для нас с графом, и торжественно сообщили, что согласны показать священный огонь. Все мы немедленно совершили ритуальное омовение рук, ног и лиц. Самые посвященные провожали нас до той самой башни, которую мы видели днем и которая служила вечной колыбелью, скорлупой большого огня. Тревельян был на седьмом небе; он, без сомнения, дышал полной грудью. Габры прекрасно это замечали, и его спасительная в эту минуту для науки благоговейность уверила их в допустимости принятого решения. В этом человеке они не опасались встретить презрительной улыбки или жеста разочарования и, тем самым, поругания своей хрустальной веры. Ведь, в отличие от нас, они, нарушая какое-либо установление своей религии, опасались не гнева своего доброго бога, а своей безжалостной совести. Глядя на воодушевление Тревельяна, я, признаюсь, тоже ощутил некое волнение, как если бы стоял на пороге тайн, в преддверии откровений, не поддающихся пониманию, но доступных одному лишь постижению. Впрочем, предчувствия меня не обманули, – с иронией молвил Троссер, – они действительно оказались не по силам ни моему разумению, ни покладистому воображению. В который раз этот упрямый человек прельстил мою ленивую фантазию! Подкупил разум!
В башне оказалось еще одно маленькое помещение, построенное из сырцовых кирпичей, куда вела дверка, такая узенькая, что, право, двери какого-нибудь старинного туринского шкафа казались в сравнении вратами. Всё напоминало о том тщании, с которым зороастрийцы лелеют и оберегают свои святыни от недоброжелательных взоров и глупых ухмылок. Через эту дверку мы проникли в тесную глухую комнатенку, скупо освещенную неким подобием костра, устроенного на полу. Вокруг были разложены в строгом порядке аккуратно сложенные вязаночки сухих корней, очищенных от коры палочек и пучки благовоний. Тревельяна трясло. Граф смотрел не без любопытства, я же был удручен открывшимся мне видом. Тщетно я обшаривал жадными глазами каждое соединение кирпичей, каждую доступную взору трещину в круглой стене, напрасно ловил каждый прыжок прожорливого огня, каждое его движение, каждый исчезающий оттенок, – всё было до боли обыкновенно. Прозаичность душила меня, как заставляло задыхаться это пространство, стиснутое тысячелетиями. Жрецы распустили свои пояса и принялись размахивать ими, изгоняя из мира зло. Эти движения, представлявшие какой-то смысл для Тревельяна и завораживавшие его, казались мне попросту чередой суеты и нелепых кривляний. Стоило ли забираться черт знает куда, чтобы стать свидетелем этакого безобразия. Человек начинает ненавидеть того, кто сулил ему неземное блаженство, но не выполнил обещания, – я в бешенстве посмотрел на Тревельяна, но он был поглощен зрелищем целиком. Тогда я обратил свои взоры к графу, который, казалось, прекрасно меня понимал, ибо ответил мне едва различимой улыбкой. Так и здесь я просчитался – они оба оказались безумцами! Краткое богослужение закончилось, мы вышли из башни. Ночь перевалила на вторую половину, далекие звезды перемигивались в фиолетовом небе, словно кокетливые зеленщицы с заезжими гаерами на набережной в Бордо. Я вспомнил родину, и мне взгрустнулось. Сзади неслышно подошел Радовский.
«Правда у каждого своя, дорогой Троссер, – улыбнулся он, однако было заметно, что его скептицизм не сродни моему, и небрежная трезвость, бывшая у него в обыкновении, поколеблена, – истина бродит по свету в поисках собственного отражения и не находит его. Ведь нас много, и обманываемся мы сами. Некого винить».
Я согласно кивнул головой, и меня захватили размышления. Есть такие люди, думал я, которые, не высказываясь прямо, способны строем своей мысли, повадками, даже жестами разрушить ваше представление о божественном, рассеять благоговейное течение мыслей, как бы замутить это озерцо покоя, подняв со дна весь ил, и поселить в душе тягостный хаос. Как и большинство ученых, воскуривших фимиамы у неведомых доселе алтарей, Тревельян являлся именно таким человеком. Бесспорно, в Библии он замечал одну лишь еврейскую историю, в Коране усматривал только арабский фольклор, а в любой церкви, даже предстоящей самим вратам рая, видел просто дом – пусть крепкий, поместительный, красивой архитектуры, но только дом, здание. Его ум, привыкший подвергать испытанию всё, встречающееся на пути, обнажал сомнительные сущности и словно отказывал Святому Духу пребывать там, где слабые люди имеют надежду его встретить. Одержимость его была тем удивительнее, что он, не веря в Бога, уверовал в сказки и отдавался своим научным причудам с такой силой смирения, с такой страстью, с какой только неистово набожный итальянец предается опустошающей молитве во время Ave Maria, на закате, в храме, освященном отходящими лучами, (– Что такое! – воскликнул Троссер весьма забавно, – я сказал «освященном», – о Боже правый, «освещенный», конечно же, «освещенный», – запричитал он, – вот видите, с этими людьми я и сам превратился в язычника), – в храме, сложенном из попранных античных обломков. Я видел Бога лишь в куполе храма, он различал его в кладке стен, я поднимал глаза горе, а он замечал божественное под ногами, я требовал лика – он одушевлял камни, которые я пинал и отшвыривал. Ах, какие парадоксы!
Я трижды прочел «Отче наш», питая надежду вновь поселить мир в своей душе, и едко спросил его:
«Где же ваши гурии, любезный друг, где священные огни и прочие чудеса?»
Обычно невнимательный к делам житейским, на этот раз он уловил мою горечь, моя ирония коснулась его. Тревельян поглядел на меня с некоторой жалостью, какую только допускало наше взаимное расположение.
«Вот здесь», – ответил он и постучал себя по лохматой голове.
Граф молча наблюдал за нами.
* * *
«Вы ожидали, – обратился он ко мне с необыкновенной проницательностью, – что вам будет позволено лицезреть чертог небожителей, а увидали вы всего-то простых людей, обитающих к тому же в лачугах, не так ли? Хотели услышать музыку сфер, а услыхали лишь сухое потрескиванье огня, который можно видеть в любой кухне, да шарканье стоптанных подошв. Человек несовершенен, поэтому-то только немногим счастливцам доступно навсегда поселить неугасимую веру в своей душе. Как только начинает действовать разум, он изгоняет веру, однако экзальтация ума и высекает ту искру, которая разрастается в необжигающее пламя устойчивого откровения. Странный, благочестивый круг, описанный и небом, и землей, и луной, и солнцем, и самим человеком. Круговая порука мироздания, которое мы облекаем в привычные образы и принимаем за…»
Графа прервал нарочный, присланный из лагеря майором Кэмбеллом. Майор уведомлял, что непредвиденные обстоятельства задерживают нас в этих местах еще на сутки. Где-то впереди на дорогу прорвался большой отряд мятежных хорасанских наездников, и майор, по совету беков, ждал подкрепления.
«Очень кстати», – заметил Тревельян.
Между тем приблизился рассвет, а люди не расходились. Только сейчас мы заметили, что лица их мрачны, а сердца обращены в печаль. Сперва нам показалось, что наше святотатственное вторжение причиной столь непонятной грусти, но они развеяли это предположение, милостиво пригласив нас присутствовать при поклонении восходящему солнцу. Этот обряд совершается высоко в горах, на голом и гладком холме, на лысой вершине, напоминающей сакральную, сверкающую благочинием тонзуру иезуита. Пока мы карабкались по склону в кромешном мраке, Тревельян и граф продолжали свои разговорчики.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.