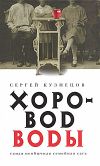Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
– Ну что, брат, раненько меня похоронили?
– Володя… – только и молвил я, не зная, что примолвить. Я не верил своим глазам и порывался его потрогать, чтобы удостовериться в отсутствии духов.
– Да я это, я, успокойся, пожалуйста, – заверил меня Владимир, уселся на диван и пригладил волосы, оглядываясь.
– Где ж дядюшка?
Я только перекрестился. Он понял и покачал головой. Я смотрел на Неврева и всё в его облике мне подсказывало, что мечтательного молодого человека со странными замашками адъюнкта философии не осталось и помину. Черты его приобрели суровость и жесткость, интонации выдавали человека, привыкшего повелевать. Надо было с чего-то начинать, но начинать было не с чего, как бывает тогда, когда двум людям говорить решительно не о чем, или следует говорить обо всем. Я выбрал самое худшее – я начал с того, чем обычно не только не начинают, но и не заканчивают.
– Елена… – выдавил я, но осекся слабым упреком:
– Ты отчего сразу не зашел?
– Ты знаешь, по-моему, разве нет?.. Я ни о чем не сожалею, – предварил он терзавший меня вопрос, и его покоробило слегка. Некоторая манерность в его облике была налицо. – Молод был, глуп. А всё прошло – и не заметил. Вот так. А не зашел потому, что не хотел отравлять тебе супружество. К чему эти неловкости?
– Ах, супружество. – Я расхохотался тем леденящим хохотом, каким в свое время хохотал Альфред де Синьи, и который в его исполнении так и остался для меня загадкой, – я-то знаю, а вот ты ничего не знаешь. Вот уж где двух мнений быть не может, – продолжал я обдавать Неврева диким смехом, приведшим его к полному недоумению.
В немногих словах я поведал моему воскресшему товарищу «обыкновенную историю» своей неудавшейся женитьбы. Трагические подробности слегка оттаяли Неврева, и, к моему величайшему счастью, он сделался узнаваем.
– Боже мой, – молвил он озабоченно.
Таким образом, индульгенция была дана, и я вздохнул свободней. Мы оба с ним удивлялись – каждый на свой манер. Я был изумлен тем, что вижу его, он – тем, что не видит ее.
Некоторое время висела томительная тишина.
– Однако как же ты избежал плена? Сказывай, сказывай всё, я всё желаю знать. Бежал? Выкупили? Да и чин…
– Это, брат, целая повесть. Так просто и не скажешь, – он то и дело усмехался в густые усы, прибавлявшие ему прожитых дней. – Я теперь адъютантом у наместника.
– У князя-то Воронцова? – вскричал я. – Завидный карьер, черт возьми!
Неврев задумался ненадолго.
– Пустое. А впрочем, разве мы сами управляем собой? На Кавказе говорят, что судьба наша написана на небесах. Как был игралищем судьбы, – махнул он рукой, – этим и остался. Наше это баловство помнишь ли:
Веселье только начиналось,
И стол искрился хрусталем,
Вино в бокал переливалось
И успокаивалось в нем.
Но нет уж сил опять вдаваться
В очаровательный обман,
И над чужими издеваться,
И нежной глупости смеяться,
И пересказывать Коран,
Терзать на стареньком диване
Чубук с янтарным мундштуком,
Мять подорожную в кармане
Напару с скомканным платком,
Кричать, браниться, забываться,
Грядущего мечтая план —
Увы, ведь очень может статься,
На этот праздник я не зван.
В окне темнело неизменно…
– Дальше не помню, – поморщился Неврев. Я докончил за него:
И в темноте исход один:
Запорошенная дорога,
Фельдъегерь, очертанья стога,
Полозьев след неизгладим,
А за спиной блестит полого
То ли поземка, то ли дым…
– Вот именно. Смотри ты, не забыл. Только мне кажется… – Неврев замолчал.
– Что́?
– Мы ведь, пожалуй, пропустили один куплет. Еще строфа была.
– Н-нет, не припомню, – наморщил я лоб.
– Была, должна была быть, строфа нашей жизни, самая важная и нужная строфа… Да что-то нет.
Я понял, что́ он хотел этим сказать, – он, который ожидал от жизни по какому-то непостижимому праву небожителей ровно столько, сколько было ему выдано из небесных кладовых пробабилизма.
– Она просто не была написана, – ответил я.
– Была, но дурно, потому и не помним, – твердо произнес Неврев. – Ну-с, что́ же изволишь узнать? Я начинаю, – пошутил Неврев.
– Владимир, чем скорей, тем лучше, – заметил я и позвонил.
Явился Федор.
– Я никого не принимаю, – сказал я совершенно дядиным голосом.
Старик сокрушенно покачал головой и, шаркая, направился к дверям.
– Так никто и не придет, – вздохнул он на пороге.
Неврев тоже услыхал эти слова и внимательно на меня посмотрел. Я смутился, еще раз уличенный в своем падении.
– Да-с, – произнес Неврев несколько озадаченно и начал так: – Ты, верно, помнишь то дело, в котором угодил я к горцам. Я находился в боковой цепи…
* * *
Тугой аркан крепко охватил меня, ружье выпало из рук, всадник гикнул и помчался, я волочился за ним. Руки были надежно стянуты, и нечего было и думать перерезать проклятую веревку. Где-то рядом ухала пушка. Краем глаза я видел конские ноги, ветки кустарника, от которых не в состоянии был увернуться и которые нещадно хлестали по лицу, и частые вспышки выстрелов плясали в зрачках – солдаты нашей цепи собирались в кучки, чтобы не быть изрубленными поодиночке. В уши громоподобно бил рассыпчатый топот копыт, а от дикого черкесского визга кровь стыла в жилах. В глазах у меня помутилось от бешеной скачки, несколько раз я сильно ударился головой о камни и лишился чувств…
Когда сознание вернулось ко мне, я обнаружил, что лежу поперек седла, притороченный к крупу вместе с какими-то торбами. Еще держалась ночь, и яркие звезды подпрыгивали у меня в глазах. Лошадь, на которой я совершал это вынужденное путешествие, неутомимо неслась вдоль бурного потока по узкой каменистой тропе в окружении молчаливых всадников, на груди у них тускло поблескивали панцири и кольчуги. Всадников я насчитал двенадцать, ни один не ронял ни звука – тишину нарушало лишь едва слышное дыхание коней да шум воды, недовольно бурлящей вокруг огромных валунов. Кремнистая тропа то удалялась от речки, то примыкала к ней вплотную, несколько раз пересекая ее. Тогда черкесы чуть сдерживали прыть своих скакунов, и холодные брызги, искрившиеся в лунном свете, падали мне на лоб, на щеки, и я жадно слизывал их. Ущелье постепенно суживалось, теснило тропу, черные громады гор придвинулись вплотную, и вода урчала уже где-то далеко внизу еще более грозно и угрюмо. Часа три продолжалась эта зловещая скачка, лошади сбавляли бег, тропа, наконец, превратилась в тропку, которая могла пропустить не более одного всадника. Мой эскорт вытянулся в цепочку и вереницей потянулся под сень огромных буков. Когда я, рискуя свернуть себе шею, поднимал голову и искоса смотрел на лошадиную шею, я видел за ней жесткую бурку джигита, который вел на поводу мою лошадь. Плечи бурки острыми углами выдавались в стороны, придавая фигуре человека причудливые очертания: казалось, это птица, гигантская летучая мышь – любимица тьмы и баловень злодейства. Погони не было слышно. Я не шутя готовился к смерти, и обрывки молитв наполнили разбитую голову.
Занялась заря, а мы по-прежнему пробирались между исполинских деревьев, забираясь выше и выше в горы. Черкесам дорога была хорошо известна, и остановок они не делали. Я мерно покачивался на лошадиной спине, словно бурдюк, и утренняя свежесть донимала меня – да и кем я стал, товаром, не человеком. Уже солнце позолотило корявые разломы гор, обдавая их нежным светом. Я посмотрел вдоль по ущелью и в последней дымке расходившегося тумана взглядом уперся в розовые трапеции снегового хребта. Далекие, неверные, они казались миражом посреди бесконечной зеленой шерсти окрестных вершин, как миражом казалось мне мое собственное существование. Черкесы остановились и, накинув поводья на ветки молодого дуба, уселись в кружок неподалеку. Меня мутило, и я опять лишился сознания. На этот раз беспамятство оказалось недолгим. Я очнулся от того, что один из горцев лил мне на лицо из кожаной фляжки. В тот миг я и свободу отдал бы за глоток прохладной воды. Вода протиснулась сквозь засохшие губы, и я обрел способность соображать. Черкес смотрел на меня не слишком-то угрожающе, пожалуй, даже не без некоторого беспокойства. Увидев, что вода оказала свое живительное действие, он улыбнулся и отошел к своим. Все они стали собираться, поднялись с земли и отвязали коней. Здесь я увидел, что отряд разделяется – несколько наездников попрощались и скрылись за листвой, остальные поглядели им вслед, крича что-то, взлетели в седла и окружили моего одра, который на самом деле был Буцефалом. Направо вниз со склона едва приметной каменистою нитью, бусами известняка, вилась не то тропа, не то пересохшая промоина весеннего ручья – по ней-то и стали мы спускаться в сущую пропасть. Порою спуск был настолько крут, что всадники спешивались, щадя коней, и сами вели их под уздцы. К полудню мы выбрались к большому аулу, неровными уступами взбирающемуся на склон и утопающему в буйной зелени садов. Селение расположилось под отвесным хребтом, по обеим берегам плоской, широкой и быстрой речки. Наше появление было встречено ружейной пальбой, собачьим визгом и воплями оборванных мальчишек, старавшихся во что бы то ни стало ущипнуть меня или дернуть за ус. Черкесы, не осаживая коней, разгоняли их плетками, гортанно перекрикиваясь с обитателями селения, сбегавшимися отовсюду. На крышах сакль появились женщины, любопытно обшаривали меня огромными глазами, прикрывали усмешки концами цветастых платков. Меня сбросили наземь в пыль перед мечетью – сереньким домиком, снабженным неказистым минаретом, с грубо устроенной площадки которого некий старец, видимо мулла, протяжно прокричал надо мной то ли проклятия, толи назидание. Неровный полумесяц, прилепленный к облупившемуся куполу, бодал небо, словно насмехаясь над мощью солнечного дня, лучезарной стихией которого было охвачено всё вокруг, так что даже привычные джигиты прикрывали глаза черными ладонями, щурясь на меня прокопченными складками век. Несколько времени я лежал в круге говорливой толпы, а после церемонных приветствий тот самый черкес, который напоил меня водой, раздвинул людей и жестом приказал мне подняться. Только сейчас я как следует разглядел его – дорогую кольчугу он успел уже сменить на зеленый бешмет, тоже показавшийся мне чрезвычайно дорогим и искусно пошитым. Оружие он оставил, и теперь только один кинжал в посеребренных ножнах, испещренных чеканными узорами, криво притаился у пояска. Я взглянул в его хищные глаза и дал ему сорок лет. Черкесы и сам мулла оказывали ему видимые знаки почтения, из чего я заключил, что я достался не простому наезднику. Он ухватил меня за конец веревки, которой я был всё еще связан, и повлек за собой вверх по узкой улочке под улюлюканье мальчишек и собачий лай. Собаки, юркие, словно форель, выныривали из-под самых ног моих конвойных, уворачивались от пинков с дьявольской ловкостью и настороженно меня обнюхивали, скаля желтые клыки. Эти намеки мне были очень понятны, и я уже никак не защищался от комьев сухой глины, изредка летевших мне в голову. Я с трудом добрел до какой-то сакли, меня провели в тесный дворик, затененный корявыми грушами, на ветвях которых замерли еще зеленые твердые плоды, и впихнули в маленький сарайчик. Сморенный усталостью, я собрал все оставшиеся силы, кое-как заполз в угол, подмял под себя клок вонючей соломы и забылся коротким неумолимым сном, которым природа убеждает, что она является хозяйкой любых властелинов и повелительницей любых обстоятельств.
* * *
В этом сарайчике меня надолго оставили наедине с собой, дважды в день угощая лепешкой, а когда принесли кувшин с водой, я опустошил его в несколько минут, малодушно поддавшись мгновенному соблазну. Более всего меня устрашали мысли о своей судьбе. На мне был мундир рядового, а черкесы за долгие годы непрерывных войн научились хорошо угадывать знаки отличия. Захватив офицера, они лелеяли мысль о выкупе, и блеск монет соблазнял их, но с нижними чинами они не цацкались. Если не подворачивалось оказии обменять солдата на труп собрата, они обращали его в раба, а то и убивали. Какие побуждения двигали ими в том или ином случае, когда им приходилось решать чужую судьбу, я, конечно же, не знал и не ломал голову, зато вообразив, что мог быть облачен в офицерский сюртук, злорадно усмехнулся – при моей-то бедности, хорошо тебе известной, они могли бы ожидать выкупа до второго пришествия, и получили бы, может быть, несколько жалких крох, собранных сестрицей, которых не хватило бы даже на то, чтобы купить у турка приличный чепрак для любимой лошади.
– Так что я кое-что и выигрывал от монаршей милости, – посмеялся Неврев, – а было мне, признаться ли, всё равно – я наслаждался пленом и чувствовал облегчение и ощущал свободу после унизительного солдатского ранца – черт знает что. Мне казалось, что я стою на пороге смерти, и на всё наплевал. Откуда только и взялось этакое безразличие! Каждый скрып дверцы, ведущей в мою темницу, каждый звук чужого голоса, раздавшийся неподалеку, каждый услышанный мною шаг за стеной наполнял меня ожиданием, предчувствием гибели. Мне всё мерещилось, что идут по мою душу. Участь свою я почитал решенной, и единственное, о чем я сожалел, так это о том, что даже на пороге смерти я не находил в себе благодати, столь необходимой для того, чтобы встретить смерть без стона и без ропота. В темном пространстве сарая я искал Бога, а находил только узкую щель между толстой дверью и обмазанной глиной перекладиной косяка, к которой приникал в ясные ночи, как к прицелу карабина, ловя неподвижным глазом какую-нибудь хилую звездочку. Я с тоской поминал цивилизованное прошлое и снова тосковал о Боге. Напрягая память, я восстанавливал образы, сооружал иконостасы, составлял из разрозненных черт лики знакомых священников, тщательно перебирал воспоминания, способные хоть на неуловимый миг приблизить меня к вере, как солдат перебирает свои грязные волосы, отыскивая вошь, – ничего – пустота, темнота. Почему я никогда не верил? Вопрос этот изгрыз мой ум, но полая душа была по-прежнему не подвластна его колючим жалам. К чему была моя жалкая жизнь – беспомощное, бесполезное существование? Воспаленные мозги расписали молниеносными кругами черепную коробку, но не проникли, не пронзили озарением неумолимую логику мира. Как это у Саши Полежаева:
Я погибал.
Мой злобный гений
Торжествовал.
Понемногу я дошел до полного отчаяния и тем самым воздвиг себе еще одну стену – стену отчаяния. Темница моя неожиданно сделалась вдвойне крепче, неприступней, и наивные тюремщики могли спокойно спать, сопровождая детским храпом задумчивые шорохи ночей, в одну из которых я без всякого страха заглянул уже в самую бездну. Небытие разверзлось незаметно, мысль достигла крайнего своего предела, словно волна лизнула песок, но не откатилась, оставив мокрый след, а замерла, затаилась, готовясь вползти в неизвестность, стараясь шагнуть за пределы возможного. Безумие, сумасшествие – не знаю, что ждало меня там. В эту страшную минуту я был близок к смерти, как никогда прежде, даже под пулями неприятеля, под свистящими шашками, но минута прошла, и я рассмеялся зловещим хохотом бесстрашия. Ничто отныне не способно было устрашить меня, я словно родился на свет и не ведал тех страхов, которые гложут, снедают суетных людей. Безразличие восторжествовало, земная юдоль казалась мне недостойной волнений, а биение сердца и ток крови, отчетливо различимый в звенящей тишине, усыпляли остатки наголову разбитого сознания. Разум уступил.
* * *
Я ждал удара клинка и желал его, но не жаждал. Не один просвистал день, не одна ночь, возвеличенная трепетом светил, куполом отстояла над землей, пока я понял, что моя неистовая молитва услышана и ей внимают. Я ничего не просил. Страха не было, как и прежде, но теперь спасение стояло в двух шагах. Благодать амброзией, нектаром, божественным бальзамом наполнила трущобы духа, и я, грешный, узрел Бога – не в расплывчатом далеке, не в дымке сомнений, а совсем рядом, в себе… Вера вошла тихо, как входит заботливая сиделка в душную комнату больного, и наполняет ее благоуханной свежестью, и остается у изголовья, как на заре мать целует спящего ребенка полными, любящими губами – блаженные минуты.
Как-то утром дверь растворилась и меня вытащили во дворик. Двое черкесов раскладывали на солнце какие-то кузнечные приспособления, показавшиеся мне сначала орудиями казни. Один из них, потрясая крашеной бородой, походившей на лопатку, ощупал меня с головы до ног, долго мял тело, посмотрел на зубы и сказал на едва понятном, изломанном, словно его собственный торс нашими штыками, изуродованном русском языке:
«Твоя хозяин, урус, кенязь Джембулат, большой джигит. Скоро жениться Джембулат, красивый девушка взял, радость имеет – радость ты имеешь. Дарит тебе жизнь. Понимай». Он еще раз внимательно рассмотрел мою форму, после чего они с своим товарищем притащили огромную колодку, в проеме которой зловеще темнела почти неразличимая запекшаяся кровь неизвестного мученика, и ловко приладили этот символ рабства мне на левую ногу.
«Твоя будет скот пасти, – сказал обладатель красной бороды и добавил, обнажив в улыбке белые влажные зубы, – а не солдат ты, – он поцокал языком, покачал головой, – ты кенязь. Много думай».
Черкес лукаво посмотрел на меня, указал мне на дверь сарая и заложил снаружи огромный громыхающий засов.
* * *
Что сулила мне эта необъяснимая проницательность? Я привыкал к тяжеленной колодке и «много думал». Придумать мне, однако, не суждено было почти ничего. Уже месяца три я, изнемогая под бременем колодки, превратившей щиколотку в кровавое подгнивающее месиво, карабкался по склонам, оберегая важных баранов. Прежде всего, конечно, от собственного голода. Дворянин Неврев, захудалый род которого был занесен в родословные книги Казанской губернии, ходил за скотиной, таскал воду и ворочал душистое сено, из которого плел нехитрые прокладки для растерзанной ноги. Изредка я встречал того самого черкеса, поставившего под сомнение мое происхождение, и он улыбался, грозил крючковатым пальцем и довольно говорил: «Ай, урус, кенязь, кенязь».
Никто надо мной не издевался, мальчишки оставили меня в покое и смотрели издалека, не решаясь приближать свое любопытство ближе того числа шагов, сколько букв насчитывало имя моего повелителя. Его я почти не видал, потому что он то и дело был в отлучке. Все прочие ко мне попривыкли. Один из сыновей Джембулата, мальчик лет одиннадцати, как тень бродил за мной, чтобы предупредить взрослых о моих вероятных дурных намерениях, но тоже почти не приближался ко мне и поглядывал на меня весьма пугливо, стреляя черными бусинками чуть раскосых глаз. Я неспеша размышлял о побеге, высматривал всё, подвластное взору, и изучал окрестности. Впрочем, моя ойкумена ограничивалась какой-нибудь всего одной квадратной верстой, а колодка – проклятие христианина – представлялась самым неодолимым препятствием. Как узник сживается со своей тюрьмой, так я сросся с этой колодкой, придумывал ей имена и иногда, когда она доставляла мне особенно невыносимые боли, хлестал ее сухим стебельком. Блаженство откровения вышло из меня так же тихо, как и вошло, однако благодатное воспоминание неизменно пребывало со мной и не позволяло ни унывать, ни отчаяться. Аул скрывался высоко в горах, и досюда не достигал смутый лепет наших пушек или дерзкий поиск казачьего полка. Сами черкесы, пропыленные, на спотыкающихся от усталости, запаленных конях, молчаливыми караванами вползали в аул, возвращаясь из набегов. Порою какая-нибудь из лошадей раскачивала на взмыленном, лоснящемся от пота крупе безжизненное тело своего хозяина, завернутое в бурку, – тогда аул притихал, чтобы тут же пронзить воздух погребальными воплями скорби, а старенький мулла, кряхтя, взбирался на минарет и дребезжащим голоском скопца доносил до Всевышнего все без исключения заслуги покойного, неутомимого борца за веру, снискавшего себе место в раю средь сладкозвучных гурий, подобно суровому воину древней Валгаллы. В такие минуты черкесы злобно на меня поглядывали, но и только. Их первобытная выдержка обрекала меня на жизнь. Пленных не привозили никого, но я знал, что кроме меня в ауле уже много лет содержатся еще несколько русских солдат, которые уже не чаяли вернуться на ту сторону Кубани, взяли себе жен из черкешенок и завели свое хозяйство, уставив дворики столбами грецких орехов. Если б не колодка, с годами их пример, быть может, и прельстил бы меня, – улыбнулся Неврев, – ибо кто не видал черкешенку, тот не видел женщин, но всё разрешилось иначе.
* * *
В то лето случился небывало большой падеж скота. Черкесы принимали свои меры, но остановить поветрие не могли. Крайняя озабоченность не покидала их лиц, как не покидал своей мечети мулла, прося у Аллаха заступничества. Однажды на площади перед мечетью произошел всеобщий сход, прибыли всадники из соседних селений, над толпой стоял невообразимый гвалт, ржали разгоряченные кони, плакали дети. Меня тоже притащили туда и поместили в самую гущу. Я плохо понимал, о чем они совещаются, но именно здесь увидел одного из тех пленных солдат, который два десятка лет как сменил родину, повинуясь злой неизбежности времени. По одежде он был совершенный горец, даже и борода имела рыжеватый оттенок, но вот форма этой окладистой бороды, расчесанной на две стороны, опровергала все поспешные выводы. Солдат был уже пожилой человек, и глаза его ослабли, и смотрел он поэтому из-под узловатой руки, искривленные пальцы которой венчали выпуклые, толстые ногти, окаймленные неисчезающими, неподвластными никаким водам, черными дугами грязи. С черкесами солдат держался на равной ноге, вот только кинжала не было у него на поясе, зато тяжелый серебряный крест болтался поверх бешмета свободно и с достоинством. Меня подвели к нему, и он долго меня разглядывал, прежде чем произнести хоть слово. В заскорузлых пальцах он вертел самокрутку, кроша табак в сухой дубовый лист.
«Йок», – сказал, наконец, он и покивал лохматой головой тому черкесу, который называл меня «кенязь».
Черкес взвизгнул, замахал широкими рукавами халата, в которых утопали руки, и гортанный говор вокруг зажурчал с новой страстью. Все загоревшиеся взгляды обратились на меня, а я похолодел от ужаса, начиная опасаться, уж не моим ли злым чарам решено было приписать несчастья, свалившиеся на быков и баранов.
«– Ты, барин, не бойся басурман, – вдруг обратился ко мне старик-солдат, – они дурного не хотят. – Звуки родной речи благодатно разлились во мне. Я жадно уцепился глазами за солдата.
– Они знать желают, известны ли тебе иноземные наречия, – продолжил он, – потому знают, что господа учены вельми бывают и за морями живут».
Я отвечал правду, а солдат, который не спеша переводил мои откровения возбужденным горцам, между делом растолковывал мне, чего они от меня ждут: много лет тому назад один из шапсугских князей в набеге захватил ученого гяура. Этот франк, которого все единодушно признавали шайтаном, совратил, околдовал князя, и они вздумали сочинить алфавит живого языка гор, осквернив этим самый народный дух. Князь был изгнан из родных аулов возмущенным народом и увез своего зловещего пленника с собой. Все воспоминания о чужеземце, казавшемся шапсугам человеком необычным, были овеяны кровавыми преданиями. Сам он чем-то напоминал им грязных анапских дервишей, одержимых истиной и праведностью, и по этой причине ни у кого не поднималась рука, чтобы снести ему голову. Один удалец как-то раз стрелял в него, подкараулив на тропе, но старая кремневка трижды осеклась, и внезапный гром на минуту оглушил святотатца. Шапсуги расстались с мыслью лишить его жизни. Из-за него и его упрямого покровителя на многие годы в горах воцарилась опустошительная смута и кровная месть дала соленые, разлапистые побеги. Неподалеку от тех мест находилось глухое урочище, куда редко забредал даже отъявленный охотник. Там, в зарослях дикой малины и орешника, лежали какие-то огромные камни, которые шапсуги не причисляли к священным могилам предков. На этих-то камнях и обнаружили непонятные, пугающие письмена, которые глубокими щербинами сплошь покрывали их серые поверхности. Старики помнили, что пленник за неимением бумаги дни напролет просиживал у этих камней и тесал их булатным кинжалом, и не один затупил он прекрасный кинжал, высекая удивительные знаки, отдаленно напоминавшие самым просвещенным из них муллам причудливую арабскую вязь, заполнявшую ветхие страницы единственного истрепанного, благоговейно залистанного Корана. Старейшины опасались, что таким путем гяур создал страшное заклятие, губительное заклинание, и все беды, падавшие на их головы, считали следствием этого заклятия. Нынешний падеж скота, как, впрочем, и любой неудачный набег на линию, объясняли тем же и искали среди своих полонянников того, кто мог бы прочесть письмена и донести до них смысл зловещего проклятия. Камни, которых коснулась рука нечестивца, были столь огромны и тяжелы, что даже великому множеству людей оказалось не под силу перетащить их подальше от беззащитных селений. Оставалось одно – проговорить вслух обжигающие страхом и холодом подземного мира эти слова неизвестного наречия и тем самым снять заклятие с пострадавшего народа адиге. Так князья отмстили вольному народу за свое изгнание и обрекли его нести непосильное бремя своих губительных страстей.
* * *
Я отвечал, что должен увидеть эти письмена, и черкесы воодушевились. В мгновение ока появился кузнец и двумя ловкими движениями долота освободил меня от колодки. Женщин удалили, и правоверные совершили намаз. Возблагодарив Бога, несколько стариков, выделявшихся своим благочестивым видом, стариков, искалеченных на русских дорогах, пощаженных злым промыслом войны, отмеченных Пророком, сели в седла, и сам Джембулат сопровождал нас в щемящую неизвестность. На меня возложили непомерно большие надежды, и это не могло не обеспокоить меня, ибо античную филологию, охоту к которой изрядно поотбили мои гувернеры во время о́но, я обладал правом назвать своею не более, чем имел на то право дряхлый и закосневший в своем воинственном невежестве мулла Рахим или дикий Джембулат. Они были напуганы грозными проклятьями, неисполнимыми завещаниями, я же опасался суровой латыни и более того – с ужасом предчувствовал устойчивое благоухание неувядающего, но не известного лично мне языка Ксенофонта.
* * *
Мне завязали руки, взгромоздили на лошадь, которую привязали к скакуну Джембулата, и после трехчасовой езды шагом мы приближались к про́клятому месту.
Солнце стояло в зените, насквозь просвечивая каждый неподвижный лист исполинских буков. У какой-то лощины черкесы спешились и стащили меня на землю – заросли и бурелом здесь были таковы, что пробраться возможно было только пешком. Несколько шапсугов остались с лошадьми, а остальные, угадывая направление, спускались по склону, удерживая равновесие при помощи кизиловых палок, на которые в другое время опирают ружья для прицельной стрельбы. Вскоре все мы оказались в крохотной висячей долинке, на маленькой полянке, редко уставленной неохватными буками, высоко к небу взметнувшими густые кроны; их непроницаемые ветви создавали угрюмую, почти сплошную тень, и всего лишь несколько бликов рассыпалось по бесчисленным папоротникам, пробившимся к свету. В этих папоротниках утопали дольмены – погребальные домики, сложенные из цельных гранитных плит. Я насчитал их восемь. Они раскинулись на поляне беспорядочно: одни ровно вырастали из земли, другие накренились, завалились в разные стороны; подножия, надежно скрытые от света зубчатыми перьями папоротников, поросли мхом, словно корни могучих пней. Казалось, что я очутился в маленьком поселке гномов – поверье о карликах-ацанах, некогда населявших эти места, кстати, живо среди черкесов, – забросивших свои крохотные сказочные жилища и ушедших под толщу земли и породы, тоже, по примеру суеверных черкесов, скрываясь от ужасающего воздействия словес. Мне освободили руки, и я не без трепета приблизился к этим древним гробницам, к склепам безымянного народа, давно стертого со светлого лица земли суровыми ветрами истории. Черкесы держались поодаль, не решаясь подходить близко, и расчехлили свои ружья, чьи тонкие дула следили за моим поведением философски спокойно, но обещая в случае чего гром небесный. С замирающим сердцем я бросил взгляд на неровные поверхности гранитных плит и впрямь увидел, что все они стянуты паутиной клинописи. Однако то, что представлялось грозным джигитам изобретениями дьявольского ума, на самом деле, к моему неописуемому удивлению оказалось… – Неврев загадочно помолчал, – обыкновенным, вполне читаемым, понятным французским языком! Сделав это открытие, я был обескуражен не меньше всех старейшин вольного народа! Самые настоящие французские слова были высечены на камнях аккуратно, разборчиво – словом, так, как если бы над этими надписями прилежно трудились каменотесы какого-нибудь Хаммурапи, царя вавилонского, не знающего бумаги и пергамена, но осознающего необходимость запечатлеть в веках громкую славу своих деяний. Только некоторые линии не вполне удались неизвестному автору этой странной забавы – на этих местах камень покрошился, – зато он не пожалел ни труда, ни времени даже на аксанты и знаки препинания! Одни буквы казались больше, другие меньше, одни покосились, прочие имели необычный наклон, как бы открывая объятия собратьям, некоторые приникли к соседним, словно прося защиты и помощи, сильные и прямые служили подпорками немощным, но все они следовали одна за другой в незыблемом порядке грамотного языка, сгрудившись в слова, соединившись в предложения, сбитые в абзацы дрожащей мыслью и твердой дланью резчика, стиснутые в неподвижный крик, – это был текст, и текст был понятен. Сколько же времени отняла такая работа, сколько сил забрал подобный труд, исполненный давно забытой мощью духа! Оставалось только гадать. Я бродил между дольменов, переходил от одного к другому, счищая, соскребая взволнованными пальцами нежный мох, стараясь отыскать логическое начало этого чуда – Логоса, еще обожествленного самоотверженным замыслом, воплощенного в веках, заставившего целый бесстрашный и гордый народ содрогаться от немого ужаса, от неверного по форме, но пронзительного по сути подозрения. Черкесы напряженно следили за каждым моим движением, и было видно, что мое оживление радует их и изгоняет страхи и видения. Мне показалось даже, что они поглядывают на меня с некоторым скрытым, сдержанным уважением, однако я не был волшебником, – рассмеялся Неврев. – Наконец на одном камне, прямо под наклонной крышей дольмена, слева вверху мои глаза нащупали первое печальное своей краткостью слово этого повествования. Каждый востребованный глагол, каждый кривой знак навсегда врезались мне в память, и вот оно слово в слово:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.