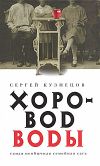Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
Вдруг во тьме кто-то назвал мое имя. Я схватился за кинжал и присел. Никого не было вокруг. Баллах! Рано я подумал о смерти! Лучше джехеннем, чем считать печали в глазах любимой и сносить обиды от нечестивцев! Что-то прожгло меня изнутри, и силы мои утроились. Я разостлал килим и вознес хвалу всевышнему за то, что удержал меня на краю пропасти и указал мне путь на темном своде небес одной маленькой звездочкой, одним негромким словом рассеял тишину – этого мне было довольно. Я жарко молился, и слезы протекли по моим щекам. Как будто новую жизнь обрел я в ту ночь – один помысел теперь владел мной и направлял бег моего коня… Я поднялся, подозвал коня и взнуздал его. Он словно понимал, что творится в моей душе, и приветливо заржал, поискав мордой ладони. Я погладил его по спутанной гриве и расчесал ее. Потом обнажил свою шашку, подставил ее под лунный свет. Не одну могилу гяуров разрыл я, чтобы найти меч франка, не один месяц старый Мансур трудился над клинком – зато на всей Кубани не было такой. Здесь я дал себе заклятье и смешал свою кровь с водами потока. Поел сыра и сел в седло».
* * *
Над нами разлилось благоухание ночного простора, как бывает только тогда, когда ночь переваливает на вторую половину. Повеяло холодком – затухающим порывом налетел случайный ветерок. Луна прояснилась, и ее безжизненный свет полил все вокруг. Со стороны противников послышался удаляющийся конский топот. Несколько пуль расплющились о камни у самых наших голов. Страдальчески и протяжно проржала лошадь.
«Поскакал в аул за подмогой, – прислушался Салма-хан и выпустил очередной заряд, заметив какое-то движение за деревьями. – Сейчас надо уходить, – сказал он, – когда джигиты прискачут, поздно будет. Убьют нас».
Роговые газыри его черкески были пусты. Он ощупал круглую деревянную пороховницу, привязанную к поясу кожаным ремешком, и пересчитал пули. Пола длинной черкески распахнулась, и я увидел два пистолета, заткнутые за пояс. Сначала я не обратил было на них никакого внимания, но вдруг заметил, что пистолеты эти – не что иное, как дуэльные Кухенрейтеры. Более того, на одном стволе я явственно разглядел глубокую зарубку, какую делают обычно по какому-то негласному правилу после того, как из этого пистолета на дуэли бывает убит человек. Такую насечку, помнится, ты и сам некогда сделал, – нахмурился Неврев. – Я потянулся к этим пистолетам. Салма-хан, обнаружив мое любопытство, вытащил один и протянул мне.
«Хвала всевышнему, я не ошибся», – воздел он руки к густо посиневшему небу, на котором неожиданно появились серые полосы перистых облаков.
Я ничего не мог понять, но было не до того. Оставшиеся горцы терпеливо ждали подкрепления и не делали больше бесполезных попыток наброситься на нас, залегши за прямыми и толстыми, словно колонны романского храма, стволами буков. Они караулили нас, и пули то и дело испытывали надежность нашего естественного укрытия, щедро освещенного лунным сиянием. Теперь Салма-хан зарядил уже оба ружья, но хитрые черкесы выжидали – время было на их стороне. Салма-хан поглядывал на луну, пытаясь по ее перемещениям на небосводе определить, сколько минут еще имеется в нашем распоряжении. Мне казалось, что вот-вот появятся многочисленные рассвирепевшие всадники, – я прикладывал ухо к земле, стараясь расслышать далекий гул кавалькады, но Салма-хан был спокоен и следил за луной. Луна медленно подвигалась навстречу темной опухоли облаков, и сгусток этих облаков едва заметно переползал по направлению к ней, теряя по дороге отставшие клочки. Мы с надеждой следили за их возможной встречей. Через несколько минут, показавшихся часами, стало ясно, что эта встреча неминуема, и в тот самый миг, когда облако осторожно покрыло желтый блин, он поднял лошадей. На минуту упала настоящая темнота, так что я не сразу различил черные силуэты вставших во весь рост и мотавших мордами лошадей, и Салма-хан благословил эту спасительную минуту. Мы вскочили в седла, держа ружья наизготовке, и я, по примеру опытного Салма-хана, спрятался за конскую шею. Спустя секунду мы вырвались из лощины и промчались между притаившимися черкесами в тот самый миг, когда луна уже просвечивала сквозь нежный, тонкий и рваный край равномерно уплывавшего облака. Джигиты на секунду опешили от неожиданности, и мы пронеслись перед ними, словно огромные птицы, взлетевшие с земли. Раздался визг людей и визг ружей – шесть выстрелов прогремели разом, прямыми молниями столкнувшись с темнотой, рядом, но запоздалые черкесские выстрелы в темноте не причинили нам никакого вреда. Мы выстрелили на вспышки и услыхали позади звуки бьющейся лошади. Черкесы подняли коней, и трое пустились за нами, – силы были равны, однако Салма-хан не поворотил своего скакуна и не обнажил шашки – не стал искушать судьбу, сберегая драгоценное время. Под нами были отличные кони, и погоня стихла очень скоро, затерявшись где-то в завалах валежника, завязнув в подлеске. По моим подсчетам через час должны были примчаться джигиты из аула, за которыми был, скорее всего, послан беглый солдат – если, конечно, пуля Салма-хана не уложила его прежде. Было бы наивно рассчитывать на то, что черкесы, потеряв стольких людей, откажутся от преследования. Для них началась в эти минуты настоящая жизнь – та жизнь, ради которой они и родятся на свет. Когда рассветет, они пойдут по сакме, словно стая волков, десятки неумолимых хищников на неутомимых конях. Все тропы, даже звериные, им были известны так же хорошо, как нам знакомы вывески Невского проспекта. Но и Салма-хан тоже отлично их знал. Мы взбирались на косогоры, стремясь подняться повыше, выбраться из полосы леса на обнаженные вершины хребта, круто поворачивали, но снова и снова возвращали первоначальное направление – на север, к Кубани. Дорога шла низом. Луна сопровождала нас то слева, то справа – словно недремлющее око небес, – она была рядом, не отставая ни на шаг, и, казалось, с интересом и жалостью наблюдала странные игры маленьких человечков – насекомых, затерянных в мохнатых складках гор. Как ни был хорош конь Джембулата, а до коня Салма-хана ему было далеко. Он рассекал ночь, подминая препятствия, разрывая хитросплетения кустарника, как разрывает рубаху пьяный мужик, когда душа его просит раздолья. Где-то сбоку шелестела речка – Салма-хан поворотил скакуна, и тот, повинуясь самой мысли седока, словно рысь, мягко прыгнул в чащу. Мы пересекли речушку и выехали наконец на торную дорогу, белевшую во мраке двумя белыми извилистыми нитями, протянутыми неуклюжими колесами арб. Здесь мы вверили себя Аллаху… да, Аллаху, – Неврев усмехнулся, – тогда это был Аллах, и понеслись бешеным наметом.
* * *
До самого рассвета продолжалась эта неистовая скачка. Дорога незаметно спускалась и постепенно выводила в холмистые безлесные предгорья. К утру дыхание моего коня стало тяжелеть, круп взлоснился от влаги, тогда как конь Салма-хана по-прежнему летел вперед, почти не касаясь ногами грешной земли, дробя копытом кремнистую россыпь. Я стал отставать. Восток прозрачно побледнел, поголубел. Свет одну за одной изгонял со сбросившего дрему небосклона последние потухшие звезды – гроздья созвездий пропали для взора еще раньше, как первыми уходят с карнавала в Дворянском собрании почтенные семейства, обремененные детьми, оставляя блестящий паркет одиноким франтам, которым некуда спешить.
Бесспорно, своим спасением мы были обязаны лошадям, ибо когда мы подскакали к Кубани, размеренно катившей плоские, молочного цвета волны, в дымке утреннего тумана, петляя между островков пепельных ив, в версте от себя мы увидели всадника в бурке, потом еще одного. А потом около сотни черкесов, сверкающих панцирями, выехали из плавней, и вся эта конница легким аллюром, еще не видя нас, с предосторожностями двигалась к переправе. Мы спешились и зашли в камыши. Брод был уже недалеко, и мы шли в камышах по течению реки. Указателем служил завалившийся каменный крест, восстававший на нашем берегу. Салма-хан указал мне на него, и мы вошли в воду. Здесь черкесы нас заметили, подскакали к берегу и, сдерживая закрутившихся у самой воды коней, начали стрелять. Мы боролись с быстрым течением где-то на середине реки, когда партию разглядели с вышки, – черкесы начали входить в воду, но уже четверо линейцев неслись с поста к кресту, на ходу доставая ружья. Султан сизого дыма потянулся в небо, вырвавшись из сигнальной бочки.
«Не стреляйте, братцы!» – что было мочи закричал я казакам, и они услышали меня.
Казаки завязали жаркую перестрелку, тем временем из станицы прискакали еще человек тридцать черноморцев, и черкесы, потеряв одного наездника, вышли обратно на берег, вытащили безжизненное тело, перекинули его через седло, молча погарцевали под пулями, выпустили еще несколько зарядов и повернули в плавни.
Мы выбрались на берег у самого креста и, окруженные возбужденными казаками, тронулись к крепости, до которой считали версты две. Казаки завистливо поглядывали на наших лошадей, а один из них узнал белого коня Джембулата, известного на линии ничуть не меньше, чем его навеки успокоившийся хозяин. Русская речь ласкала мне слух, и я словно позабыл, что ожидает меня – солдатский ранец, матерчатые погоны с номером и кивер без козырька.
Комендантом крепости состоял майор Иванов-девятый – офицер безусловно заслуженный, большой любитель чихиря. Я, сбиваясь, доложил ему обо всех наших приключениях. К моему удивлению, оказалось, что майору прекрасно знаком Салма-хан, мой чудесный избавитель, и они обращаются как добрые приятели. Удивление мое возросло еще более, когда Иванов, в свою очередь, поведал мне о тебе, о том, как всего за месяц от этого утра тебя перевели в Нижегородский драгунский полк, в Грузию, и о многом другом, что́ тебе, безусловно, известно лучше моего. Иванов провел нас в свою квартиру, велел фельдфебелю принести сухую форму для меня и трубку для своего кунака, который вышел позаботиться о любимой лошади – этого он не доверил бы и родному брату. Вернувшись, Салма-хан распустил скатанную бурку, не успевшую как следует намокнуть, накинул себе на плечи и преспокойно забрался на широкую лавку, сложив ноги на турецкий манер, как если бы находился в арзерумской кофейне. Пришел фельдфебель, принес сюртук:
«– Ваше благородие, – отрапортовал он майору, – только офицерский остался, от юнкеря того, что месяц назад уехали.
– Давай, – вздохнул Иванов».
Признаться, эта насмешка судьбы не рассмешила меня – но делать было нечего, – я облачился в твой сюртук, благо он был сухой и чистый. Я вспомнил про дуэльный пистолет и вернул его моему спасителю. Перед тем как отдать его, я еще раз его рассмотрел, и почему-то мне показалось, что именно из него довелось убить Елагина, – на мгновенье Неврев опустил голову на грудь.
– Впрочем, – он вопросительно взглянул на меня, – так ведь оно и было, не правда ли?
Я кивнул.
– Так вот, – продолжил он, – Иванов тут же при мне сел писать рапорт, а в комнату в эту минуту вошла молодая черкешенка. Одета она была в шелковый бешмет, застегнутый на груди серебряными пуговицами, из-под которого показались деревянные башмачки, украшенные тонкими инкрустациями. Голову покрывал обыкновенный платок, замотанный под самыми огромными глазами. Эти бархатные глаза посмотрели испуганно, но минутный испуг только оттенил суровое достоинство. Увидев ее, Иванов поднялся, взял за руку и подвел к Салма-хану, который издал какие-то непонятные звуки удовольствия. Они заговорили между собой; Салма-хан говорил больше, она же слушала, опустив глаза, и иногда что-то тихонько спрашивала, приметно волнуясь.
«Сестра его, – кивнул мне майор. – Увез ее Джембулат, а он выкрал. Не захотел такой женитьбы. В тот раз еле ушел. Тож до самой Кубани гнали».
После обеда небо вдруг сплошь затянуло рябыми тучками. Они быстро сгущались, выдавливая первую морось дождя, первые неосязаемые капли, еще не достигающие земли. Салма-хан вывел своего Адгура. На коня Джембулата он возложил высокое, выгнутое, словно ендова, абхазское седло, устроенное по-женски. На спину коня он набросил мягкое шерстяное покрывало и подсадил сестру. Мы с майором вышли проводить их за крепостные ворота.
«– Куда ты теперь? – спросил я Салма-хана.
– В Дагестан, – невозмутимо отвечал он, невзирая на присутствие русского штаб-офицера, – к Гамзат-беку, под знамя Пророка. Обет абречества я исполнил.
– Гамзат-бек убит, – удивился майор. – Как же ты не знаешь? Там у них какой-то Шамиль. Тоже, говорят, разбойник хоть куда».
Я посмотрел на него – на его лице ничто не изменилось.
«В горах долго ходил… – он помолчал немного и пожелал то ли мне, то ли майору: – Живи долго».
Брат с сестрой, еле заметно покачиваясь в седлах, послушные переливам лошадиных мышц, шагом поехали к опушке, захваченной мутной пеленой тумана. Салма-хан затянул какую-то тоскливую песню. Негромкая, печальная, она была под стать дождю, под стать разлуке и скитаниям, бесконечным скитаниям ищущего человека.
«– Да, – поглядел им вслед майор, – убил Джембулата – теперь радость у него. Можно дальше жить. Кровомщение – такая уж штука, – вздохнул он.
– Что́ он поет? – спросил я, ни слова не разобравший в этой клокочущей мелодии.
– Что́ поет?.. – прислушался Иванов – Это абхазская песня. “Дзиуоу, Дзиуоу! Сын князя вина не пьет, воду раздобыть не может. И обходит повсюду ручейки. Немного воды! Немного воды!” Так, чертовня какая-то, – заключил он. – А красиво».
* * *
– Кроме официального донесения, – продолжил Неврев, закашлявшись, – Иванов любезно отписал моему командиру полка, коего лично знал. Все хотели во мне видеть убийцу знаменитого Джембулата, и если бы Салма-хан не забрал бы для сестрицы белого жеребца, то, может быть, на это и было бы похоже. Спустя месяц мне был возвращен офицерский чин – приказом по Кавказскому корпусу я был произведен в прапорщики. Затем шесть лет безупречной службы, – Неврев махнул рукой, – впрочем, это вовсе не интересно, право. Одним словом, чин подполковника в шесть лет, без протекции. После плена удача мне широко улыбнулась. Во весь свой беззубый рот. Однако давай продолжим.
Странное дело, в мыслях я постоянно возвращался к тому солнечному дню, когда прочел надпись на погребальных камнях. Это непонятное заклинание преследовало меня днем и не давало спать ночью, совсем как Айтеку – мысль о здравствовании бей-Султана. Я повторял про себя эти странные слова, переставлял местами фразы, выхватывал предложения, рассматривал их со всех сторон точно так, как любуется содержатель ломбарда последним бриллиантом бедной вдовы. Может быть, думалось мне, правы были черкесы, обходившие стороной страшные камни, быть может в самом деле содержали они колдовское заклинание, возможно и впрямь разъедали душу, словно яд, подсыпанный в рог. Любопытство мое особенно разгоралось, когда я принимался размышлять о чудесной книге. Меня, как тебе хорошо известно, всегда привлекали тайны мира, – улыбнулся Неврев, – если, конечно, у мира имеются какие-либо тайны. Я поднаторел в мистике и в науке разгадывать разного рода секреты, – рассмеялся он, – я, философ поневоле. И я настойчиво вызывал неизвестный образ мученика, оставившего исполненный величия крик одиночества среди угрюмых красот горной природы и жестоких нравов обитателей этих суровых мест.
Как-то раз я находился в отряде, в нижнем течении Зеленчука. Само собой, я тут же вспомнил указания этого загадочного Густава Тревельяна. «Какое сегодня число?» – спросил я у одного приятеля. «Двадцать второе июня», – такой ответ я получил. Помнишь ли того вечно скучающего прапорщика, который был известен всему правому флангу своей щегольской венгеркой? Он тогда был с нами в отряде.
«– Не желаете проехаться в верховья? – предложил я ему.
– Почему бы и нет? Какая разница, где скучать? – сказал этот чудак».
Мы отправились перед самым светом, захватив с собою одного черноморского казака, Дорофея Калинина, который знал горы и тропы так же хорошо, как знал расположение лавок в своем курене. Казак был матерый, охотник и джигит.
«– Знаешь ли ты развалины храма на Зеленчуке? – спросили мы с надеждой.
– Как не знать, – задумчиво проговорил он. – Верст десять отсюдова станет».
Мы ехали по правому берегу и еще до полудня добрались до большой поляны, густо заросшей одичавшими грушами и алычой, на которых неподвижно повисли темные шары омелы, похожие на круглые гнезда диковинных птиц. Сколько столетий назад покинули люди эти места? Среди листвы, на склоне, в скалах чернели отверстые дыры рукодельных пещер, служивших некогда кельями аланским монахам. Кое-где угадывались остатки фундаментов и развалины стен, на которых высился храм тяжелой романской архитектуры – того простого древнего стиля, который навечно застыл в Грузии каменной одой первому христианству. Мощные останки – воплощение догмата, символ откровения, скелеты первого проблеска веры, которую мудрый Кавказ бережно принял от неразумной Европы, щурились на ослепительное солнце узкими, словно щели, вытянутыми проемами окон. Как всегда бывает при виде низверженного временем величия, нам сделалось грустно… Посконин вытащил часы – до полудня оставался час. Над нами сгущалась яростная голубизна летнего неба, оттененная черной зеленью ущелья, а в низине с бешеным ревом нес, ворочая гальку, прозрачные холодные волны рассвирепевший Зеленчук. Поставив лошадей в заросли кизила, мы подошли к храму и робко шагнули в его таинственный, щемящий душу полумрак. В нем сохранились и престол, и жертвенник, и даже две иконы, высеченные на камнях. Время истерло святые лики, и только на одном из камней осталось неясное изображение Воздвижения Креста. Грустно, грустно было наблюдать в прорехе купола синее небо, до боли тоскливо видеть траву, устлавшую плиты дорожки, неровно ушедшие в землю, а на занесенном песком полу церкви – диалектические цвета птичьего помета… Я тщательно припомнил все рекомендации несчастного француза, и ровно в полдень, который Посконин отметил со всей возможной точностью по своим немецким часам, я стоял лицом к зияющей пасти входной арки, отступив на пять шагов от разбитого ветрами порога, глядя в темноту. Моя тень упала налево, дважды переломившись: один раз там, где из наноса, поросшего травой, поднималась древняя стена, другой раз – в самом неожиданном месте – в том самом месте, где должно было покоиться отображение головы, указывая тот заветный камень, который следовало вынуть. Время не сверялось с нашими помыслами, и целый кусок стены обратился в осыпь, поэтому тень головы моей, смятая, словно лист бумаги, горизонтально уходила в обвал. А может быть, это человеческая рука в нетерпении разворочала стену? Нащупала священную книгу? Такая догадка исторгла из меня стон. Но кто, кроме неграмотных горцев и пленного русского офицера, мог набрести на город дольменов, кого еще коварный случай мог заставить прочесть эти надписи? Делать было нечего – скинув мундиры, принялись разбирать всё это крошево. Копаться нам пришлось совсем недолго. Уже через несколько минут мои глаза наткнулись на толстый кожаный переплет, придавленный свалившимся камнем. Сердце у меня бешено заколотилось. Неужели правда, думал я, – нет, не думал даже, боялся мыслью спугнуть наваждение. Я подозвал Посконина, и мы отвалили тяжелый тесаный камень. Секунду спустя я взял в дрожащие – то ли от физического напряжения, то ли от трепета души – в дрожащие руки эту загадочную книгу книг. Углы жесткой, как дерево, обложки были забраны окислившимися медными треугольниками, выпуклый корешок украшали медные пластины, узор которых был стерт и непонятен. Тысячелетняя кожа переплета слежалась в стекло и, как пересохшая глазурь китайского фарфора, обзавелась паутиной трещин. Когда-то обложка была выкрашена темной коричневой краской, какой-нибудь охрой, разведенной в яичном желтке, и кое-где, местами, между чуть выпуклых бугорков поверхности упрямо забились остатки этой краски. Я распахнул книгу – она была пуста!.. Из корешка торчали изглоданные корни пергаменных страниц – безобразные объедки времени, желтые и рваные раны вожделенной сути, и ни одной целой, ни единой поблекшей миниатюры, на которой наивное воображение иконописца облекает Господа в те же одежды, которые носит он сам, – ни одной, несшей бы на себе хотя бы смутный отпечаток буквы, оттиск божественного слова, хорошо, пускай даже след не поддающегося истолкованию иероглифа. Ничего!
«От незадача, – к нам подошел Дорофей, – лисицы, должно, поели». Он пригляделся к выпотрошенным внутренностям нашей находки и указал на бесчисленные следы острых зубов.
Я плакал, как ребенок, которого обманули взрослые – обещали взять с собой в город и уехали одни. Я прижимал к груди пустой переплет, благоговейно выдувал из всех его щелей белую каменную пыль, забившую по́ры книги, размазывал эту пыль, смешанную с дурацкими слезами, и бессильнее меня не было человека. Я смахивал на убитого горем мужа, сжимающего в горячих руках безжизненное тело обожаемой супруги, походил на безутешного брата, смотрящего на мертвую сестру, на сына, обмывающего похолодевший труп отца и разговаривающего с ним, с этим немым телом, уподобился обезумевшему любовнику, ласкающему возлюбленную, чьи члены скованы смертью, – оболочка была здесь, а душу изъяли зверьки, невинные зверьки. Ох, и позабавились же они. А может они были просто голодны? Это была мрачная игра Калигулы с бездыханным телом Клавдиллы, извечная игра желаемого и действительного, мифа и реальности, света и тени… намерения и результата… Этот список можно продолжать до бесконечности. Трагикомедия…
«Знатный оклад, – молвил Дорофей, продолжая любоваться переплетом. – А что, ваше благородие, не отдадите ли мне?
– На что он тебе, братец? – спросил Посконин.
– Да отвезу в станицу, отдам отцу Мануилу, а то у него в церкви, – Дорофей перекрестился, – молитвослов совсем поистрепался-то, обложка – та совсем разошлась, смотреть жалко. – Старик помолчал. – Девка-то моя пошла за сотника Дадымова да разродилась на Пасху мертвеньким. Не дает бог внучат, – тяжело вздохнул он».
Мы отдали переплет казаку.
Некоторое время мы с Невревым в задумчивом молчании смотрели в разные стороны.
– Да, – сказал я наконец, – мир тесен. Тесен, как кибитка кочевника.
– Как мундир павловского гренадера, – отвечал Неврев, и мы рассмеялись так легко, как не смеялись уже много-много лет подряд.
– Тебе когда ехать? – спросил я.
– Назавтра ехать. Вот только прогоны получу…
* * *
Неврев уехал в армию, я остался и очень скоро понял, что это чудесное свидание в полутьме дядиного дома есть последнее, что еще раз связало меня с промелькнувшими двадцатью восемью годами жизни. Ничто не повторится вновь в привычном виде, ничто больше не обретет знакомых очертаний – будет другое, неизведанное существование, новые боли и новые радости. Чувство, как огонь, которому нечем питаться вокруг, пожирает сам очаг, и приходит скука, и разгребает угли, исподволь роняя на них мокрые слезы, выискивая, из чего бы раздуть новый пожар, но, роняя слезы, только тушит это последнее.
Я всё глубже погружался в пучину самой непосредственной тоски. Я жаждал небытия, словно глотка воды в нестерпимо жаркий августовский полдень на сухом и соленом крымском побережье. Все эти истории, затверженные неподвластной, незримой памятью, все эти брошенные мужья, которые бросили сами себя, все эти несчастные влюбленные, всё имевшие для счастья, но не имевшие средства достичь его, – ибо есть нечто, что́ не в нашей власти, – все эти разодранные судьбы, все эти томления по утерянной родине, забытой вере, поруганной религии, вечные скитальцы, сумасшедший смех Альфреда де Синьи, этот старая развалюха граф, нависший надо мной безжизненной тенью, преследующий меня по ночам мертворожденными сказаниями… Может быть, он тоже остался влачить свое голое существование, поджидая собственную тень, как самоотверженный Густав? Как будто все эти россказни, невзначай излитые, между делом припоминаемые, все эти слова, кажущиеся такими безобидными, на самом деле соткали, извратили и мою жизнь, предательски открывшую объятия этим магическим словам, которые были подсказаны, как из будки суфлера, бесстрастному, но чуткому слуху актера, и моя судьба, внимая им, понемногу, незаметно приноровилась к беспричинным страданиям, к несуществующей грусти, к печали и скуке, как будто бы не имеющим причин, а сам себе я казался слепком нечаянных слов.
Старый граф наделил меня меланхолией, доходящей до сумасшествия, дядя, бедный дядя одарил покорностью и безотчетной страстью к ударам судьбы, Неврев поселил во мне вялую безысходность, Квисницкий – отвращение к мундиру, Троссер сообщил ненависть к путешествиям, Вера Николаевна облекла здоровое чувство любви в темный креп разлук, покойный Альфред зародил сомнения в разумности молодого счастья, а все вместе они наполнили меня до краев и перебили охоту жить, развратив заодно душу бесконечными сказками с неизменно плохими концами. Эфир и впрямь был полон намеков, указаний и напоминаний, уста рассказчиков производили на свет химеры, и эти химеры тут же оборачивались для меня дорожными указателями. И не сбылось только одно предсказание, данное по всем правилам провидческого искусства, – непонятное, но ясно высказанное обещание счастья от старухи-гадалки, проживавшей в домике с дырявой крышей.
Так прошел год. Я стал бояться слов – нет, не тех жарких слов, идущих из глубин сердца, не тех освященных чувством проклятий или перемежающихся со слабым шипением нищенских благословений, не тех невнятных пьяных ругательств, а тех безразличных, сказанных вскользь слов, как будто проходящих мимо, на самом же деле крадущихся к цели, – тех, которых так жадно ждет рассеянное сознание и которые впитываются им с такой сладострастной ненасытностью и покорностью, напоминающей фатализм. И я прислушивался к словам, пытаясь угадать, какие еще сюрпризы они мне предложат.
Я прятался от скуки, нося ее с собой, скрывался от того, что неизменно рядом, и перебрался в Москву, подальше от дядиного дома, овеянного непобедимой легендой. Долгими зимними вечерами, вечерами, насыщенными мрачной синевой, высасывающими из души остатки живительных сил, я таскался в Английский клуб, где, конечно же, не встречал ни одного англичанина, зато встречал бездумных повес, обремененных семьями, отчаянных ветрогонов, обремененных долгами, пожилых франтов, обремененных любовницами и монаршим благоволением, – будущих деятелей либеральной эпохи – и еще каких-то уже вовсе непонятных людей, независимо от возраста отягченных сразу всеми этими признаками полнокровной жизни. И все они коротали дни – или, скорее, ночи – в бесплодных разговорах, отмеченных смыслом в самой своей незначительности, топили равнодушные слова в осторожных глотках шампанского и бургундского, превращая жизнь в вечную проволочку, в сплошной антракт между несодеянным и тем, что никогда не будет сделано, между делом также исповедуя выспренную меланхолию, закапывая во времени каждый свою правду. Всё говорило за то, что эти люди тоже ожидают собственных теней, уповая на подагру – одни, мечтая об апоплексическом ударе – другие и призывая скоротечную чахотку – третьи. И среди них был я: престарелый юноша, бездарный ученик равнодушной жизни, вносивший в это собрание скопцов от инфантерии, от кавалерии, от землеустройства, евнухов большой политки и камерных салонов, сверкающих наградами (заслуженными и не очень), скалящих в морозные окна дурные зубы, затейливо сточенные трюфелями и дымами походных костров, – вносивший туда ревниво скрытую от чужого глаза отцветающую молодость, а вместе с ней угасшие страсти, неразгаданные загадки, секреты полишинеля и неразрешенные аккорды; утерявший цвет, свет, жену, но чудом сохранивший и шевелюру, и репутацию, и (что всего удивительнее) дядино наследство, чем целиком обязан всё той же скуке, ибо мотать – занятие столь же скучное и бессмысленное, как и все прочие; не нашедший в жизни ни смысла, ни веры, ни ремесла. Похоже, что и я тоже ожидал собственной тени. Однако что́ толку ждать тень, когда в небе нет солнца. Следовательно, сначала нужно дождаться солнца.
Там-то, в Английском клубе, в отсутствие самих англичан, я встретил располневшего Посконина, игравшего в вист с таким выражением лица, что можно было подумать – человек по меньшей мере наносит на карту маршевые планы огромной армии, идущей завоевывать мир. Пресловутой венгерки не осталось и следа – теперь его дородная фигура была облачена в тесный фрак, скроенный в Париже, а пошитый на Кузнецком мосту. Цвет сего фрака, равно как и окраска модных панталон, не оставлял сомнений – что-то случилось.
– Боже мой, – воскликнул я, – куда же вы дели свою хандру? Куда задевали великолепную венгерку?
– Женюсь, – сообщил Посконин и весело примигнул. – Собрались за границу, в Рим. Восемь месяцев назад оставил службу, – предупредил он следующий вопрос.
Мне припомнился старик Квисницкий, и я понимающе кивнул.
– Да, между прочим, – помрачнел Посконин, – слыхали новость, Неврев убит… Как вы сказали?
Я ничего не сказал. Я молчал.
– Да, да, – подтвердил Посконин, – в Гойтинском ущелье, командуя цепью передовых стрелков. В июле. Жаль беднягу. Ведь хорошо двигался по службе. Был бы жив – полковник в тридцать лет. У него, кажется, родных никого не было, не так ли? Или нет, сестра, по-моему, осталась младшая. Князь Воронцов весьма лестно об нем отзывался. Очень переживал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.