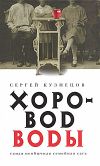Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Часть четвертая
Не могу точно сказать, сколько родилось и умерло людей за то время, что я не открывал глаз. Наверное, немало. Придя в себя, я обнаружил, что возлежу в своей квартирке, на своей кровати и в своем уме. Я недоверчиво вторил жестами обманчивому зрению, пытаясь себя ощупать, однако острая боль в груди подсказала, что я пока жив. Я открыл рот, издал некий нечленораздельный звук и снова стал повелителем своей табакерки, гребенки, шелкового галстука и тысячи душ в заснеженной России, а заодно и своей собственной.
Отходил вечер. Расплавленное тягучее тесто вечернего солнца грузно вваливалось в комнату через огромные стрельчатые окна. Заметив, что рабочий день начался и двери открыты, все мерзкие, гадкие, неприятные, позорные, мучительные воспоминания, словно просители в присутственное место, потянулись в сознание и наполнили его коридоры и приемные возбужденным гулом и досужими сплетнями. Я лежал в тишине и косил глазом на столик слева от меня. Там разглядел я пузатый графин с водой, фарфоровый таз, склянки с какими-то микстурами, корпию, две груши, салфетки, некий конверт и колокольчик, подвязанный красной ленточкой. Неведомые доброжелатели предусмотрели все. Я осторожно, следя за тем, чтобы не звякнул раньше времени, завладел колокольчиком, пальцем прижал язычок к борту и некоторое время размышлял, кто явится на мой зов. Прежде всех прочих образов возник образ наемной сиделки из католического приюта, в крахмальном чепце и строгом платье с воротником огромным, как листья кувшинок. За ним показалось темное платье Веры Николаевны, потом застенчивая надежда привела даже жену, и где-то вдали мелькнули очертания этой жены, робко выглядывавшей из-за портьеры и не решавшейся приблизиться, однако то, что явилось в самом деле, мигом привело меня в чувство и уверило, что я более здоров, чем себе кажусь. Звук колокольчика возбудил за затворенными дверями приглушенные шумы, раздались тяжелые мужские шаги, дверь подалась, приоткрылась, замерла на мгновенье – я явственно слышал, как кто-то высморкался за створкой, – наконец она распахнулась уже вся безвозвратно, и на пороге моим взорам предстал Ламб, долгожданный Ламб, немного обрюзгший, чуть полысевший, слегка побледневший, но всё с той же неизменной готовностью предаваться всем своим ограненным сумасбродными прихотями удовольствиям, где бы они ни повстречались, которая по-прежнему выглядывала из его глаз лениво и пресыщенно. Он смерил меня таким взглядом, будто мы расстались пять минут прежде, но тут я сообразил, что прошедшее время доставило ему множество завидных возможностей на меня наглядеться. Таким образом, я видел его впервые за пять лет, а он меня за эти пять лет увидел впервые гораздо раньше – когда?
– Две недели как вернулся в Париж, – пояснил он, – получил твою карту и приехал по иронии в тот самый день, когда и тебя привезли. Чертовски забавно – подъезжаю к парадному – ба, что́ за маскарад? Несут на плаще. Хотел перевезти тебя к себе, да доктор запретил тревожить. А и капитан твой, нечего сказать, молодец – нет, чтобы в госпиталь сразу. Странный малый. Так что пулю здесь извлекали. Да ты помнишь ли, как тебе морфий давали?
Я отрицательно поводил головой туда-сюда по подушке. Чудесное явление Ламба, словно явление Господа к торговцам во храм, в мгновение ока поизгоняло из ума всех моих «посетителей», так что там воцарилась пустота необыкновенная. Впрочем, один старый сторож еще караулил опустевшую канцелярию мозга:
– Где Елена? – я всегда отличался правдивым нравом, потому-то и не сказал: где жена?
Ламб молча сделал рукой и всем своим корпусом какой-то неопределенный жест, некое сдержанное движение, которым показывал, что он этот вопрос уже прилежно рассмотрел и нашел, что жалеть здесь не о чем, а потому и спрашивать ни к чему и, следовательно, отвечать не следует. Его знаменитая непосредственность привыкла все решать за других, я же лишний раз имел возможность убедиться, что над некоторыми вещами не властно даже время, и возвысил голос.
– Пожалуй, ты мне ответь! – возмутился я. – Жена-то всё-таки была моя, не правда ли?
Ламб задумался самым невинным образом. Увы, и было над чем подумать! Мои сухие губы изобразили улыбку, и с ней на пару я ожидал приговора. Ламб сказал:
– Почему-то мне кажется, что ты свободен. И это прекрасно. Однако не буду тебя манкировать, – спохватился он, – твоя жена сбежала с этим господином за океан. Я разумею, с тем молодчиком, который тебя подстрелил. Так что… – он развел руками с тем видом, с которым иные люди говорят о смерти: “»то ж, дело-то житейское». Странное дело, но шутки Ламба смягчали удары, которые он же и наносил.
– Оставь свои глупые шутки, пожайлуста, – всё же процедил я.
– У меня нет жены, – ответил Ламб, – мне нечего и опасаться. Некого, лучше сказать. Я предпочитаю иметь дело с чужими женами. Что́ правда, то правда. Знаешь ли, здесь теперь много жен. Право, совсем как в Петербурге.
– Мерзавец, – отрезал я, весьма комично отвернувшись. Он жизнерадостно подмигнул.
– Mais[25]25
Однако (фр.).
[Закрыть], я понимаю тебя – ужасная страна, распущенные нравы. Кстати, тут заходила… – он порылся в кармане и нашел карточку, – Вера Николаевна Стрешнева. Справлялась о твоем здоровье. Католичка, оказывается? – Он пожал плечами. – Русские – католики, а француз Ламб всё еще православный. Или православен? Как правильно? Чертовщина какая-то. Стал забывать один из родных языков. Погоди, ты как себя чувствуешь? Ключица не перебита, легкое не задето, так что должно быть всё в порядке, – заключил он.
– У меня душа болит.
– Ничего удивительного. Душа в груди, пуля туда и угодила…
– Прекрати же, – простонал я.
* * *
Поправлялся я вопреки ожиданиям весьма скоро. Нескончаемые дела вызывали Ламба в очередное путешествие, на этот раз они поджидали его в департаменте Жиронда. Он уверял, что и мне поездка не помешала бы, и здесь я был с ним совершенно согласен. Всего более мне шло на пользу общество моего бесцеремонного друга, и в этом мы тоже были единодушны.
Весна уже ласкала Францию теплом и светом. Мы, отказавшись от всяких дилижансов, не спеша ехали на своих. Почти все хоть раз за свою жизнь оказываются в тех обстоятельствах, в каких очутился я, и уж тем более всем без исключения приходится претерпеть минуты, а то и годы, смертельного одиночества, когда нет желания жить даже в обществе смешливых друзей, под ярким солнцем и в изобилии жизненных припасов, а потому нет нужды даже и останавливаться на моих чувствах, отлично известных и понятных каждому. Достанет сказать, что прелести расцветающей природы трогали меня только по определению. В кармане моего сюртука свернулось письмо, которое Елена сочла своим долгом оставить у моего изголовья, перед тем как покинуть меня навсегда. Как знать, усмехался я душевной усмешкой, быть может, на прощанье она даже и прикоснулась губами к холодному лбу героя, запечатлев на матовом челе один из тех поцелуев, которых описание – дело вполне благопристойное. Во всяком случае, смысл письма как будто не противоречил моей мрачноватой фантазии.
«…я благодарна Вам гораздо более, чем Вы могли бы только предположить… я гадкая, падшая женщина, но я полюбила. Не правда ли, это был единственно достойный выход – расстаться, а не унижать друг друга (!) обманами и ложью. Поверьте, никогда бы не решилась я нанести Вам подобное оскорбление, передавая записки через Луизу, впутывать прочих слуг и всех на свете…
Простите, я внезапно увидела жизнь яркой вспышкой света и не захотела наблюдать ее утомляющим глаз блужданием жалкого солнечного луча, шарахающегося от хмурых облаков…»
Ах, к чему всё это? И это тоже не требует слов. Почти любой современный роман содержит образчики этого стиля, и там-то без труда можно с ними ознакомиться. С ее стороны обмана не было – была ошибка, однако ошибка досадная более для меня, чем для нее. Это, по крайней мере, она признавала. Я послужил ей прихожей в большой мир, а в прихожих не принято повышать голос, а полагается говорить тихо, как в церкви, или у постели больного, или в зале Лувра перед немым и великим приветом из глубины времен.
Ламб ехал на юг с целью уладить некоторые спорные вопросы относительно довольно значительного земельного владения, доставшегося ему от покойной тетки по завещанию, но формально, как это неожиданно выяснилось, ей не принадлежавшего. Земля оказалась заложена, но срок платежа еще не истек, а каким образом юридически не чистое имущество угодило в завещание, на то мог дать ответ один лишь стряпчий, его составлявший, но тоже умерший почти сразу же вслед за маркизой де Флермон-Лабри, родной теткой по матери моего приятеля, который теперь спешил распутать клубок и своим собственным присутствием устранить кое-какие неприятные последствия, связанные с этой историей. Нам предстояло прибыть в маленький городок Мериньяк, в окрестностях которого лежали эти угодья, что нам и удалось с Божьей помощью в одиннадцать дней.
* * *
Мериньяк, маленький низенький городишко, улегся среди бескрайних виноградников, прилепившись к самым – ныне рассыпавшимся и растащенным по кирпичу – стенам Бордо. Некогда обитатели Мериньяка искали защиты под этими мощными громадами. Но времена изменились, настал век просвещения, или – по-другому – век обогащения, и лавочники подняли свои стяги над новорожденной мэрией бывшего робкого пригорода. Теперь буржуа гордились незаконнорожденным городским гербом, торговой палатой, собственной почтой, а также гостиницей, которая и вправду редко пустовала.
Гостиница эта (кстати сказать, единственная) отчего-то показалась Ламбу невыносимо убогой, и, если принять во внимание известные склонности, свойственные обладателям особняков в Сен-Жерменском предместье, таковой она и была. Особенно раздражила Ламба простоватая любезность хозяина, и он вышел из ее дверей в негодовании. В итоге было решено воспользоваться приглашением стряпчего, г-на Троссера, который должен был руководить делами Ламба и чей дом, построенный, верно, еще в эпоху Беарнца, украшенный затейливыми башенками и сплошь затянутый плющом, на вид являлся одним из замечательных и превосходнейших в Мериньяке. К дому тесно примыкал садик – такой густой, что с другого конца выпуклой площади казался одной купой. Комнаты, которые г-н Троссер предоставил к нашим услугам, и впрямь оказались поприличней тех, какие утром по первому на них взгляду живо воскресили в нашей памяти «шикарное» заведение Найтаки, тоже на юге, но не королевства, а империи. Они обе располагались во втором этаже – первый занимала контора, – и их узкие и длинные окна выходили в сад, кончавшийся глухой стеной соседнего строения. Стена пестрила разноцветной кладкой, тона – красно-бурые, коричневые, темно-песочные, кирпичные, серые – представляли своими сочетаниями некую теплую гармонию, уютное равновесие, приятное глазу, и сгущали синеву весеннего неба, косо обрезанного черепичной крышей. Только что распустившийся сад излучал тончайшие ароматы первой свежести, и запах молодой сирени, смешанный с еще неверным очарованием розовых бутонов, достигал наших окон. Внутренность моей комнаты была обделана навощенным деревом, потолки составились из дубовых квадратов, старинные прочные отполированные мебели – массивная кровать, увенчанная на спинках готическими пирамидками, рассохшийся комод, стянутый железными пластинами, два коренастые и жесткие стула, пузатый секретер – имели вид добрых и аккуратных слуг, а медный кувшин, древний, как и сам дом, возвышавшийся на приземистой почерневшей тумбе, выказывал сразу и величие, и простоту. Эта непритязательная обстановка была очень под стать простой и грубой кладке стен и изобличала бесхитростные нравы его обитателей. Мы попали в покойную провинциальную обитель тишины, уюта и, верно, каких-нибудь обязательных семейных преданий, сохраняемых бережно и любовно вместе с выбитыми скатертями, простынями, пожелтевшими от долгого лежания в шкапах, и салфетками, накрахмаленными так, что и не лезут за ворот и спадают с колен листом бумаги.
Г-н Троссер, стряпчий, унаследовал свою контору от отца лет восемь тому назад, был женат, имел двух дочерей и проживал в старом доме со своим родным дядей, которому перевалило уже за семьдесят. Дядя был худенький маленький старичок, чрезвычайно сухой и сморщенный, но необыкновенно подвижный и бодрый. Он сохранил все свои прямые волосы, которые от времени только побелели, пожелтели и истончились, словно столетняя льняная простыня. Нос у него был крупный, красный на конце, слегка искривленный вправо, с горбинкой, что, заодно с длинными ровными волосами, делало его похожим на старушку-колдунью, на сказочную бабу-ягу, а глаза, хотя уже мутные, оказались быстрыми, осмысленными и умными. Время не пощадило только его зубы, конфисковав их почти все, так что он забавно жевал тонкими, бледными, голубоватыми губами, которые то и дело проваливались в опустевший рот.
Ламб с самого утра вместе со стряпчим удалялся по делам, а я, скованный мрачной грустью, бродил по залатанному во многих местах рябому булыжнику старинных улочек тихого городка, с непривычки спотыкаясь через шаг. К обеду мы сходились в каминной комнате за тяжелым длинным столом: госпожа Троссер, дородная, но привлекательная опрятная женщина тридцати пяти лет, стряпчий, плотный мужчина с круглым лицом и добродушной улыбкой, две прелестные белокурые малышки – их дочки, его престарелый дядюшка и нечаянные постояльцы – мы с Ламбом. Занятый своими невеселыми раздумьями, я мало прислушивался к тому, о чем шла речь за столом, и почти не брал участия в разговорах. Трапезу я завершал нещадным курением, но даже отличные колониальные сигары не отвечали более моим вкусам и потребностям, и я перешел на трубку, буквально закуривая свои несчастья. Однажды я достал свою табакерку и принялся набивать трубку. Г-н Ноэль Троссер, дядюшка стряпчего, замер на своем стуле, отложил прибор, устремив пристальный взгляд на эту табакерку, которую я нервно вертел в руках.
– Позвольте сделать вам вопрос, – наконец не выдержал он, – откуда у вас эта вещица?
Я сказал ему и протянул табакерку. Он принял ее осторожно, благоговейно, долго рассматривал лаковое изображение на крышке и раз провел шершавым, едва заметно дрожащим пальцем по поверхности. Я несколько оживился, наблюдая всё это, и его интерес сообщился и мне, шевельнув кое-какие воспоминания. Страдание нелюбопытно, однако случай оказался из ряда вон.
– Да, – со вздохом молвил старик, – это она. Они.
* * *
Следующим утром, когда стуки и грохот огромного рыдвана, увлекавшего моего друга и его сотрудника в дебри судебного крючкотворства, удалились от крыльца и вокруг снова воцарилась спокойная тишина солнечного утра, я навестил старика Троссера в его апартаментах. Он кушал кофей на тенистом балконе, обмакивая в чашечку ломтики душистого хлебца. Все стены его комнаты были увешаны самым разнообразным холодным оружием, между которым нашлись и несколько восточных сабель и кинжалов, чей вид мне был так знаком. Этот арсенал в почтенном буржуазном доме вызывал удивление. Казалось, мы без слов понимали друг друга. Я устроился рядом с ним, и в очень недолгом времени его приятный, старчески скрипучий голос одну за одной убирал печали, отставлял горести и сметал тоску с голых полок моей души, и опять история чужой жизни вплеталась в мою, потихоньку и колдовски увлекая меня на тот путь, который один доступен человеку для понимания прошедшего:
– Жозеф Троссер, мой племянник, является сыном моего старшего брата, которого восемь лет назад старость и болезни увели из этого мира. Дело он унаследовал от нашего отца, при котором состоял помощником, своего рода подмастерьем, готовясь после его смерти самому занять эту спокойную и в общем доходную должность. Между братом и мной была разница в пять лет, и в то время как он уже оказался пристроен к семейному делу, я был еще предоставлен сам себе и всецело предан самому откровенному безделью. Единственной страстью, овладевшей моим сердцем с юных лет, было холодное оружие. Я не упускал ни малейшей возможности, ни минутки, чтобы поупражняться в искусстве наносить и отражать удары каким-нибудь старым негодным клинком. Вскоре я достиг в этом увлечении заметных успехов, которые позволили мне перевести на первый взгляд пустое развлечение в разряд ремесла. В то же время я где мог собирал всевозможные шпаги и рапиры, и если случалось, что не имел достаточно денег, чтобы выкупить тот или иной приглянувшийся мне экземпляр, то выменивал у отставных солдат недурные клинки на свои рубашки и камзолы. Не скрою, что за это мне частенько перепадало от моей матери, а еще более от отца, мечтавшего видеть во мне, как и в брате, человека уравновешенного и будущего сподвижника его юридических трудов. Нельзя сказать, чтоб я был сорванцом или гулякой, хотя и водил знакомство с некоторыми дворянами, чего отец совсем не одобрял, но что объяснялось главным образом моими пристрастиями к фехтованию. До той поры судьба даровала мне весьма посредственное образование. Вскоре я нашел себе уроки в Бордо и до поры этим добывал на хлеб. Все эти события приходятся на 1789 год, когда мне шел двадцатый.
– Отец был связан благодарностью с семьей маркиза де Флермон-Лабри, одного из крупных сеньоров в нашей округе, да и во всей Аквитании. Чем-то отец был сильно обязан этому аристократу, вел его дела и постоянно внушал нам, своим детям, неизменное уважение к этому знатному семейству. Как-то в середине лета до нас дошло известие о тех беспорядках, которые происходят в столице, а также о штурме Бастилии. Эта весть распространялась в провинции весьма скоро и смутила многие умы. В округе крестьяне начали нападать на дворянские усадьбы. Старинные замки гибли в огне пожаров, аристократы разыскивались и нередко находили смерть в руках разъяренных сборищ. Аквитания забурлила, повинуясь неумолимому ритму всего королевства, и бесчинства было некому унять. Как будто век Руссо и Монтескье требовал нового подхода к труду и государственному устройству.
Особенно тщательно разыскивались народом всякие документы: бумаги на владение землями, дворянские грамоты, куда черным по белому были занесены различные крестьянские повинности. Наивные поселяне искренне полагали, что, уничтожив такие бумаги, они тем самым освободятся и от ненавистных повинностей, а то и переделят землю. Однако то, что сегодня кажется смешным и нелепым, завтра может стать вполне натуральным и обоснованным, в особенности тогда, когда за дело берется революция. Вам, думаю, уже ясно, куда я клоню. В семействе Флермон-Лабри, конечно, обладали такими грамотами, подтверждавшими их древние права на свои владения, части из которых, кстати, ныне домогается, и домогается вполне справедливо, ваш друг мсье Ламб. К тому времени старый маркиз умер, оставив всё свое состояние незамужней дочери. Маркиз никогда не отличался мягкостью в отношениях с крестьянами, а потому был на плохом счету у народа. Бедная женщина, которая неминуемо должна была пострадать за скупость и жестокость отца, переживала томительные и жуткие дни, скрывшись в своем замке Лабри и каждую минуту ожидая нападения. Многие из челяди оставили ее, примкнув к восставшим. Мой отец убедил ее перебраться в Англию и там в безопасности переждать смутные времена. Отец клятвенно обещал маркизе сохранить все документы, связанные с ее имением, и регулярно высылать доход. – Троссер улыбнулся. – Никто ведь тогда и не предполагал, куда завлекут нас революционные вихри, и что придется скорее заботиться о собственной голове, не то что о какой-то ренте. Все эти переговоры велись, безусловно, в строжайшей тайне. Для начала перепуганная маркиза покинула свой замок, который служил бы ей неважной защитой, и скрывалась у нас в доме. Это свершилось весьма кстати, ибо на той же неделе замок ее был разграблен и предан очистительному огню. Никаких грамот народ не отыскал и справедливо решил, что бумаги находятся в руках бежавшей владелицы. Бросились ее разыскивать. На беду несколько человек видели, куда укрылась маркиза, и указали на наш дом. Нужно было на что-то решаться, ибо стало известно, что вооруженный отряд уже направился в Мериньяк по наши души. Отец призвал меня и, напомнив все обязанности сыновнего долга, одарил меня своим благословением, я же, не теряя времени, бросился в комнату, где в углу были свалены мои оружия, наскоро осмотрел свою коллекцию и выбрал один клинок, чье качество представлялось мне неоспоримым, и длинный кинжал превосходной генуэзской работы. Мне предстояло всего лишь сопроводить несчастную маркизу в Бордо, где она могла бы сесть на корабль, и охранять ее во время этого недолгого, но опасного путешествия. С помощью моей матери маркиза переоделась в мужское платье, свои роскошные волосы скрыла под широкой шляпой, которую надвинула на самые глаза. Мы замотались в плащи и, сопровождаемые только двумя верными слугами, из коих одна была женщина, крадучись выбрались из дома вот через этот сад, – указал старик на нежную зелень кустарников, откуда птичьи голоса наполняли воздух пленительным гомоном. – В стене есть калитка, выходящая в переулок, но эти предосторожности оказались излишни. В переулке нас ждала карета, но никто не догадался сбить с ее дверец проклятые гербы, увенчанные опасными в наше время коронами, так что эти надменные украшения только накликали беду на наши головы. Как назло, дело происходило утром, однако не в нашей власти было выбирать время суток. По дороге карета была остановлена. Сама слабая женщина, быть может, и не подверглась бы насилию, но речь шла о грамотах, и никто, конечно же, не предполагал, что столь ценные бумаги могут быть доверены аристократкой простому буржуа, каковым являлся мой отец, а потому были уверены, что злосчастные бумаги в ее руках. Рассуждать не было времени, к тому же рассуждать никто и не хотел, и в результате короткой стычки два человека были мною убиты. Я занял место пострадавшего кучера и погнал, нахлестывая лошадей. В итоге честь маркизы, ее голова, достоинство, украшения, которые были с ней, и она сама – словом, всё было спасено, но сам я оказался в весьма неприятном положении. В порту меня нашел брат, который всем этим был напуган не меньше маркизы. С тревогой он сообщил, что меня узнали и что разгневанная толпа повсюду меня разыскивает, поклявшись непременно повесить, как пособника аристократов и эмигрантов, если прежде не разорвет голыми руками. Брат рассказал, что некоторые пытались даже возбудить людей разгромить наш дом, но стряпчий – не герцог, он нужен всем, и благоразумие на этот раз восторжествовало. Искали одного меня, и участь моя виделась брату, насмотревшемуся на озверевшие лица, да и мне самому, в невыразимо печальных тонах. Некоторое время мы без цели бродили по городу, а потом забрели в таверну промочить горло.
– Здесь случай благоволил мне опять, – невесело усмехнулся старый Ноэль. – Мы немало выпили и зачем-то зашли в церковь Св. Михаила. Тут всё еще оставалось по-прежнему. Прихожан было немного, придел был освещен слабо, и скудные огни исходили теплым воском, а за ними серебряная рака переливалась золотыми бликами. Расплата за преступление не замедлила явиться, приняв облик человека, на самом же деле, видно, демона-искусителя, – улыбнулся старик.
«Мой дорогой Троссер, ваша память вас подводит», – обратился ко мне человек, который за секунду до этого тронул меня за рукав камзола, и я тут же узнал характерный выговор, который встречается у моряков Бордо и Аркашона. Это был мой старый приятель Брюшон, сын кораблевладельца и сам уже капитан. Некогда я давал ему уроки фехтования, но это занятие ему давалось плохо. Он был куда старше меня, однако это не мешало нашему сближению, а пара легкомысленных приключений еще более скрепила подобие нашей дружбы. После его отъезда из Бордо год назад мы потеряли всякую связь.
Увидев меня, Брюшон выразил необычайную радость, и тут же на месте возблагодарил небо за эту встречу.
«Невольно я подслушал, о чем вы здесь толковали, – пояснил он, – и это очень кстати. Положитесь на меня».
Предложение Брюшона заключалось вот в чем. В Тулоне, готовая к отплытию, стояла призовая эскадра, которой через две недели надлежало сняться с якоря и под командой адмирала Лепажа отправиться щипать колонии: революция нуждалась в средствах. Брюшон, фрегат которого стоял на рейде в Бордо, выступал в качестве капитана одного из шести кораблей, и ему срочно требовались спутники в этом предприятии. Выслушав Брюшона, мой брат облегченно вздохнул, и тут же вручил мне все деньги, которые у него были с собой. Оно и понятно, ибо выбирать мне не приходилось. Мы двинулись к выходу, задевая полами плащей за спинки резных скамей, и снова перешли в таверну. Там мой приятель разложил на мокром столе лист бумаги, оказавшийся договором: «Я, такой-то, подписываю сию бумагу и удостоверяю своей подписью, что нанялся на фрегат “Аванти” сроком на два года за обговоренную плату, и обещаюсь не разглашать цели путешествия и верно служить отечеству». Кликнув перо и чернил, я обмахнул стол от крошек, подписал договор и поставил дату – 16 сентября 1789 года. Я обнял брата, который ручался за спокойствие родителей, мы с Брюшоном дождались прилива и на шлюпке добрались до «Аванти», на палубе которого я был уже в полнейшей безопасности и который в тот же день отплыл к Тулону, на соединение с флотилией.
«Вы же знаете, Ноэль, как это бывает, – похлопал меня по плечу молодой моряк, заметив, что я задумчиво провожаю берег печальными глазами, – иногда удача случается там, где ее и не ждешь».
* * *
Команда наша подобралась весьма удачно. Все были молоды, полны сил и готовности сразиться с англичанами. Я, как друг капитана, имел отдельную каюту, куда и отнес шпагу и кинжал, да томик Монтеня, купленный на прощанье в лавке на набережной, – всё мое достояние. Шпага с кинжалом повисли у меня над кроватью, дожидаясь, пока настанет для меня час взяться за их холодные рукояти. Да, – еще раз усмехнулся старик, – времени в те поры у нас было навалом, и мы уничтожали его огромными кусками вперемешку с противной солониной.
Мое умение владеть шпагой пригодилось гораздо раньше, чем я того ожидал. На первых порах плаванье наше протекало довольно спокойно, а потому казалось скучно, и Брюшон предложил мне шутки ради возобновить наши давние занятия. После завтрака, когда дел особых не предвиделось, мы сходились на палубе и собирали вокруг себя множество любопытных. Некоторые члены команды, сами недурные фехтовальщики, принимали участие в наших экзерцисах. Скоро это уже вошло в привычку, и почти всё свободное место на палубе покрывали азартные бойцы. В воздухе в это время висел смех, выкрики, улюлюканье, ругательства почище тех, какими одаривали солдаты революции своих знатных недругов, таща их под гильотину. Всё это, впрочем, была веселая игра, среди нас немного бы нашлось настоящих воинов – всё больше молодежь, вышедшая благодаря бурным событиям на родине из-под опеки родителей и церкви и пустившаяся в авантюру, не представляя себе хорошенько, что такое гром сражения.
Вот там-то, на этой скользкой палубе, столкнулся я еще с одним человеком, и если свидание с Брюшоном в полумраке портового кабака круто изменило мою судьбу, то Густав Тревельян – странный чудак, – сам того не желая, заставил ее извиваться еще более причудливо. Густав Тревельян, длинный человек с копной взлохмаченных волос цвета соломы, являлся уроженцем Страсбурга. Мать его была француженка, отец немец, а сам он, после окончания Сорбонны, сделался профессором восточного отделения. Вид он имел неряшливый, нрав не слишком общительный, но, как показало будущее, временами крайне веселый. Он, казалось, ничего не боялся, ибо не подозревал опасности, и ничего вокруг не замечал, так как был глубоко убежден, что предметы, наиболее достойные человеческого внимания, суть именно те, изучению которых он посвятил себя в общем и ради которых ступил на трап «Аванти» в частности. Вечно растрепанный, с неизменным лексиконом в широчайшем кармане распахнутого камзола, он возникал посреди праздной толпы и рассеянным взглядом следил за ходом поединков. Матросы пихали его как будто невзначай – он вежливо сторонился, над ним подсмеивались украдкой – он, приметив это, также улыбался, думая, что так и надо, что он задумался и пропустил какую-то смешную штуку. Иногда и ему предлагали сразиться – он одаривал насмешника таким мрачным выражением глаз, что все хохотали уже наоборот, а незадачливый иронист отступал в смущении. Тревельян был совсем молодым человеком, но в такие мгновения нельзя было определить его возраст. С таким-то лицом шагал он дальше, прочь от ристалища, спотыкаясь о ведра, швабры и груды канатов.
Меня, признаться, с детства завораживали подобные чудаки, быть может по той причине, что я и сам с давних пор мечтал сделаться то ли ученым, то ли священником. Увы, жизнь распорядилась иначе. Мой брат – лоботряс и проныра, которому, казалось, самое место в гуще всех этих бездельников и революционеров, – с годами совершенно переменился, остыл и стал надежной опорой отца. Я же, с младых ногтей замиравший от запаха церкви или при виде публичной библиотеки, вдруг обнаружил в себе такую жажду жизни, такую непоседливость, которая незаметно для меня самого поставила меня на неровную дорожку. Конечно же, ранние желания не испарились без следа и время от времени напоминали о своих правах острыми приступами тоски по несбывшемуся. Потому-то я с некоторым восхищением взирал на служителей науки, по этой-то причине и сутулая фигура Тревельяна вызывала у меня любопытство заодно с улыбкой. Иногда я потихоньку заходил в его каюту, заваленную неписаной бумагой.
«– Что это у вас в сундуках? – кивал я на крепкие ящики.
– Книги, – был ответ».
Слушать его было забавно и интересно. Словно пробуждаясь от сна, где нет места унылой и пресной реальности, вскидывал он умные голубые глаза, откладывал свои занятия и спрашивал, который теперь час. Я же только дивился его предприимчивости и безалаберности: один, без провожатых и слуг, не богатый средствами, он пустился в опасное плаванье с благословения двух-трех известных академиков. Отец его, еще не разоренный революцией и войной молокозаводчик, обозвал сына безумцем и не дал на экспедицию ни одного пистоля. Сам Густав тоже любил это словечко, правда, употреблял его как раз для описания того, что творилось тогда во Франции.
– Всё пройдет, и это безумие тоже, – говаривал он, – а наука вечна.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.