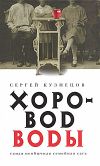Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
– Рады, очень рады, – заговорила она высоким голосом, – я знавала вашего дядюшку. Да-да, – сказала она и поспешно вытерла непрошеную слезу. – Все мы смертны, что делать.
Она носила еще траур по муже, я постарался придать своей физиогномии как можно более скорбный вид, и несколько мгновений мы хранили благоговейное молчание.
– Итак, мы теперь соседи с вами, – слабо улыбнулась Ольга Дмитриевна, – надолго ли к нам?.. Да уж не отвечайте, не отвечайте, знаем мы эту молодежь – в глуши и месяца не выдерживают, скучно, конечно, здесь, что правда-то правда. Зато уж воздух… Простите, мой друг. Эй, Парашка, – возвысила она свой голосок, – чаю принеси нам!
Позади меня чья-то тень быстро пересекла солнечное пятно на полу. Я едва заметно улыбнулся на слова хозяйки и проследовал вместе с ней к круглому столику, за которым предстояло нам чаевничать. Завязалась неторопливая беседа. Потолковали о столичных знакомых, о родне, о всякой прочей чепухе. По временам старушка пытливо на меня поглядывала, стараясь, видимо, отгадать, что мне известно об неприятной этой семейной истории. Подали чай. Его поставила та самая девушка, что попалась мне на глаза у парадного. О тяжбе не было произнесено ни слова.
– Вы уж, пожайлуста, без церемоний, – сказала старушка, подвигая мне чашку. Я было принял ее, но у ней оказалась отбита ручка. Чай был еще горяч, и я не знал, как к нему подступиться. Моя хозяйка подметила это и вызвала Парашку, молча указав ей на чашку. Та зыркнула недовольно, посмотрела на меня с легкой улыбкой и медленно вышла, унося чашку и покачивая бедрами. Я кашлянул несколько раз сряду.
– У нас гости редки, – сообщила мне Ольга Дмитриевна как бы между прочим, – никто не ездит, да и мы поживаем, правду сказать, затворниками. Что ж поделать, – вздохнула она, – видно, отжили свое.
– Да-с, – отвечал я не без смущения, зато уже без всякого такта.
Чашка была заменена, так переговаривались мы, и новую успел я уже опорожнить раз пять, снова и снова наполняя ее дурно приготовленным напитком.
– У нас сад преинтересный, – нашлась Ольга Дмитриевна, когда лакуны в нашем разговоре стали пугающе однозначны. – Покойник муж сам приглядывал, когда разбивали. Садовник из Англии приезжал, да вот мошенник, – хихикнула вдруг она, подвигаясь ко мне и переходя на шепот, – и вовсе не англичанин оказался, а немец.
– Вот оно что, – отвечал я, украдкой озираясь в надежде на то, что ее дочь присоединится к нам.
– А что, смею спросить, – начал я осторожно сворачивать на нужную тропинку, – вы одни изволите здесь проживать?
– С дочкой, сударь, с дочкой, – поспешно закивала головой хозяйка, – одной-то скучно даже в мои лета.
– Что же дочка, не имею чести… – намекнул было я, как старушка прервала меня, замахала ручками и вторично кликнула Парашку:
– Ступай, позови Елену Алексеевну, – велела она, – скажи, новый сосед приехали.
Мы помолчали еще в ожидании дочки. Я уставился на дверь, откуда должна была появиться младшая Сурнева. Вместо нее, однако, развязной походкой вошла Парашка и объявила:
– Занемогли-с, не могут выйти.
– Ну, ладно, ладно, иди, боже ты мой, – с досадой приказала вдова.
– Всегда вот так, – пожаловалась она мне, – когда-то еще порядочный человек пожалует… ну, да ладно. Не угодно ли сад осмотреть? – спохватилась она. – Сейчас, погодите, я провожу вас.
Я с готовностью поднялся. Мы спустились в запущенный сад. Мне то и дело приходилось умерять шаги, поджидая мою хозяйку. Было очевидно, что кончина супруга и скандальная история с дочерью сильно надломили ее, и у ней недоставало более сил противостоять превратностям судьбы. Она на всё махнула рукой и доживала свой век как можно покойнее, а между тем, как узнал я позже, ей едва перевалило за шестьдесят.
Мы не торопясь двигались по садовой дорожке, когда-то усыпанной гравием, а теперь угодившей под власть одуванчиков, как вдруг до меня донеслись звуки расстроенного фортепьяно. Исполнялась печальная соната Скарлатти. Я поднял голову и обнаружил, что одно из окон во втором этаже открыто настежь.
– Кто это музицирует? – спросил я.
– О, да это Елена, кому же еще? Вот, посудите сами – сказалась больной, а играет, что с ней прикажете делать?
Я остановился и не отрываясь смотрел в окно. Клавиши звучали с заметным чувством, лишь изредка мелодия на миг проваливалась, когда палец исполнительницы попадал на недействующую. Но вот последнее crescendo[9]9
Музыкальный термин, обозначающий усиление звучания (итал.).
[Закрыть] достигло финального аккорда, и все стихло. За кисейным занавесом розовым пятном промелькнула женская фигура. Мне почудилось, что исполнительница грустных сонат за нами наблюдает, и я отвернул голову. Пора, однако ж, было откланяться – дело шло уж к вечеру, а отужинать мне не предложили, зато Ольга Дмитриевна просила на прощанье:
– Вы уж будьте любезны, заезжайте к нам, не стесняйтесь, навещайте нас, в самом деле. Allez nous voir, quand vous voulez. Il n'y a rien de mal aprês tout[10]10
Заезжайте к нам, когда захотите. В этом, право, нет ничего дурного (фр.).
[Закрыть].
Это был еще один осколок времени, ушедшего прочь.
* * *
Через неделю я возвращался из уезда и остановил кучера на знакомом уже повороте. Дорога уходила за молодые елки. «Не заехать ли?» – подумал я и приказал править в Сурневку.
* * *
К моему удивлению, мне опять были рады. Всё было, впрочем, как в прошлый раз, и потому немного скучнее: снова мне подали чашку с отколотым краем, опять виляла бедрами бедовая Параша, и фальшивое фортепьяно обдавало меня издалека крепко настоенными страстями. Но, главное, я был оставлен ужинать и увидал наконец Елену Сурневу. Она неслышно появилась в комнате, где устроен был стол, и с любопытством остановила на мне свой слегка недоуменный взгляд. Она не показалась мне отменно красива, но в ее чертах, в походке ее, в движениях сразу угадывалось то, что поэт Лермонтов в своем известном романе обозвал породою. Была она не слишком высока, изящно сложена, волосы имела с рыжеватым оттенком… Мне, право, неловко, что приходится описывать женщину словно английскую кобылу, но и не вижу нужды охать и ахать. Эти возгласы всё равно никому ничего не пояснят. Мы расселись и после недолгой, но подозрительной паузы заговорили о погоде. Впрочем, и это было оправдано, ибо вечернее небо было наглухо обложено тучами и расходившийся ветер буквально резал сонный сад. Говорили всё больше Ольга Дмитриевна и я, Елена же хранила безразличие так же надежно, как царствующие дома берегут свои тайны. Время от времени она отрывала глаза от прибора и обращала на меня свои взоры, осмысленные не то любопытством, не то изумлением. Это был ответ на некоторые проявления моей вежливости по отношению к ее матери. После ужина случился замечательный эпизод. Речь коснулась до музыки, и я, набравшись смелости, похвалил ее манеру.
– Да, да, Лена любит музицировать, – спохватилась Ольга Дмитриевна, – Леночка, дружок, сыграй нам что-нибудь… ну, к примеру… – растерялась она и вздохнула, – только инструмент у нас расстроен.
«Не один он», – подумал я и предложил неожиданно для самого себя:
– Не угодно ли, я привезу настройщика из Калуги?
– Ну, что́ вы, что́ вы, голубчик, не стоит труда, – нерешительно произнесла Ольга Дмитриевна и вопросительно взглянула на дочь.
– Отчего же не стоит? – насмешливо отвечала та. «Ого, – отметил я. – Для начала неплохо».
* * *
На следующий же день настройщик был доставлен. Елена закусила губы и следила за его работой с недоумевающей улыбкой.
– Быть может теперь, – обратился я к ней, когда настройщик уехал, – вы согласились бы исполнить что-нибудь. В благодарность за труды, – добавил я с поклоном. Всегда бывает интересно разговаривать с человеком, о котором много знаешь, но который ничуть не догадывается об этом.
– Выпьемте лучше чаю, – предложила она.
– Извольте.
Принесли чай.
– Матушка мне сказывала, – спросила вдруг она, – что вы служили в гвардии?
– Да, в лейб-гусарах, – отвечал я с возрастающим любопытством.
– Вы, верно, знали Вольдемара Неврева?
– Д-да, – слегка запнулся я, – как будто я припоминаю.
– Это товарищ моего детства, – поспешно сказала она и покосилась на мать. – Мы росли вместе.
– Вот как.
– Да, Вольдемар – сирота, и покойный батюшка опекал его. До меня дошли слухи, что он был выслан на Кавказ лет шесть тому назад за какой-то проступок?
– Пять, – возразил я. – Но ему не суждено было вернуться. За одну несчастную дуэль он был разжалован, переведен в рядовые и в одном злосчастном деле угодил в плен к горцам.
– О боже, – невозмутимым голосом произнесла она. – Матап, вы слышите, Вольдемар Неврев в плену.
Старушка встрепенулась и перекрестилась. «И только? – подумалось мне. – Бедняк, бедняк, он не удостоился даже вздоха сожаления».
– Ах, – молвил я, – он любил, любил безответно… Эта любовь погубила его.
Елена пристально посмотрела на меня.
– Вам известно, кого он любил?
– Нет, я не знаю… Но хотел бы взглянуть на ту, которая оказалась недостойной подобного чувства.
Ничто не изменилось у ней в лице после этих слов.
– Какой вздор вы говорите, – заметила она. – Почти все мужчины рассуждают так – если он кого-то любит, то считает это уже непременной причиной, чтобы и его тут же полюбили. Вы ведь знаете, как говорят: сердцу не прикажешь. Да и нужно ли это делать?
– Может быть, вы и правы, – махнул я рукой, – теперь ему уж всё равно.
– Всё равно?
– Именно. Жив ли он вообще? Кто знает…
– Может быть и жив, – задумчиво проговорила она. – Тем людям, у которых судьба отнимает всё, обычно она дарует долгую жизнь.
– Сомнительное благо, – усмехнулся я, – когда жизнь пуста.
– Только жизнь и ты, – продолжила она задумчивым своим голосом. – Не правда ли, пленительное сочетание?
– Не берусь судить, – почти зло откликнулся я.
* * *
Спустя дней десять я снова был в Сурневке. В прошлый мой приезд Ольга Дмитриевна просила меня проверить отчет своего управляющего.
– Уж такой разбойник, – сообщила она печально.
– Помилуйте, да зачем же вы держите такого? – возмутился я.
– При покойном муже всё бывало строго, – сказала она вместо ответа.
Я покачал головой, но обещал разобраться. Между тем, о нашей тяжбе – молчок.
Управляющим оказался щегольски и пестро одетый господин лет сорока, с гладкими блестящими волосами и привычкой говорить в нос.
– Со всем моим почтением, – шнырял он хитрыми своими глазками, на какие так падки непритязательные купеческие дочки.
Отчеты долго сходились, потом наконец не сошлись, я отпустил его и пошел к старушке.
– Его вон надобно гнать, – сообщил я ей свое мнение.
– Как это однако решительно, то что вы говорите, – испугалась та.
– Ну, как угодно, madame.
Я понял, что здесь мне не добиться толку, и отправился к Елене.
– Видите ли… – я отвел ее в сторонку, но не знал, как начать, спотыкаясь об ее недоуменно-насмешливый взгляд, – коль скоро матушка ваша… так сказать, просила моего содействия… так я не пойму, право…
Наконец я собрался и как можно мягче изложил суть дела.
– Елена Алексеевна, для вас не секрет, конечно, что Ольге Дмитриевне тяжело управляться с делами, в ее-то годах, но вы-то могли бы, наверное… негодяй обкрадывает вас безбожно.
– А-а, – протянула она и отошла к окну, – вот вы о чем… А можно, я вас спрошу? – повернулась она.
– Что за вопрос?
В ее голосе я не уловил подвоха.
– Отчего вы не боитесь бывать у нас? – без тени улыбки проговорила она. – Нас чураются, словно прокаженных, и вы, вероятно, знаете причину. В столичных салонах длинные языки, не так ли?
– Я вас, простите, не вполне понимаю, – я изобразил полнейшую растерянность. – Ежели я нарушил… если смел нарушить ваше спокойствие…
– Да нет, – прервала она меня с усмешкой.
«Боже мой, – бранил я себя с досадой, – какой дурак. Зачем надо было лезть».
– Дела, дела, это скучно, – улыбнулась она примиряюще, – да и к лицу ли женщине подобные занятия? – Она помолчала. – Любовь – вот наше призвание, – закончила она со смехом.
– Вы жрица любви? – вновь осмелел я.
– И ни разу, притом, не изменила своему божеству, – она прошлась по комнате.
Я удивленно поднял брови.
– Я хочу сказать – я ни разу не любила.
Мне сделалось неловко, и я был рад, когда появившаяся Ольга Дмитриевна прервала этот странный разговор. Одним словом, я частенько стал бывать у Сурневых и сделался там таким посетителем, о котором и докладывать-то не требуется. Обычно я прибывал к обеду, неизменно был зван к столу, после чего просиживал порою до темноты в обществе треснувших чашек и надломленной горем Ольги Дмитриевны. Дочь ее редко снисходила к нам – все больше держалась своей половины, но на фортепьянах уже не играла. Быть может, мое присутствие смущало ее. Как бы то ни было, меня это трогало весьма мало. Зачем же я ездил к ним? Я тоже задавался этим вопросом.
* * *
Иногда, впрочем, Елена нарушала обыкновенное свое уединение и подсаживалась к матери, прислушиваясь к нашим хозяйственным материям, но в беседе участия не брала. Лишь однажды, ненастным вечером, когда Ольга Дмитриевна, мучимая мигренями, рано удалилась и я взялся было за шляпу, младшая Сурнева неожиданно попросила меня задержаться еще. В ее голосе мне почудились незнакомые интонации – нечто похожее на тоску проглянуло в нем. И точно, в такую непогоду уж очень неуютно ожидать в одиночку, глядя в темное окно, когда на много верст вокруг не видно ни огонька, когда ж сон доберется наконец до тебя.
Я остался.
– Верите ли вы в предопределение? – спросила она, отворачиваясь от мокрого стекла.
– Для чего вы спрашиваете? – несколько удивился я.
– Для того, что любопытно знать суждение.
– Ну, как вам сказать, – заложил я ногу за ногу, сложил руки и задумался. – И да, и нет. Позвольте, я поясню. Ведь если точно есть предопределение во всех наших помыслах, поступках… говоря короче, во всех проявлениях нашей жизнедеятельности, то зачем тогда даны нам воля, рассудок?
– Затем, чтобы сочетаться с судьбой, – сказала она.
– Может, оно и так, – согласился я, – только все равно мы не способны определить это сочетание.
– Зато способны почувствовать.
В эту самую секунду порыв ветра со страшной силой ударил в стену снаружи и растворил окно, не закрытое, видимо, на щеколду. Рама задрожала, зазвенело разбитое стекло, свечи погасли. Елена испустила слабый крик. На шум вбежали люди с огнем. На мгновенье он высветил ее лицо, и от меня не укрылось, как бледно было оно. Несколько времени она стояла неподвижно, скованная какой-то страшной ей мыслью, потом бросилась ко мне, ухватила за руку и жарко зашептала на ухо:
– Уйдемте, уйдемте отсюда, я умоляю вас, скорее, скорее, умоляю вас. – С этими словами она увлекла меня из гостиной в соседнюю комнату.
– Принесите сюда свечей, – истерически закричала она прислуге. Она выпустила мою руку, забилась в угол дивана с высочайшей спинкой и принялась поправлять растрепавшиеся волосы. – Простите меня, ради бога, – через силу улыбнулась она, – мне стало страшно.
– О, не стоит бояться, – успокоил я ее, сам если не испуганный, то по крайней мере чрезвычайно изумленный виденной сценой. Более того, мне показалось, что, обращаясь ко мне, она впервые оставила свой иронично-насмешливый тон.
– Чего же вы испугались? – развязно спросил я.
– Вы не станете смеяться?..
– Как можно.
– Этот ветер… Как будто ответ на те мои слова… Ну вот, что же вы улыбаетесь?
– О нет, нет.
– Скажите откровенно, вам никогда не делалось страшно жить?
– Страшно жить? – хмыкнул я. – Но ведь страх бывает разный…
– Да, да, не продолжайте, я понимаю вас, я говорю не о том, что бывает страшно на войне или на море, нет, я говорю о жизни со всеми ее войнами, смертями, с такими вот порывами ветра, со всем ее сущим. О жизни вообще, – она умолкла.
– Я слушаю вас.
– Да, вообразите, мне жутко, страшно жить. Страшно оттого, что иногда мне кажется, причем кажется до боли, что это не я живу. То есть живу, конечно, я, но в то же время моя жизнь – это пара исписанных тетрадей, содержание которых станет мне известно полностью только в минуту смерти, а есть кто-то, кто знает всё уже сейчас и знал вчера, и позавчера, и тогда, когда я только увидела свет. Знает, потому что сам и сочинял, сам заполнял эти листы. О, это действительно страшно, у вас бывало такое? Бывало? Почему вы молчите?
– Вас слушаю.
– Ведь вдумайтесь, всё, всё предопределено: мне кажется, что это я в соответствии с собственной волей выхожу в сад, а если это было уже задумано тысячи лет назад, до сотворения мира? Если так? Кому же мы служим беспомощными игрушками? Неужели вам не страшно от этого?
Я пожал плечами:
– В конце концов, как говорит Лафатер, конечная цель любого бытия – оно само.
– Я не знаю, кто это – Лафатер. Однако не слишком ли это просто?
– Помилуйте, не проще чем Бог.
– Куда же подевались дерзкие гигантомахи, где могучие богоборцы? Как поскучнел мир! Человек проиграл эту схватку с самим собой.
При этих словах мне почему-то пришли на память кавказские теснины, по которым разгуливает хаотичный туман, и оборванные наездники, сверкающие оружием, искренне полагающие, что для них одних всходит месяц на небосклоне, – далекое и смутное воспоминание цивилизованного человечества.
– Где же наш выбор? – продолжила Елена. – Нам некуда деться, решительно некуда – ни здесь, при жизни, ни там. Здесь тешишь себя мыслью о смерти, а что дает она? Судилище и опять существование. Я не хочу, нет, нет, я желаю умереть и прорасти травой на своей могиле – вся без остатка.
Слушая это, я вспомнил, что уже слыхал нечто похожее от Неврева. «Как странно, – подумал я, – что такие родственные души не поняли друг друга». В подтверждение моих мыслей она продолжила так:
– Мы даже не вправе выбрать и то, из чего эта жизнь состоит. А между тем, как мало у ней составляющих! Сон, да еда, да любовь, да война, стремление к власти…
– Пороки и страсти, – со смехом закончил я. – Боятся те, у кого имеется на это причина. Что за причина у вас? Вы рассуждаете, как закоренелая грешница, – заметил я.
– А помните вы анекдот, когда человеку вручили глобус и попросили указать то место, где бы он хотел жить на земле?
– Нет. И где же?
– Он попросил дать ему другой.
Я расхохотался, и она тоже сделалась повеселей. Было уже поздно, и я остался на ночь, тем более, что за окнами стояла стена дождя. Мы говорили еще с час, пока она не успокоилась вполне, после чего Параша проводила меня в приготовленную мне комнату. Я шел за ней в нижний этаж – она то и дело оборачивалась ко мне на секунду и едва заметно улыбалась. Один раз она остановилась внезапно, выронила свечу и нагнулась нащупать ее на полу. От неожиданности я натолкнулся на нее… Не знаю, нарочно ли она сделала это или вправду споткнулась, но только когда я поутру вышел из комнаты, она бодро прибиралась в людской. Едва я показался в дверях, она подняла на меня румяное лицо – оно было свежо, как будто и не бывало для нее бессонной ночи, а глаза ее смотрели так же дерзко и неукротимо, как и в первый мой приезд.
Я уехал не простившись. Погода успокоилась – было солнечно. Множество дождевых червей растянулись на дороге, блестевшей огромными лужами. Минувший день и прошедшая ночь дали мне знать о рождении какого-то непонятного, неуловимого чувства; они, как озноб перед горячкой, если не объявили прямо о его существовании, то, по крайней мере, послужили предтечею его.
Целый день я просидел у себя в кабинете, не снимая халата, затем выпил вина и к вечеру отправился к одному из своих соседей – отставному поручику Хруцкому, у которого не было ни одной дочери, зато на дворе резвились десятка два борзых.
* * *
Хруцкий был пожилой уже вдовец, страстный охотник и еще больший охотник выпить. Два его сына служили где-то в армии. Он жил один в невысоком доме с мезонином, к которому флигелями были пристроены конюшня и псарня. Хозяин вышел встретить меня на крыльцо, но до тех пор, пока не показал всех своих собак, в дом мы не попали. Впрочем, в доме всё это повторилось – теперь только не собаки, а наливки должны были стать предметами моего внимания. Я нахваливал и разглядывал убранство залы, где мы помещались на древнем диване. Внимание мое привлекли прекрасные картины, украшавшие простые стены. Эти полотна, забранные в роскошные золоченые рамы, откровенно противоречили грубой деревенской мебели: хромым стульям с обветшалой обивкой да потрескавшимся от старости шкапам. Особенно приковал мой взгляд один портрет, изображавший женщину замечательной красоты. Неведомый живописец расположил женщину в креслах, на колени ей посадил ребенка – мальчика лет десяти, в кружевной сорочке и атласных панталончиках. Я подошел поближе к портрету: темные волосы и восточные глаза, легкая смуглость лица неизвестной давали понятие о свежей красоте Азии. Вместе с тем, в лице мальчика почувствовал я нечто до боли знакомое.
– Откуда у вас этот портрет? – спросил я своего хозяина.
– Портрет? – он оторвал губы от стопки. – Портрет, хе-хе… Все эти картины суть трофеи отставного поручика Н-ого полка Хруцкого, добытые непосильными трудами на полях сражений.
Хруцкий, видя мое недоумение, довольно посмеивался.
– В польскую кампанию, – пояснил он, – случилось мне быть в действующей армии, вот я и воспользовался выгодами, какие нам доставляет война.
– Но позвольте, не в обозе же всё это возили?
– Эх вы, молодежь, – обиделся вдруг он, – молодо-зелено, понапридумывали себе моралей, всё по Европам их вымениваете на отцовские-то денежки, а вы спросили, откуда эти денежки? То-то…
– Да помилуйте, – опешил я, – и в мыслях не было…
– Зачем, батюшка, добру пропадать? – не дал он мне договорить. – Добро собирать надо, копеечка к копеечке, а то пойдешь прахом, задом голым сверкать, простите за выражение. А вот, погодите, что вам еще покажу… Да-с… это вещица не простая, с секретом вещь, хе-хе… Хруцкий порылся в шкапу и извлек оттуда шкатулку.
Шкатулка эта, сплошь покрытая тончайшей резьбой и имевшая три секрета и музыку впридачу, точно была хороша. Я повертел ее в руках и поставил на стол.
– Однако, Иван Иваныч, скажите, пожалуйста, как очутились у вас эти картины?
– Что, нравятся картины? Не картины – полотна-с, – удовлетворился Хруцкий. – Да что о них толковать, давайте я вам лучше щеночков покажу от Белки.
– Обязательно, но сперва про картины расскажите.
Было видно, что ему страх не хочется говорить ни о чем, что не касалось бы до его собак, но я проявил настойчивость, и он, скрепя сердце, начал так:
– Во время последней кампании, сударь мой, находился я со своим полком в Польше. И в сражениях участвовал, всякое бывало. За это имею Станислава четвертой степени, да-с… Ну да вам про картины эти знать приспичило – извольте. Как-то раз получаю приказ – со своей ротой поступить в распоряжение к жандармскому полковнику Краснову. Я, знаете, не люблю жандармов, ну а поляков еще больше. Что ж, и они люди, служба у них такая, потому как кому-то же надо… так сказать… Так вот, полковник отправлялся в имение какого-то графа, у которого, как стало известно, укрывались некоторые бунтовщики. Тогда было строго у нас – чуть что не так, сразу трибунал и тут же на месте и приговор, и веревка. Вот отправились – осень, погода дрянь, дороги развезло, как и у нас не бывает, пока добрались, всё прокляли. Ну, заходим в дом с Красновым. Он – так и так. Встречает нас хозяйка, красивая такая панночка. Никого, говорит, паны офицеры, у нас нет и быть не может, и всё в таком духе. А то признается? Ну, мы солдат позвали и давай везде искать. Она смотрит злобно – сразу видим, что не зря стараемся. Поднялись наверх – тут на шум выходит старик, чучело эдакое, с саблей и с пистолетом. Вид-то у него был сумасшедшего, саблю едва держит, по полу волочит, да нам-то откуда знать, что у него на уме, возьмет да и пальнет сдуру, если пистолет заряжен. Панночка эта, как его увидела, руки заломила. Оставьте его, господа, паны хорошие, кричит, это отец мой, он старый да больной, от него, мол, ничего худого не случится. Краснов ей говорит: так-то так, мадам, но оружие отнять у него надо. Какой там! Началась возня. Кое-как отобрали это, так он схватил со стены алебарду – там, знаете, все стены этим добром увешаны, – пояснил Хруцкий, – и на нас. Ну-с, тут уж пришлось взять меры самые строгие. Пока мы с ним канителились, снизу прибегает фельдфебель. Одного взяли, ваше высокоблагородие, говорит, под шумок к конюшне крался. Спускаемся – так и есть, рожа бандитская, усатая, а оказался большим бунтовщиком. Пошли опять к старому графу. Я Краснову-то говорю: «Старик-то и вправду на ладан дышит, пускай его», – а тот ни в какую. Если укрывал, говорит, повезем его с собой, и дочку с собой. А уже казаки лошадей принялись из конюшни выводить во двор. Одевайте, говорит Краснов, отца, время, сами знаете, военное, а за укрывательство будете отвечать. Тут она возьми да и скажи: «Вы не имеете права, полковник, ничего со мною сделать, потому как я веры православной и замужем за русским князем… (вот фамилию не припомню, но известная), – поморщился Хруцкий, – а он, князь, близок к великому князю Константину, и вы подумайте хорошенько, а муж мой вскорости будет здесь». Гляжу, полковник мой и впрямь призадумался. Вопросы какие-то задает, та отвечает бойко, только он всё равно на своем стоит. Вы, говорит, оставайтесь, а отец ваш поедет с нами… – Хрупкий хватил стопочку, облизал варенье с ложечки и вздохнул:
– Говорил я ему, ну что́ бы старика полоумного в покое не оставить, – нет, уперся и все тут. В общем, умер граф в своих кабинетах. Мы всё спорим, а он уж с полчаса как Богу душу отдал. Дверь открыли – сидит за столом. Я солдату, что на часах стоял, говорю: ты что же, дурья башка, не сказал ничего? А ему что – только глазами хлопает. Как панночка это увидала, так что с ней сделалось, я не могу описать… Но вы пейте, батюшка, наливку, ей-богу хороша… А картины-то я из огня уже вытащил вместе с солдатами, да еще кой-что. Что успели, – Хруцкий вздохнул.
– Из огня? – переспросил я.
– Из него, – согласно кивнул он. – Сгорел весь дом. Да и дом-то был: то ли дворец, то ли замок, у нас-то этак не строят. Вот, изволите видеть, когда всё это случилось, гляжу, проходит в кабинет ксендз, отмыкает стол и достает какие-то бумаги. Я обязан был осмотреть, ну и доложил Краснову. А Краснов-то с ксендзом с этим приветствуется как с знакомым. Я, оно и понятно, удивился и стал прислушиваться, о чем они говорят. Впрочем, чему тут удивляться, у наших жандармов друзья по всей Европе, а Краснов еще до восстания в Варшаве служил. Говорили-то они по-французски, а я, знаете ли, только и помню, что се cheval п'a jamais été monte…[11]11
Недурна лошадка (фр.).
[Закрыть] да Messieurs, la vodka est charmant[12]12
Господа, водка – прелесть (фр.).
[Закрыть].
Ну да любопытно было, я уж поднапрягся, тогда помоложе был, кое-что уразумел. Молодец-то этот достал ведь графское завещание, а по нему выходит, что всё имение, каким граф владел, идет местной епархии. Краснов же ему говорит, что граф, как укрыватель, есть государственный преступник, и по повелению государя императора всё должно отойти в казну. Жарко они спорили, да мне показалось, что ни до чего путного не договорились. Вскоре после этого и занялось.
– Кто же поджег? – спросил я.
– Темное дело, батюшка, темное… – задумался Хруцкий, – вроде как ксендз этот с досады, что добро от него уходит. Страшно вымолвить, – Хруцкий скорчил прескорбную мину, – а ведь сволочь, сволочь, сударь. Я-то сам не видал, ну, а казаки двоих поймали. Те на попа и кивнули, что, мол, он велел. Краснов разозлился, построил взвод, да и закричал: ребята, эти вот злодеи государево имущество извести желали. Тут же их поставили да и дали залп.
– Что́ вы такое говорите? – возмутился я.
– Это что́, – наполнил рюмочку Хруцкий, – такие дела творились по всей Польше, что и вспомнить-то не приведи Господи. – Он торопливо перекрестился и продолжил так:
– Однако ж, еще кое-что было. Что успели, повытаскивали из огня, я коляску доверху набил. Всё равно крестьяне бы растащили, а у меня, посудите сами, жалованья кот наплакал. Уж собрались было трогаться – пальба. Что еще такое? Оглянулся – мальчишка стреляет с седла. Вот ведь какой народ! Сопляк сопляком, а туда же. Наших он никого не задел – ружье-то, видно, тяжеловато ему было. Но на лошади хорошо держался, казаки пустились за ним, а он в чащу, да и был таков. И то сказать, конь какой под ним был. Казачки наши чуть не плакали с досады. Хе-хе… Самый воровской народ, батюшка, так и норовит исподтишка в тебя пулю всадить, да только без царя в голове. Между собой ужиться не могут, а туда же – бунтова-ать…
– А скажите, – перебил я в нетерпении Хруцкого, – не эти ли люди здесь изображены?
– Не знаю, сударь, – после некоторого раздумья отвечал тот. – Может быть, и они. Тот-то парень постарше был… да, постарше…
– Что́ с того? Портрет мог быть ранее написан, не правда ли?
– Ах, не помню я, вам-то что за дело?
– Да какое уж тут дело, – так, любопытство одно, – отговорился я. – Ну, а что с графиней сталось? Не сгорела ли она?
– Никак нет-с, мы с женщинами не воевали, вытащили ее, как только загорелось. Люди ее и вытащили, – удовлетворенно крякнул он.
– А что́, Иван Иваныч, – решился я наконец, – не продадите ли мне этот портрет?
– Этот портрет? – выпучил он глаза. – Да помилуйте, на что он вам дался. Вам, сами изволили сказать, баловство, а для меня воспоминание… Впрочем, извольте, за двести рублей уступлю…
Деньги, к счастью, были со мной.
– Да и что за народ, посудите сами: хохлы не хохлы, наш брат – славяне, а туда же, за Европой тянутся, кости ловят, объедки подбирают… Ох уж эта мне Европа… вся зараза оттуда идет… – бормотал он, пересчитывая ассигнации.
– Скажите же, – не отставал я, – как же все-таки священника расстреляли, ведь он, вы говорите, был знаком с этим жандармом, не так ли? Не было ли личных каких причин?
Хруцкий снова выпучил глаза и тупо на меня уставился:
– Были, не были, я в эти дела не вникал. Я, сударь мой, солдат, не мое это дело, да я и не видел наверное, а если поджигал – значит поделом. Вы поляков не знаете – такой уж народ. Всего ждать можно-с. Думают, что из золота сделаны, а сами… Однако пойдемте щеночков смотреть, а то уж ужинать пора…
* * *
Наливки моего соседа оказались удивительной крепости, так что я возвращался пьяный и злой. Хозяин был отличный человек, но имел буквально обо всех предметах столь странное и однозначное суждение, выражавшееся глупым хохотом и протяжными междометиями, что я с ужасом представил себе утро в его благодушном обществе и не поддался на уговоры остаться. Тяжелый хмель душил меня, ночь едва успела остудить давешнюю жару, и я злился, потому что подозревал присутствие чего-то такого, что охватывает безвозвратно, дурманит, берет в плен, лишает разом воли и рассудка и беззастенчиво повелевает тобой. Я был обречен и видел это со всей очевидностью, пока еще являя собой шавку, которая в неистовстве и бешенстве бросается на человека с дубиной, но уже дубина как будто начинала давать воспитательные плоды, и приходилось подчиниться. Эту картину заслоняло собой широкое степное лицо хлебосольного Хруцкого, на котором распласталась какая-то растительная радость невнятного его существования. «Дурак, не поеду больше к нему», – решил я, проваливаясь в постель не разоблачившись как следует. «Но все-таки, – припомнилось мне, – конечная цель любого бытия…» Возвращение в мир тревог оказалось тернистым – я был мокрый, как мышь, голова не отрывалась от подушки. Я спросил рассолу и провалялся до обеда, проклиная белый свет и его составляющие – почти как Елена Сурнева. Однако всемогущее чувство было тут как тут и помешало мне явиться к столу растрепанным и в халате. Я хмурился, поглядывал исподлобья на прислугу, топил ложку в густом борще, но стоило на секунду забыться, как я буквально растворялся в легких и захватывающих мечтаниях. «О подлец, – сетовал я на себя, – осквернитель дружества, почти Эдип». Но эти оскорбления только добавляли веселья. К вечеру я попытался сбежать от себя в наш уездный Н., однако влюбленный alter ego[13]13
Двойник (лат.).
[Закрыть] не отставал ни на шаг и вместе со мною таращился на кокетливые шляпки в магазине madame Пичугиной, в котором не было вовсе покупателей, зато было много мух, бродил по немощеному бульвару под взглядами маменек и дочек, – взглядами стремительных неудержимых как атака кавалергардов при Аустерлице. Потянулись дни, отмеченные борьбой, а также тайным моим стремлением потерпеть поражение. По утрам я взбирался на стены своей крепости, при дневном свете казавшейся мне неприступной, и лил с высот на неприятеля потоки кипящей смолы и брани, ночью же украдкой выносил в собственном плаще землю из подкопа, через который и намеревался перебежать к врагу, зовущему меня неведомым зовом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.