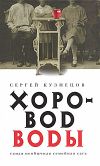Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Как-то раз мать собрала две корзины чужого белья и отправилась его мыть к берегу Навии. Я помогал матери и тащил одну из корзин. Дело было утром, и по пути нам с матерью встретилось много людей. Когда мы проходили мимо трех женщин, сидевших на балконе какого-то дома, я услыхал, как одна из них проронила остальным: “Глядите, и мальчишка грязный, как чертенок”. До нашего появления женщины весело щебетали, а когда мы приблизились, они умолкли и стали пристально нас разглядывать. Это не укрылось от моего внимания, когда я изо всех сил задирал голову и тянул шею, чтобы полюбоваться нарядными уборами этих женщин и постараться разглядеть, что за лакомства расположились перед ними на ореховом столике. Я понял, что они обсуждали мою мать, склонившуюся под тяжестью корзины. И впрямь, для них, сокрытых от палящего солнца полотняным навесом, мы казались неплохим развлечением. Растрепанные волосы матери, на лбу вспотевшие от пота, наши босые ноги и мои рваные обноски – в общем, было на что посмотреть. Их насмешки внезапно привели меня в такую ярость, что я уже хотел поставить корзину и забросать их камнями, на что я был большой мастер, но я видел, что мать ничего этого не заметила и спокойно шагала дальше, и я благоразумно решил не огорчать ее таким легкомысленным поступком.
Презрение людей впервые довело меня до дрожи, и это был единственный хороший помысел и поступок в моей жизни – праведный гнев за обиженную мать. В каждом человеке отныне я видел врага и поклялся в ответ на презрение и насмешки мстить всеми способами, какими только смогу. Сцену эту я запомнил надолго, в тот же вечер набрал камней и разбил целых четыре окна в том гадком доме. Пока там носились со свечами и причитали, я дал тягу, но споткнулся о камень и повалился на булыжник. За это время из дому успели выскочить слуги с факелами, и очень скоро они меня заметили. Я, хотя и сильно расшибся, бежал во весь дух, не замечая, что ступни уже кровоточат. Проклятые слуги не отставали, и я оглядывался назад, по свету факелов определяя в темноте близость погони. Так мы пробежали целый квартал, и сначала я, а потом и они очутились на самом берегу Навии. Я добежал до моста и поспешно перебрался на ту сторону реки – факелы вытянулись цепочкой и продолжали преследование. От моста я повернул налево и несся по направлению к коллегии иезуитов. Через мгновение я оказался у самой ограды и вдруг с удивлением увидал, что в створке приоткрытых ворот мелькают огоньки. Это на секунду возбудило мое любопытство даже в том плачевном положении, в котором я вот-вот должен был очутиться. В другое время я, может быть, и испугался бы еще больше, зная, что коллегия необитаема, но в ту минуту страх перед расплатой земной пересилил страх того, чего и сам толком не знаешь. Одна половина стены уходила по-над обрывом, а вдоль другой двигались свирепые слуги, так что бежать мне было некуда и раздумывать некогда. Я толкнул дверцу в воротах и прошмыгнул внутрь, не забыв накинуть засов. Только я повернулся, как перед собой увидел высокую фигуру в сутане. Я оцепенел и приготовился было к самому страшному наказанию, но священник молча стоял против меня и прислушивался к громкой брани моих преследователей, которые метались снаружи, не понимая, куда я подевался. Наконец они тоже заметили свет и забарабанили в ворота. Он сообразил, что ищут меня, и жестами приказал мне скрыться в доме, а сам подошел открыть ворота. Я пробрался в патио и спрятался под куст сирени. Некоторое время я ждал, а потом послышались шаги и низкий мужской голос сказал: “Эй, чико[18]18
Мальчик (исп.).
[Закрыть], они ушли. Можешь и ты идти”. Странный священник вывел меня за ворота и погладил по голове, и я в самом деле увидел, что огни факелов уже порядком удалились. Я осторожно пошел за ними, опасаясь какой-нибудь засады, но, к моему удивлению, никакой каверзы не случилось. По дороге домой я размышлял об этом, на мой взгляд, удивительном поступке того священника, и это разгоняло грусть, которая еще владела моей душой. Этот человек был первым после моих отца и матери, кто сделал мне добро и сказал ласковое слово, и этим немало меня изумил. Я присел на берегу реки и, привалившись к стволу акации, любуясь торопливым бегом вод, посеребренных луною, долго еще размышлял в темноте, почему так непостижимо устроен мир, отчего в нем есть богатые и бедные, по какой причине богатые не любят бедных и кем всё-таки лучше быть – бедным или богатым. Желание тех слуг разделаться со мною я находил чудовищно несправедливым, если принять во внимание главный мотив моего нападения на этот дом, и в то же время я ощущал, что в нашем городке, да и на всем свете нет такого человека и такой силы, которые бы смогли не только оправдать мой поступок, но и каким-либо образом заступиться за меня не из одной лишь любви к маленьким детям, но и из незыблемого пристрастия к правде, заступиться так, чтобы и моим обидчикам стало ясно, что наказывать здесь следует не меня, или, по крайней мере, не одного меня, и чтобы они и не смели на это возражать, а молча и покорно склонили свои головы. Но таинство скрупулезной справедливости было не чем иным, как безграничным, благоуханным пониманием, а всё понять – значит всё безоговорочно простить; всепрощение же и есть акт творения, извечное таинство, препона богословского ума, ибо Господь создал мир и прекрасным и грешным сразу. Загадочный священник тоже занимал мои мысли, и я со смешанными чувствами вспоминал его лицо, прикрытое капюшоном, из-под которого устремляли свои лучи два черных и внимательных глаза. Священник не носил ни усов, ни бороды, и на подбородке у него я заметил косой шрам – как будто от удара кинжалом. Я тут же подумал, что этот шрам добрый священник получил тогда, когда заступался за бедняков – такая мысль показалась мне почему-то наиболее правдоподобной.
На следующий день чуть свет я уже был на ногах и отправился на берег Навии, откуда вся коллегия иезуитов была видна как на ладони. К своему удовольствию я различил веселые утренние дымы, устремившиеся к прозрачному небу из много лет бездействовавших унылых труб ее построек. Убедившись, что там действительно поселились люди и мое приключение вовсе не сон, я побежал к отцу и всё это ему рассказал. Отец отхлестал меня толстым ремнем, а потом спросил: “Не было ли у этого священника весьма заметного шрама на подбородке?” – “Был”, – ответил я и даже обрадовался сам не знаю чему. Услыхав такое, отец воздел руки к небу и сказал: “Неужто отцы-иезуиты снова вернулись?” Больше сказать мне было нечего, и я опять выскочил на улицу, а отец пошел сообщить новость соседям.
С тех пор я частенько бегал послоняться к стенам коллегии и поглазеть на ее обитателей. Я мечтал встретить того памятного священника, но там было много всяких людей в монашеских одеждах, так что мне сложно было не ошибиться, и несколько дней я провел даром. Зато отец принес вот какие известия: бывшие владения иезуитов заняли теперь редемптористы, монахи из ордена Искупителя, и поговаривали, что орден этот приходится запрещенному ордену иезуитов чем-то наподобие младшего брата. Также отец узнал, что старшим профессом в этой конгрегации состоит брат Иероним, которого многие помнили как иезуита Франциско де ла Пенья. Однажды в полдень я столкнулся с Иеронимом, когда тот выходил из стен коллегии. Он узнал меня и несколько времени ласково со мной беседовал о всяких пустяках. Я осмелился передать ему, что отец мой испытывает к нему неизменное уважение и преданность, но он приложил палец ко рту и удалился. Он показался мне чуть старше отца и окончательно пленил меня своей добротой и обхождением.
После этой встречи я уже не боялся Иеронима и то и дело вертелся неподалеку от коллегии, а иногда проскальзывал внутрь в неплотно затворенные ворота, находил его, и он, если не был занят, всегда дарил меня своим вниманием, милостиво со мной разговаривал, гладил по спутанным волосам и пару раз, заметив мой вечно голодный вид, угостил меня хлебом и плодами, и я разделял эту трапезу вместе с другими монахами. То обстоятельство, что я преспокойно вкушаю яства взрослых серьезных людей заодно с ними и никто из них не выказывает ни малейшего признака изумления и не находит это удивительным, наполняло меня гордостью. Наши мальчишки, видя, что я как ни в чем не бывало захожу к редемптористам и спокойно там разгуливаю, не на шутку призадумались, я же ликовал. В самом деле, я, привыкший получать от людей одни лишь пинки и тумаки, да выслушивать грубые окрики, вдруг удостоился такой чести.
Торжество мое вскоре еще более усилилось, когда Иероним поручил мне сопровождать осла, возившего с городского базара фрукты для монахов. Торговцам было заплачено далеко вперед, и в мои обязанности входило только погрузить плоды в корзины, как следует их приторочить и погонять упрямого ослика до коллегии. Мальчишки зеленели от зависти, совсем как недозрелые лимоны, а я гордо и независимо вышагивал впереди животного, которого вел в поводу. Сложно отыскать в моей жизни более блаженных минут, чем те, проведенные с ослом. В благодарность за мой труд мне позволяли заходить в трапезную, где кормили вкусным обедом. Отец и мать не знали, как им на меня нарадоваться, и желали Иерониму всех возможных благ. Им, конечно, совсем нечем было отблагодарить мягкосердого брата, но не есть ли доброе слово бедняка уже некая материализовавшаяся благодать? Однажды я собрал у себя за пазухой остатки своей скромной, но вполне заслуженной трапезы, решив поделиться со своими родителями. У ворот меня увидел Иероним и спросил, что я такое несу, скрытое от взоров. Я показал ему и пояснил не без робости: “Вот этим сочным персиком я хочу угостить мать, а вот этим спелым яблоком надеюсь порадовать отца”. Иероним, услыхав такой ответ, погладил меня по голове и сказал: “Ты поступаешь совершенно правильно, мой мальчик, ибо на самом деле в этом мире мы никому по-настоящему не нужны, кроме своих родителей и самого главного из них – Отца нашего небесного. Иди и делай свое дело”. Похвала столь почитаемого мной человека еще более уверила меня, что я нахожусь на верном пути. Это происшествие придало мне смелости, и как-то раз я улучил минутку и поведал Иерониму, по какой причине в ту памятную ночь слуги хотели расправиться со мной. Я желал узнать из его уст, правильно ли я сделал, что побил окна в отместку за свою мать. Иероним все это выслушал очень внимательно и сказал: “Злом ты ответил на зло, но ты поступил вполне справедливо, потому что действовал необдуманно, повинуясь влиянию благородного порыва. Если бы ты немного поразмыслил, то, возможно, ненависть и вышла бы из твоего сердца. Но ты ведь не желал зла этим людям, пока они не причинили его твоей матери, а поэтому и тебе… Возможно, возможно… Это великое слово – возможно. Ты гоним, а истина, запомни, всегда на стороне гонимых, но только до тех пор, пока они сами не добираются до вершин власти и не начинают гнать прочих, – добавил он. – Гонимы ныне и мы, потому-то и предпочитаем править миром тайно, чтобы постоянно иметь своим союзником правду”. – “Кто это мы?” – переспросил я, однако брат Иероним в который раз с улыбкой приложил палец к губам и оставил меня. Я плохо понял тогда, что он хотел этим сказать, но главное я себе уяснил: оказывается, у меня и у загадочного Иеронима имеется некое родство.
А вскоре Иероним, довольный моей смышленностью, предложил мне учиться грамоте в школе, которую устроили у себя редемптористы. Я даже и не знал, как сообщить такую радостную новость у себя дома. Редемптористы не требовали никакой платы, а у родителей моих, конечно, никогда бы не нашлось средств, чтобы заплатить за обучение какому-нибудь писарю. Вдобавок Иероним стащил с меня мои безобразные лохмотья и переодел в старые, но вполне сносные вещи, которые монахи отыскали у себя в кладовых. Отныне я красовался в черной одежде послушника, и у меня появились чулки и крепкие башмаки, и сам себе я казался настоящим щеголем. Соседи наши, видя такие непонятные им превращения, стали куда любезнее здороваться при встрече с моими родителями и не запрещали больше своим отпрыскам проводить со мной время, но я уже не искал в них. Науки необычайно меня увлекли, я проявлял старание и не в долгом времени порядком преуспел – к несказанной радости родителей и к удовольствию брата Иеронима. Однажды я завел с Иеронимом разговор об иезуитах, чей образ по-прежнему занимал мой ум. Вот что ответил мне Иероним: “Орден иезуитов, мой мальчик, – это братство более крепкое, чем любой из прочих орденов, сообщество более могущественное, чем светская власть государей, и зачастую более авторитетное, чем даже святое слово папы. Посмотри вокруг – мы не ждем неверной милостыни, на которую привыкли существовать другие ордены, мы сами зарабатываем для себя средства – во всех портах мира есть наши скрытые торговые и банкирские дома. Никакой другой орден не может соперничать с нами в деле образования юношества, а если коснуться миссионерских усилий, то сразу станет ясно, что именно иезуитам принадлежит первенство и в этой самой нелегкой сфере. Вот уже три столетия, как братья игнатианцы проникают в дебри неведомых стран и в заросли умов, неся с собою веру и справедливость. Братья отрекаются от семьи, чтобы еще преданней выглядело служение их Господу, родина для них – ничто, а чужая воля не более, чем пыль. И все это – ad majorem Dei gloriam[19]19
К вящей славе Господа (лат.).
[Закрыть]. Наша борьба не имеет границ ни во времени, ни в пространстве, ибо Господь создал мир, и отнюдь не заносчивым государям и их буйным подданным он принадлежит по божественному праву. Не скрою от тебя, что последние годы доставили нам множество неприятностей. Один за другим отрекаются от нас короли и министры, братьев изгоняют из тех государств, где вера всегда была незыблемой и где именно мы стояли на ее страже. Но известно ведь, что неблагодарность и зависть – одни из самых цепких людских пороков, поэтому теперь нами пугают детей. Одним приглянулось наше имущество – ну, это старая история, – другим не дает покоя наша слава, а третьи вторят этим из чувства противоречия. Но наша воля всё еще заставляет самого папу склонять выю, а гибкие и тайные пружины наших интриг вводят порою в заблуждение прочих мнимых властителей мира”. Такие слова только разожгли мое любопытство, но очень мало пояснили суть дела.
Миновали три года. Я сделал блестящие успехи и удостоился похвалы самого ректора коллегии. Между тем, родители мои сильно сдали и скоро один за другим сошли в могилу. И здесь Иероним не оставил меня – и мать и отец были похоронены достойно и на средства, которые великодушно выделили редемптористы.
Однажды Иероним позвал меня в свою комнату и попросил оказать ему услугу. Я на всё был готов для него и только ждал, чего он попросит. Он просил самую малость – пробраться в дом дона Диаса де Сагано и как бы невзначай подложить к нему на стол некий конверт. Конверт был тщательно запечатан, и я не знал, что в нем содержалось. Я был ловок, и высота не пугала меня – тем более, что я привык лазать по деревьям. Ночью я взобрался на крышу дома, юркнул в трубу дымохода и без помех исполнил поручение. Через день весь город только и говорил, что о загадочном убийстве нашего епископа Васкеса, которого слуги нашли заколотым навахой прямо в собственном кабинете. Епископ был молод и хорош собой, не считал за большой грех строить глазки хорошеньким сеньорам, вовсе не имел недоброжелателей, а имел сильную протекцию в столице. Правда, было еще одно обстоятельство – по каким-то причинам он не слишком жаловал редемптористов и имел с ними нескончаемые препирательства, потому что не без оснований видел в них иезуитов, а его отец когда-то даже способствовал удалению этих последних из страны. К тому же, дон Сагано был страстно влюблен в одну молодую особу, а епископ Васкес также оказывал ей знаки внимания. И еще: в день убийства дон Сагано исчез из наших мест. Алькальд назначил следствие, которое, как обычно, ничего не дало. Сопоставив все эти сведения, я не мог не заметить, что мое посещение дома дона Сагано, который отлично владел национальным оружием, странным образом сочетается со всеми этими ужасными событиями. Иероним был спокоен, но несколько раз пристально заглядывал мне в лицо. Я, в свою очередь, отвечал спокойствием и никаких вопросов не задавал. Такое мое поведение, видимо, пришлось ему по душе, и наши с ним отношения сделались еще доверительнее. Глубокое чувство благодарности этому человеку, который протянул руку босоногому мальчишке, переполняло мою душу. Я ни в чем не раскаивался, да и вообще не особенно задумывался, хорошо ли было то, что совершилось с моим участием, или же дурно. Я начинал понимать, что у всех на всё есть свои причины, и у меня в том числе. Мною двигало благородное чувство, но результат вышел нехорошим – что с того? Мог ли я, имел ли право даже возвысить свой неокрепший голос, черной неблагодарностью ответить на все чудесные благодеяния? Нет и нет. К тому же, казалось уместным вспомнить уроки моих наставников: из двух представляющихся нам взглядов на данный вопрос каждый может опираться на известные основания, но ни один не может считаться несомненно достоверным, а является лишь вероятным. При этом оба противоположные мнения могут иметь за себя равное число оснований. Воистину, прав был Иероним, когда сказал мне некогда, что великое слово – “возможно”. Кое-что я начинал постигать.
А время шло себе и шло. Привыкнув с детства быть отверженным, я подыскивал себе пристанище в кругу таких же, как и я, по духу. Прелести мира в том виде, в котором они представились мне с самого раннего возраста, не привлекали меня, да и многолетняя привычка жить из-под полы давала о себе знать. Мне припомнились слова Иеронима о том, что по-прежнему таинственные иезуиты терпят в этом мире, сам мой ангел-хранитель не скрывал от меня своей принадлежности к этой конгрегации, и я находил для себя самым достойным и естественным встать на сторону слабого, влить свои слабые силы в пока непонятную, но чарующую борьбу и тем самым продлить свою безмерную благодарность. Семьи у меня уже не было, и отрекаться, поэтому, было уже не от чего, разве только от самого себя, но можно ли назвать жертвой образ жизни, который тебе по душе? Меня никто не ждал, и, не имея никаких привязанностей, я ничего не терял. В Бога я не верил.
Настал день, и я поведал Иерониму о своих желаниях. На мгновенье он задумался, а потом сказал: “Здесь важны две вещи – способности, а всего более – прилежание. Первое ты проявил, теперь настало время испытать себя во втором. Ты отправишься в Россию, в литовскую провинцию ордена, которая одна еще целиком осталась в нашей безраздельной и явной власти. Там двадцать дней ты проведешь в доме испытания, а затем поступишь в разряд новициев, в котором пребудешь два года. В эти два года тебя ждет суровая школа, и если ты не переменишь за это время своего решения, то дашь обет целомудрия и послушания, станешь схоластиком, и с этой минуты покинуть орден будет уже не в твоей власти”. Я отвечал, что испытания не страшат меня, но попросил объяснить, почему надо покинуть родину. “После того, – начал Иероним, – как орден заставили прекратить свое открытое существование поочередно в Португалии, Франции, Испании, Неаполе, Парме, империи Габсбургов и в католической Германии и папа Климент состряпал свой отступнический бреве об уничтожении ордена, одна императрица Екатерина воспользовалась случаем показать всему миру, что не признает власти папы, и воспротивилась обнародованию этого бреве в своих владениях. Это указывает сразу на две вещи: во-первых, на то, что такое обращение со стороны этих неразумных королей лишний раз подтверждает, где находится истина (а они не любят истины, ибо истина жжет, словно раскаленное железо, и пугает, как крик о помощи), во-вторых же, на то, что и мы не считаем своего дела проигранным в Европе, коль скоро сумели сыграть свою неслышную мелодию на страстях этой слабой женщины, очень кстати возомнившей себя Богоматерью. Беда ордена заключалась в том, что он, достигнув наибольшего в своей истории могущества, чересчур громогласно заявил об этом и пользовался своей властью слишком открыто. Я уже говорил тебе как-то, что, стремясь к вершине, не следует взбираться на самый гребень, но останавливаться в одном футе от нее – и в таком случае всегда пребудешь на вершине. Я хочу, чтобы ты подумал над этим”, – закончил Иероним.
Иных радует власть, я же, напротив, – в повиновении искал блаженства. Бывало, чем ниже приходилось склонять свою голову, тем больше я чувствовал радость, и сильнее испытывал наслаждение, и ощущал себя частью торжествующего целого. На память мне приходила роспись нашего собора в родном городе, посвященного Пресвятой Деве Марии, я припоминал и самого себя, и свои ощущения, когда разглядывал коленопреклоненных грешников, побежденных, отдающихся милосердию Господнему. Их расслабленные позы, заискивающие взгляды, отрешенность и неуверенность обдавали меня непонятным тогда томлением – предчувствием зрелости. Раскраска стен властно влекла меня к себе, и я слишком часто и украдкой подолгу предавался блаженному созерцанию, притаившись за мощной колонной. Мне хотелось поменяться с ними местами и их глазами покорно заглядывать в светлые очи архангела. Согласно данному мною обету, я никогда не прикасался к женщине, но понимаю теперь, что увлечение живописными плененными грешниками было не чем иным, как первыми смутными и еще далекими позывами сладострастия. Думаю, эти чувства были сродни тем, что должен испытывать мужчина, обладающий женщиной, и схожи с теми, что может впитывать в себя женщина, ощущая в своем лоне повелевающее естество мужчины.
Пошел четвертый год моего послушничества. Я обретался в лесистой Польше, где вера крепка, как кряжистые дубы на полянах, засеянных рожью. Снабженный братом Иеронимом рекомендательными письмами к самому провинциалу, я успешно выдержал новициат и перешел к схоластике. Ничто меня не смущало, душа была покойна, и я ни о чем не жалел. Люди неохотно родятся и еще неохотнее расстаются с этим миром. Я знал, что явился из праха, верил, что туда и уйду. Верил и в то, что сломить дело нашего ордена никому не дано, одному лишь времени, но наше время еще не пришло. Во что же еще верить – уж не в Бога ли? Иероним не обманул меня – здесь я впервые увидел устройство справедливое и единственно разумное. Богатство, титулы, родственные связи тут мало значили – ценилось самоотвержение, беспрекословное подчинение старшим по иерархии, преданность и польза. В этом сообществе почти всё зависело от твоих способностей. Совесть, собственная воля, строптивость – все было передано на усмотрение генерала. Я был словно труп, которым управляют чудесным образом, однако очень хорошо понимал, что сила может быть только там, где сто человек действуют как один. Внимая Иерониму, я понял настоящую свободу как безоговорочное подчинение, и в нем ее обрел.
Период искуса я перенес как следует, и меня отметили. Пять лет я изучал философию и общие науки в полоцкой коллегии, такое же время преподавал сам, принял все монашеские обеты, был допущен к сану, рукоположен и в тридцать лет встал на ступень коадъютора. Вскоре в добавление к обычным трем монашеским обетам я принял особый – обет служения папе и, таким образом, стал профессом. После этого передо мной открывались тайны ордена и появлялись возможности достичь высших должностей в этом условном мире, в котором есть свои солнце, луна и звезды, имеются свои земли, куски морей и реки, перерубленные границами, словно гильотиной, и в который собрались все отверженные, все недовольные миром реальным, внешним, видимым, с которым ведется беспощадная борьба. В этом условном мире я был свой весь – и душой и телом. Иероним издалека следил за моим продвижением, и я иногда получал от него назидательные письма. Какие-то важные дела все эти годы удерживали его вдали от нашей последней вотчины, хотя мне было известно, что несколько раз он ездил в Рим, чтобы принять участие в генеральной конгрегации.
Однажды в гулком и широком коридоре академии я увидел Иеронима. Впервые я видел его в орденском уборе: в длинном черном платье и в четырехугольной черной шапочке времен Лойолы, которая покрывала совсем уже седые волосы. Он сильно постарел, и в его походке уже не было прежней упругости, зато из запавших глаз по-прежнему исходили несгибаемая воля и вселяющая бодрость уверенность. Я с нежностью рассматривал своего учителя. Мы обнялись без слов.
Иероним был любим в ордене. Он наполнял жизнью особо важные сферы – подготовлял возможности к нашему возвращению в тех странах, откуда орден был некогда изгнан. В Польшу он прибыл из Рима, имея целью сообщить нашим вождям какие-то сведения чрезвычайной важности. Генералом ордена он был наделен правом созвать малую конгрегацию литовской провинции, чтобы донести до нас высшую волю. В собрании могли участвовать только профессы, да и то не все. Мы сошлись в небольшой аудитории, поздно вечером. Иероним сказал следующее: “Братья, мы преданы христианскими государями и самим папой. Церковь выдохлась и не правит более миром. Новые звезды взошли на небесах изменчивых эпох. Дух свободомыслия смущает умы, Наполеон заставил французов обезуметь, и грядут большие войны. Теперь уже ясно, что полями сражений станут те самые области, которые составляют наш последний оплот и в которых мы сейчас с вами находимся. Они для нас – все равно что Гранада для мавров, но мавры, как хорошо вам известно, оставили ее, мы же возвращаемся. Генерал обращает ваше особое внимание на то обстоятельство, что никоим образом члены ордена не должны сейчас запятнать себя в глазах России. Генерал приказывает на время прекратить обращение славян, не раздражать белое духовенство и не давать ни малейших поводов русским властям заподозрить орден в связях с республиканцами и Бонапартом. Напротив, генерал и конгрегация считают необходимым использовать все наши связи для сбора различных сведений в пользу русского правительства и тем самым укрепить наше положение в русской Польше и Литве. Ибо отсюда предстоит нам вернуться в Европу, завоевав ее уже в который раз, отсюда мы будем черпать преданных делу ордена братьев. Государи будут сражаться, и это повлечет за собой неминуемый передел Европы – этим мы и обязаны воспользоваться для восстановления своего влияния. Генерал просил передать вам, что большинство орденских имуществ сохраняются братьями-редемптористами, и орден сохраняет на них все права и исправно получает доходы”. После богослужения Иероним отозвал меня в сторону. Мы уединились. “К тебе у меня есть особый разговор, – сказал он. – Наше дело свято – вернуть миру свет религии. Наше оружие – вера, но не одна она. Мы неустанно копим знания, в которых заключается наша сила. Нам важно всё, и мы ничего не отбрасываем. Мы знаем всё про всех и обо всем, и должны знать еще больше. Мы обращаем пристальное внимание на такие науки, которые или забыты в Европе, или возбуждают презрение глупцов, считающих, что путь к тайнам мира пролег только через естествознание. А между тем слово – вот тайна всех тайн. Сколько известно нам воплотившихся предсказаний, выраженных при помощи простых звуков, сложенных в слова, ибо слово, обладая способностью обрастать плотью, материализуется куда чаще, чем полагают поклонники скальпеля и химического тигля. И именно оно свергает государей с их тронов, побуждает народы сниматься с насиженных мест и заставляет человека неистово искать Бога. Вот почему мы искушаем себя в науках, которые кажутся смешными одним, вредными – другим и бесполезными – третьим. В Китае нас почитают как точных землемеров, в испанских колониях нас уважают в качестве защитников приниженных туземцев, а в Ост-Индии мы славимся мастерством звездочетов и астрологов. То, что в одной части мира является светом, на другой кажется тьмой. Но именно это и доказывает как нельзя лучше, что один человек и один Бог. Всё едино, и чтобы всё постигнуть, нужно всё понять, всё ощупать и везде проникнуть, ничего не пропуская и ничем не гнушаясь. Это и есть та самая нить Ариадны, держась за которую, можно достичь истины. Вот почему даже идолопоклонство не вызывает в нас боязни и язычество не страшит нас, как пугает оно доминиканцев и августинцев, не имеющих ни гибкости, ни желания охватить целое в его частях. Мы же заглядываем далеко в прошлое и стараемся предугадать будущее, чтобы сделать свое знание совершенным, а могущество незыблемым”. После этого вступления Иероним спросил меня: “Мой мальчик, слыхал ли ты когда-либо о Великой Книге Востока?” Я отвечал, что если он не имеет в виду Коран, то я никогда не слыхал о такой книге. “Знай, – продолжил мой учитель и друг, – что эта книга принадлежит пророку Аврааму, тому, что пришел в Иудею из города Ур в Халдее. Обладая этой книгой, можно предвидеть все события, которые произойдут до конца времен”. Я внимал Иерониму почтительно и со вниманием, но возразил, что книга, которая содержала бы в себе предсказания буквально обо всех событиях, должна быть воистину необъятна, и что этим свитком можно было бы обмотать землю несколько раз. Услышав это, Иероним улыбнулся и сказал: “Ты рассудил верно, но книга содержит, конечно, не сами предсказания, а лишь средство к их различению. Книга состоит из таблиц и указаний, использование которых и дает возможность к священнодействию. Нам удалось проследить историю этой чудесной книги. Еще в шестнадцатом веке от рождества Христова она принадлежала последователям Зороастра и пребывала в Персии. Орден узнал о существовании этой книги тогда, когда один из братьев, именно Аквавива, будущий генерал ордена, принял участие в посольстве французского короля Генриха III к повелителю Персии Шах-Аббассу. Там он стал свидетелем того, как Аббасс, прознав о чудесном содержании книг зороастрийцев, велел их жрецам приносить к нему свои рукописи, но находил в них к своей досаде только то, что относилось к религии этих огнепоклонников. Разгневанный Аббасс приказал умертвить несколько человек жрецов и вместе с ними самого старшего – Дастуран дастура. Вернувшись в Европу, Аквавива донес весть о книге братьям ордена, и с тех пор это знание является одной из самых сокровенных тайн ордена, его бесценным достоянием, и трепетно оберегается. Почти сразу же по возвращении Аквавивы братья предприняли розыски книги Авраама. Где подкупом, где хитростью, где терпением они проникли в самое царское книгохранилище в Исфагани, побывали и в Ардебиле, в этом палладиуме мусульманской мудрости, пробрались и к османам, в старинную библиотеку Ахалцихе, перебрали и осмотрели сотни арабских и персидских манускриптов, однако не нашли то, что искали. Завет найти книгу в ордене почитался священным, и вот уже сто пятьдесят лет мы разыскиваем ее по всему свету. Наконец не так давно нам удалось напасть на след чудесной книги. У нас всюду есть свои глаза и уши, потому-то мы и смогли обнаружить людей, которые причастны тем или иным образом к судьбе книги. Один из таких людей находится совсем рядом, в Польше. Этот аристократ молодые годы провел на службе английской короне, служил в Индии и бывал в Персии. Там в одной общине огнепоклонников он видел эту книгу и, может быть, ею обладал. Ныне он живет на покое в своем имении. Ибо эта книга – из тех, которые не оставляют равнодушным самого равнодушного и самого трезвого наполняют одержимостью, вызывая насмешку над монархами и презрение к первосвященникам. Ибо кто откроет ее хоть раз, тот бросит всё, что любил, забудет всё, что знал, оставит всё, к чему был привязан, и уже никогда не захлопнет эту книгу. Неверующий в ней обретет веру, а верующий утеряет свою веру. Мы знаем об этом человеке почти всё, но не знаем главного – у него ли книга Авраама. Ты отправишься в эти места и поселишься поблизости. Приход для тебя мы уже выхлопотали, и епископ Стрежнецкий будет тебе благоволить, хотя он и никак не знаком с тем поручением, которое на тебя возлагает орден. Ты будешь неотступно следить каждый шаг этого человека, сделаешься его тенью, его опорой. Право исповеди, которым ты обладаешь, ты используешь на благо нашего дела. Ты должен собрать всё, что касается этого предмета, и не забывать ни на минуту, что эта книга – одна из последних надежд ордена, и на успех твоего предприятия мы уповаем всецело. Помни и о том, что даже в ордене о книге известно всего нескольким посвященным, так что полагаюсь на твое благоразумие, мой мальчик. Труд твой будет нелегок, но велик, как и его цель. Одно лишь терпение станет тебе помощником, и только владеющий этой высшей из добродетелей достигнет когда-нибудь царства небесного”. “Терпение, терпение”, – эти слова Иероним повторял так часто, что в его устах они казались благоуханным заклинанием.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.