Текст книги "Муравечество"
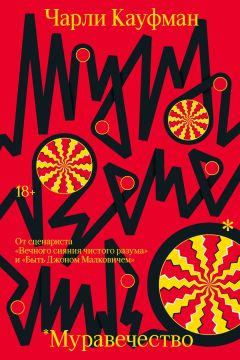
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц)
Глава 30
Барассини быстро вводит меня в гипноз. Теперь это происходит просто по щелчку эмоционального тумблера – буквального тумблера, который он вмонтировал мне в основание шеи, под воротник, с прямым подключением, как рассказывает Барассини, к центру мозга, или нейрохабу, как он его называет. Барассини объяснил, что видел нечто подобное в серии «Черного зеркала», и оказывается, эта штука реально работает. По ощущениям – как будто прощупывают зубной нерв, но лишь на секунду, и я сразу становлюсь более восприимчивым. Мне нравится, потому что это эффективно и надежно: сеанс длится всего час, а так мы можем сразу приступать к делу. Так что я сперва кричу, потом расслабляюсь.
– Расскажи мне о фильме, – говорит он.
– Я все еще почти ничего не помню, – говорю я. – Как обычно.
– Ну, тогда просто начинай говорить. Выдумывай. Посмотрим, что получится.
Похоже, не одного меня раздражает полное отсутствие результатов.
– Не думаю, что это поможет мне вспомнить настоящий фильм, хозяин, – говорю я.
Не знаю, почему назвал его «хозяином». Насколько помню, он ничего такого не требовал и даже не предлагал.
– Слушай, прошлого не существует. Мы же оба с этим согласны?
– Да, – говорю я и в этот раз не называю его «хозяином». Мне ужасно неловко. Это как назвать учительницу «мамой».
– И мы согласны, что оно существует лишь в виде мыслей – другими словами, прошлое существует только у нас в голове, так?
– Наверное.
– Ну а где еще-то? Ты мне покажи, где еще! – орет он.
– Больше нигде. Вы правы.
– Тогда, если его не существует, ты сам решаешь, какое оно, раз уж его не существует.
– Ну, в смысле…
– Да?
– У людей же бывают общие воспоминания.
– А бывают ли? Ты с братом одинаково помнишь свою семью?
– Не совсем. Но наши воспоминания определенно в чем-то схожи, а это означает, что есть некая объективная правда, которую мы оба помним.
– То есть хочешь сказать, что черпать воспоминания из памяти, а не из воображения, нас вынуждают обязательства перед другими людьми?
– Пожалуй… хозяин?
Я ему противен. Я думал, если назову его «хозяином», это поможет.
– Но в случае с этим твоим фильмом никто не разделяет с тобой воспоминания. N’est-ce pas?
– Oui.
– Следовательно, ты никому не обязан быть точным.
– Я обязан – гениальности этого фильма. Этот фильм меня изменил. Теперь мне кажется, что я изменился обратно или, может, во что-то третье, хуже второго, а может, даже хуже первого, которое, возможно, совсем никакое не первое, ведь откуда нам вообще знать, что такое первое? Волне вероятно, перед тем первым у меня была еще целая куча другого…
– Ты что, сейчас сказал «волне вероятно»?
– Нет. Ведь пока растем, мы постоянно меняемся. Полагаю, в детстве я был счастлив, чист и свободен. Я не уверен. Может быть, это ностальгия поднимает свою уродливую голову. Но я знаю вот что: фильм Инго произвел во мне перемену, принес покой и ясность, и я снова хочу их обрести. Хочу вернуть утраченное. Мне необходимо вспомнить максимально точно. Хочу вновь увидеть фильм перед своим мысленным взором так же, как Кастор Коллинз увидел Бога во время паломничества в Вену.
– А о нем ты откуда знаешь? – спрашивает Барассини, сузив глаза, как мост Верразано[69]69
Полное название моста – Верразано-Нэрроус (букв. «узкий»).
[Закрыть].
– О ком?
– О Касторе Коллинзе.
– Любой школьник о нем знает. И школьница. А что?
Какое-то время – возможно, час – Барассини молчит. Я читаю журнал со стойки.
– Хорошо, – наконец говорит он. – Я извлеку из тебя настоящий фильм. У меня проснулось второе дыхание. Мы попробуем одну опасную и непроверенную технику. Ученые проводили исследования, но на данном этапе только на мышах, зараженных сифилисом. Результаты многообещающие; мыши вспомнили вытесненные травмы детства. Ну, те, кто не покончил с собой.
– Погоди, что?
– Вот что мы сделаем: это будет похоже на археологические раскопки. Мы откопаем в твоем разуме керамические осколки, фрагмент за фрагментом, затем обмахнем каждый из них, удалим постороннюю грязь – все, что не имеет отношения к фильму, – и склеим в единое целое. Это будет болезненный, изнуряющий процесс, с серьезным риском как для твоей, так и для моей психики, но мы победим.
– То есть когда вы говорите, что это опасно…
– В основном для тебя, да. Очень.
– Насколько?
– Ты погрузишься очень глубоко, мой друг.
– Понимаю. Что ж…
– Ты хочешь вернуть фильм или нет?
– Больше всего на свете, но…
– Это единственный способ.
– Хорошо, – говорю я. – Но если это единственный способ, то чем мы тогда занимались на предыдущих…
– Прошлое – вымысел. Разве не этому я тебя учил?
– Эм-м. Я…
– Отлично! Тогда начнем!
– Но мыши покончили с собой?
– Некоторые. Некоторые всего лишь ударились в алкоголизм. Возможно, дело в сифилисе. Но ты ведь не зараженная сифилисом мышь, ты человек, да?
– Да, – говорю я. – Если выбирать из двух.
* * *
Я опустошаю металлические лотки в салат-баре. Дарнелл говорит, что пора, потому что ломти канталупы побледнели и пожухли. Потом я нарежу новую. Помогает скоротать время. Между двумя и тремя ночи здесь очень тихо. Дарнелл с кем-то переписывается, улыбается в телефон, а я думаю о Барассини, о том, как он оживился при упоминании Кастора Коллинза. Все это довольно странно. Дверь открывается, мы оба поднимаем взгляд, Дарнелл тянется за бейсбольной битой. В ночную смену иначе нельзя. Никому в ночном продуктовом не нужны сюрпризы. В этот раз сюрприз приятный; это Цай.
– Привет, – говорит Дарнелл.
– Привет, – отвечает она, мило улыбаясь. – Я надеялась купить сэндвич.
– Конечно. Б.! Сделай девушке сэндвич.
Я киваю и иду к стойке.
– Привет, – говорю я. – Чем могу помочь?
– Индейка и сыр на французской булочке.
– Хорошо.
– Немного майонеза и горчицы. Желтой. Эм-м, помидор, латук, лук.
– Не хотите к этому коулслоу, картофельный салат или пакетик чипсов?
Она бросает в ответ «чипсы» по пути в переднюю часть магазина, к полке со сладостями. Там же за кассой сидит Дарнелл.
– Не могу выбрать, – говорит она. – Какие ваши любимые сладости?
– Люблю иногда съесть добрую плитку «Кит-Ката», – говорит Дарнелл.
Она кладет «Кит-Кат» на кассу.
Я делаю сэндвич, но смотрю на Цай. Отсюда видно лишь ее задницу, обтянутую, подумать только, черными легинсами. Она облокачивается на стойку кассы и выставляет задницу в мою сторону.
– Я постоянно тебя тут встречаю и ни разу не представилась, – говорит она Дарнеллу. – Это невежливо. Я Цай.
– Дарнелл, – говорит Дарнелл. – Здорово.
– Мне нравится твое имя, – говорит она. – Дарнелл.
– Спасибо. Твое имя тоже ништяк. Типа как «З-а-я»?
– Цэ-а-й. Цай.
– А, клево. Прям как у азиатов, типа?
Господи, думаю я. Азиатов? Она же его сейчас на части пор…
– Ага, – говорит она. – Мои бабушка с дедушкой были из Китая.
– Клево. Клево. Очень клево. Китай. Это где-то в океане, да?
Что это вообще значит?
Пауза, и затем ни с того ни с сего Дарнелл спрашивает, курит ли она травку. Цай говорит, что курит.
– Хочешь? – спрашивает он.
– Угу.
– Йоу, Б., приглядывай тут, – говорит Дарнелл, хватает рюкзак и ведет Цай в кладовую. Я слышу, как открывается задняя дверь, и предполагаю, что они вышли в переулок. Сэндвич готов, завернут и упакован вместе с отдельно завернутым маринованным огурцом, тремя салфетками и пакетиком картофельных чипсов. Приношу на кассу и жду примерно семнадцать минут или около того. Задняя дверь открывается, и они возвращаются в магазин. Цай хихикает над чем-то, что сказал Дарнелл.
– Йоу, Б., – зовет меня Дарнелл. – Пробей ее покупки с моей скидкой.
– Ой, спасибо, Дарнелл! – щебечет Цай. – Ты такой милый.
Я пробиваю ее покупки со скидкой Дарнелла.
– 5 долларов 50 центов, пожалуйста, – говорю я.
Цай протягивает мне десятидолларовую купюру, но смотрит на Дарнелла, который склонился над лотками с горячим и руками ест макароны с сыром.
– Было классно, – говорит она. – Спасибо.
– В любое время, Цай из Китая, – отвечает он с набитым макаронами ртом.
Бисер перед свиньями.
– О господи, ты такой обаяшка! – говорит она Дарнеллу. Я протягиваю сдачу. Она берет пакет. – Спокойной ночи! – говорит Дарнеллу и исчезает за дверью.
– Черт, – говорит Дарнелл. – А она горяча! Я б нафаршировал эту уточку по-пекински. Сечешь, о чем я, братан?
Я секу, о чем он. И выхожу в туалет для персонала, чтобы подрочить. Подозреваю, как только закончу, Дарнелл зайдет сюда с той же целью. Помогает скоротать время в эти тихие ночи. Я всегда предпочитаю дрочить первым.
Глава 31
– Сейчас ночь, – начинает Барассини.
И внезапно наступает ночь. Но это всё – просто ночь, без Земли и без неба. Я словно бы завис в пустоте. Ощущения жуткие. Я вспоминаю о бедных мышах.
– Не бойся, – говорит он. – Ты едешь.
И я действительно еду. Я за рулем в ночи. Ни на чем. Еду в никуда. Из ниоткуда.
– Ты едешь в ночи по пустой дороге, – продолжает он, его голос доносится сквозь радиопомехи.
А вот и дорога.
– С обеих сторон по обочинам деревья, они пологом нависают над дорогой. Полог настолько плотный, что ты не видишь неба. Ты едешь медленно, ползешь, выискиваешь в округе признаки того, что там закапывали.
– Я не понимаю, о чем ты, – говорю я.
– Ты видишь то, что я описываю?
– Да. До жути ясно. Это пугает. Меня пугает ясностность того, что я вижу.
– Тогда хорошо.
– Я как будто смотрю фильм, но одновременно в нем. Погружен в него. Это и называется брейнио?
– Брейнио?
– Развлечение из будущего, – говорю я.
– Понятия не имею, о чем ты. Это гипнотическое внушение. Никаких развлечений из будущего не существует. Будущего не существует. Как и прошлого. Существует только сейчас. Мы это уже проходили.
– Мне неуютно.
– Сфокусируйся на задаче. Всегда фокусируйся на задаче, и страх исчезнет. Это закон Барассини.
– И что у меня за задача?
– Ты ищешь фрагменты фильма. Утраченного фильма Инго. Я визуализировал процесс поиска в осколках твоего сознания, чтобы помочь конкретизировать процесс. Есть риск затеряться там, в этой альтернативной реальности брейнио…
– Ты сказал «брейнио».
– Нет, не говорил. В любом случае есть риск «вечно ехать под улицами Бостона», как Чарли из известной песни[70]70
Отсылка к композиции «M.T.A.», известной благодаря записи группы The Kingston Trio 1959 года. В песне поется о парне по имени Чарли, который сел на поезд метро и не смог с него сойти, и до сих пор неизвестно, что с ним случилось.
[Закрыть], но, если будешь следовать моим указаниям, которые я называю техникой Барассини, все будет в порядке.
– Дорога вроде как похожа на ту, по которой я ехал во Флориду.
– Твой мозг использует воспоминания, чтобы создать картинку. Это хорошо, поскольку твои воспоминания о Флориде расположены близко к воспоминаниям о фильме. Это знак Барассини. Или Barassini Zeichen.
– Я его правда найду таким образом?
– Кого – его? – спрашивает голос из радио.
– Фильм Инго.
– А. Ты об этом. Да.
Внезапно голос звучит растерянно и неуверенно.
– Я что-то вижу, – говорю я.
– Рассказывай, – говорит радио.
– Куча грязи. На обочине между деревьями.
– Тормози! – кричит он. – И направь на эту кучку свои гипнофары! Быстро!
Я направляю.
– Сделал?
– Сделал что?
– Гипнофары направил?
– Направил.
– Выходи, открой багажник; там ты найдешь инвентарь для раскопок. Бери лопатку. Копай осторожно. Постарайся не повредить то, что погребено в грязи, или навсегда затеряешься здесь, как Чарли под улицами Бостона.
– Пожалуйста, перестань это повторять.
– Хорошо.
Я встаю на колени и осторожно зачерпываю полную лопатку моей «подсознательной грязи». На полотне лопатки кружится облако дымчатого прошлого. Я наблюдаю за ним и чувствую восхищение, тошноту и тревогу одновременно. Вижу квартиру в Сент-Огастине со своей кровати. Я держу у уха мобильник. К потолку поднимается сигаретный дым.
– Нашел что-нибудь? – спрашивает радио из машины, чуть приглушенное закрытой дверью.
– Может быть. Я лежу в постели с телефоном, – говорю я.
– Звучит многообещающе. Скорее всего, частичка фильма спрятана где-то здесь, среди мысленного мусора. Опиши, что видишь.
– Я разговариваю по телефону со своей девушкой. Она афроамериканка. Ты наверняка о ней слышал.
– Что именно ты говоришь?
– Что она довольно известна и ты, скорее всего…
– Нет. Что ты говоришь ей?
– Говорю, что обнаружил ранее неизвестный фильм гениального престарелого афроамериканского джентльмена. Говорю, что раньше она о нем не слышала, но это скоро изменится. Она спрашивает: «О чем фильм?» А я отвечаю: «Обо всем». Она говорит: «Можно поконкретней?» В ее голосе нетерпение. «Ну, например, сегодня смотрел сцену, где Эбботт и Костелло планируют убийство». Она говорит, что сейчас у нее нет времени на ерунду, что ей до завтра нужно выучить реплики, что она ненавидит Эбботта и Костелло, что у них очень «белое» представление о юморе. Я говорю: «Но, как я уже упоминал, этот фильм снял престарелый афроамериканский джентльмен». Она говорит параллельно со мной; описывает сцену, реплики к которой учит: «Это тяжелая сцена, – рассказывает она, – в ней меня зверски насилуют. Очень жестко». «Они Эбботт и Костелло и в то же время не Эбботт и Костелло, – говорю я ей. – Чтобы полностью понять сцену, необходимо держать в голове то, насколько они Эбботт и Костелло и в то же время не Эбботт и Костелло». «Это самая важная моя сцена, – говорит она. – От нее зависит все. Мне надо подготовиться. И поверь, мне совсем не помогает, что мой партнер по этой сцене – один из самых сексуально привлекательных мужчин из всех, кого я когда-либо встречала, ведь мне надо развить к нему ненависть …»
– Остановись, – говорит радио. – Это воспоминание больше не помогает. Возьми ту щеточку с мягкой щетиной рядом с собой и осторожно сотри его. Осторожно! Или умрешь! Есть вероятность, что под ним ты найдешь фрагмент фильма, а именно это нам и нужно.
– Когда я сотру это воспоминание, оно пропадет навсегда?
– Как дым, – говорит радио.
Я мешкаю, затем стираю воспоминание.
– Готово, – говорю я.
Мне полегчало.
– Видишь сцену с Эбботтом и Костелло? Полагаю, теперь ты ее найдешь.
Радио не ошиблось. Это воспоминание – кроличья нора. Вот она, сияющая сцена из фильма, и теперь я в ней. И хотя это миниатюрная площадка с марионетками, все выглядит очень живым.
– Рассказывай, – говорит радио.
Я карабкаюсь на холм в ночи, и это не Флорида – там, как вам, возможно, известно, холмов нет. Я где-то еще. Темно. Ой. Теперь я узнаю это место – район Лос-Фелис в Лос-Анджелесе, но это не наши дни. Никаких голливудских хипстеров. Автомобили старых моделей; 1940-е? Это Лос-Фелис времен Раймонда Чандлера. На камне с сигаретой в зубах сидит Бад Эбботт и смотрит на город. Погружен в мысли. Приближается темный кабриолет. «Кадиллак»? Кажется, да, но я не очень разбираюсь в машинах. Крыша из белого холста поднята. Машина паркуется, из нее выходит пухлый Лу Костелло. Он садится на соседний камень, но Эбботт на него даже не смотрит. Мне ясно, что они и раньше встречались здесь вот так; сам не знаю, откуда это знаю. Тишина. Ее нарушает Эбботт:
– Почему нельзя было поговорить по телефону? Бетти приготовила мясной рулет. Мой любимый. Когда вернусь, он уже остынет.
– У стен есть уши, Бад.
– Ради всего святого, Лу. Кому есть дело до наших разговоров?
– Миллионам людей, и я хочу убедиться, чтобы так и оставалось.
– Ты меня совсем запутал.
– Ну, как мы оба знаем, запутать тебя – не такая уж сложная задача.
– А это как понимать?
– Что и требовалось доказать.
– Говори проще, Лу.
– Наше господство в индустрии под угрозой.
– Господство? Ну вот опять. Почему обязательно нужно использовать все эти напыщенные…
– Хорошо, Бад, специально для тебя, максимально просто: в городе появилась еще одна команда клоунов, один здоровый, другой худой. Это как-то задевает твои нервные окончания?
– Говори проще, Лу, ради всего святого.
– На мою – нашу – территорию вторглись Мадд и Моллой. Я не позволю каким-то выскочкам украсть мою – нашу – славу, тем более вот таким вот эпигонам.
– Это как те, что в «Доме на просторе»[71]71
Традиционная американская песня, которую называют неофициальным гимном Запада. – Прим. ред.
[Закрыть]?
– То антилопы, а не эпигоны. К тому же автор песни ошибся. В Северной Америке не водятся антилопы.
– Тогда о ком ты?
– О двух комедиантах, которые похожи на нас.
– Толстый и тонкий?
– Именно. Бинго. Возьми с полочки пирожок.
– С какой полочки, Лу?
– Это, дружище, фигура речи. Мы должны остановить Мадда и Моллоя.
– В мире много места, Лу. Хватит на всех.
– Скажи это Уилеру и Вулси.
– Я не могу. Боб Вулси умер в тридцать восьмом.
– Вот именно.
– О чем ты говоришь? Я уже всю голову сломал.
– Я часто себе это воображаю.
– Что?
– Ох. Роберт Вулси должен был исчезнуть. И он исчез.
– Что ты хочешь сказать, Лу?
– Господи, Бад. Я его убил. Ради нас.
– Не говори ерунды. У Боба отказали почки. Это все знают.
– Все знают то, что им положено знать! – выкрикивает Костелло.
– Что ты хочешь сказать, Лу?
– Господи Иисусе, что ж ты за пень такой трухлявый, а. Я убил Вулси, чтобы он нам не мешал.
– Что ты хочешь сказать, Лу?
– Интересно, может, Габби Хейс захочет заменить тебя в нашем дуэте. Добавит искры в диалоги.
– Он играет помощника ковбоя, Лу. Он не простак из комедий. Не понимаю, о чем ты.
– Специально для тебя объясняю примитивным языком: у Вулси отказали почки, это правда. Но причиной было медленное отравление мышьяком.
– Кто мог отравить Боба Вулси?
– Я мог, Бад. Я мог. И отравил, как уже сказал тебе несколько раз.
– Но зачем?
– Да затем, мой усатый простофиля, что в Голливуде слишком мало места для Уилера и Вулси и Эбботта и Костелло.
– Но ведь Боб жил в западной части? Вроде в Санта-Монике. Не в Голливуде. Я уверен, когда он умирал от болезни почек, мы с Бетти ездили навестить его в Санта-Монику, не в Голливуд. А стало быть, нет никаких причин беспокоиться, что он занимает место в Голливуде.
– Да. Да, он жил в западной части. Знаешь, Бад, я не могу понять: ты такой тупой, потому что в детстве тебя часто роняли головой, или тебя роняли головой, потому что ты был настолько тупой, что люди, которые тебя роняли, а именно твои родители, не сильно переживали насчет твоей головы, ведь ты уже изначально был тупым.
– Это оскорбление слишком многословно, чтобы быть смешным, Лу.
– Тем не менее – и прошу тебя, постарайся внимательно выслушать, – если тебя устраивает твоя жизнь и ты бы хотел, чтобы она такой и оставалась, нам необходимо поговорить о Мадде и Моллое.
– О комедийном дуэте?
– Да. Мы должны их остановить.
– Зачем?
Костелло медленно и картинно закипает. Настоящее искусство.
– Хорошо, – наконец говорит он, – план такой: на следующей неделе они будут снимать свою первую двухчастевку[72]72
На заре кинематографа и до середины века фильмы измеряли бобинами с пленкой, или «частями»; стандартная двухчастевка шла около двадцати минут.
[Закрыть]. Называться она будет «Идут два славных малых», и, судя по сценарию, она довольно хороша. Я заполучил сценарий, когда убил помощницу режиссера по сценарию и украл его из ее квартиры, которую еще и обчистил. Если этот фильм выйдет, боюсь, наша позиция самого выдающегося комического дуэта современности может оказаться под угрозой. Я предлагаю остановить Мадда и Моллоя в первый же день съемок, прежде чем они успеют нам навредить.
– Но как?
– Скажем так, я знаком с «лучшим парнем»[73]73
В американской киноиндустрии помощника светооператора называют «лучшим парнем» (best boy).
[Закрыть] из съемочной группы.
– А кем он там работает?
– Кто?
– Лучший парень?
– Он «лучший парень».
– Я понял, что ты о нем высокого мнения, Лу, но кем он работает?
– Он «лучший парень».
– Прекрасно, а должность какая?
– Это и есть его должность.
– Какая должность?
– «Лучший парень».
– Но работает-то он кем?
Воцаряется долгая, долгая пауза, в течение которой Костелло вновь тихо и восхитительно закипает. Затем говорит:
– В любом случае он ослабит все болты на осветительной установке, чтобы в сцене в галантерейном магазине, когда Моллой хлопнет дверью, та рухнула прямо на Мадда и Моллоя и вернула нам то, что принадлежит нам по праву рождения.
– Не думаю, что твой знакомый лучший парень согласится на что-то настолько ужасное.
– Это еще почему?
– Потому что в этом нет ничего лучшего. Может, он худший парень. Как минимум безответственный.
– Меня он слушается.
– Почему, Лу?
– Потому что я хочу, чтобы Мадд и Моллой умерли.
– Но это же уб-б-б-бийство.
– Да.
– Но зачем?
Снова пауза. Снова тихое кипение Костелло.
– Бад, ты ведь в курсе, что Мадда тоже зовут Бад?
– Эй, это мое имя!
– Да, Бад.
– В смысле мое настоящее имя – Уильям Александр Эбботт. Но люди зовут меня Бад. Потому что так меня звала мама.
– Я знаю. Но, Бад, он ведь не имеет права красть твое имя.
– Ну, мое имя все еще мое, Лу. Если бы он украл мое имя, ты бы не мог называть меня Бадом, а ты только что назвал. Видишь?
– У него точно такие же усы, как у тебя.
Бад трогает свою верхнюю губу, смеется.
– Теперь ты уже просто валяешь дурака, – говорит Бад.
– Спокойной ночи, Бад.
– Спокойной ночи, Лу.
Костелло идет к машине.
– Бетти звала вас с Энн на мясной рулет!
Костелло не обращает на него внимания, садится в машину и уезжает. Эбботт закуривает еще одну сигарету, смотрит на ночной Лос-Анджелес. Я сажусь рядом с ним, меня охватывает огромная грусть.
– Что теперь? – звучит голос из радио.
Я озираюсь и понимаю, что сцена изменилась.
– Я на съемочной площадке. Вижу двух комиков, молодых, но внешне похожих на Эбботта и Костелло. Похоже, это Мадд и Моллой на площадке фильма «Идут два славных малых». Всюду суетятся члены съемочной группы. Воздух заряжен электричеством и…
– Что? Что происходит? – теперь голос исходит из ниоткуда.
– Свет погас. Я больше не вижу площадку.
– Найди ее.
– Она исчезла. Все черным-черно.
– Что ты видишь?
– Только грязь. И черноту.
– Что в норе?
Я смотрю в нору. Там еще грязь.
– Там еще грязь, – говорю я.
– Что ж, отлично. Замечательно. Умеешь ты обломать, Розенберг. В любом случае сегодня время все равно истекло… – говорит голос, и я слышу щелчок пальцев.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































