Текст книги "Муравечество"
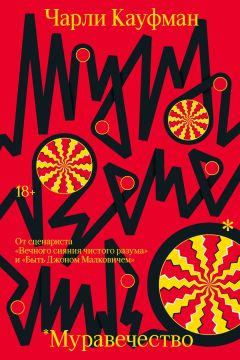
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 45 страниц)
Цай и Барассини смотрят в стол. Я толкаю другую речь в надежде, что ее они еще не слышали:
– Всё на свете – часы: часы – это часы; человек – это часы. Все меняется в соответствии с заранее установленным расписанием. Всё показывает время. Камни показывают время. Всё. Единственное, что не показывает время, – это ничто. Ничто не может измениться – на первый взгляд это может выглядеть двойным отрицанием, каким-нибудь просторечным сленгом, но это не сленг. Следовательно, говорить, что раньше времени было ничто, – это парадокс, потому что он помещает «ничто» в контекст времени. «Ничто» существует вне времени, следовательно, да, раньше времени было «ничто», но есть оно и во время времени, где «ничто» существует без взаимодействия со временем. Это напоминает о фильме, который я еще будучи студентом однажды посмотрел в заброшенном винном баре. В прямоугольнике экрана было лишь ничто. Ни черное, ни белое. Ничто. И поскольку ничто есть ничто, оно не может проявиться в пространстве и времени. Следовательно, оно не имеет начала или конца, и я не мог его увидеть, потому что нельзя увидеть ничто. Если бы я смог увидеть ничто, оно бы стало чем-то. Оно бы исчезло. Времени тогда, конечно, не прошло.
Цай и Барассини по-прежнему смотрят в стол; похоже, я потерял внимание зрителей.
Я переживаю. Почти уверен, что ничего этого не было. И тем не менее я все помню.
Глава 40
Теперь я возглавляю наш стенд на клоунском конвенте. Делать тут особо нечего, товар продает себя сам: у нас есть все лучшие бренды клоунской обуви, и мы сделали удобный онлайн-заказ. Гарантия доставки на следующий день, простая политика возвратов, никаких вопросов. Есть поиск по цвету (красный/белый/желтый, синий/оранжевый/зеленый et chetera), размеру (от пятидесятого до сто тридцать пятого), даже по видам приколов (брызгалки, гудки, спрятанные в подноске самонадувные шарики). В Сети у нас и в самом деле уникальный выбор, равных нам просто нет. И, конечно же, мы предлагаем патентованные складные клоунские ботинки для путешествий. Так что все должно быть просто, но есть проблема: клоуны без грима – самые мерзкие люди из всех, кого я когда-либо видел. Семь из десяти случаев агрессивного вождения на дорогах происходят по вине клоунов без грима.
На выставке я встречаю женщину с клоунским гримом – ну, то есть не с клоунским гримом на лице, точнее, не только с ним, она им еще и торгует. Поэтому уточню: она и с гримом, и с гримом. Я представляю ее голой в клоунском гриме и тут же осознаю, что рожден новый фетиш. У моего синаптического поезда теперь новая остановка: Клоунвиль. Мне кажется, это совсем на меня не похоже. Вернувшись домой, я вбиваю «клоунский фетиш» в строку поисковика. Медлю, прежде чем нажать «ввод». Если нажму «ввод», пути назад уже не будет; в этом я уверен, научен прошлым опытом. Единственное, чем виртуальный мир отличается от реального, – это полная конфиденциальность в сочетании с полным отсутствием конфиденциальности. Я наедине с компьютером, но за мной следят: мои действия фиксируются, составляются досье, ставятся галочки. Но, увы, мои потребности возобладают над тревогой. Стоит нажать клавишу – и я получу все, чего пожелаю. Я думаю о клавише «ввод/возврат». Думаю о мире, в который «введет» эта клавиша; и знаю, что еще не раз в него «возвернусь». Этому нет конца. И что за безумный ящик Пандоры я собираюсь открыть? Не запрещено ли клоунское порно законом? Полагаю, ничего незаконного в этом нет, только если я вдруг не начну гуглить клоунское порно с несовершеннолетними, но этого я никогда, никогда не сделаю. Я не чудовище. И все же – однажды отведав клоунского порно, смогу ли я вернуться к нормальным женщинам, в фантазиях или в реальности? Настанет ли момент – если еще удастся найти женщину, которая меня примет, – когда я вытащу из нижнего ящика комода баночку белого клоунского грима и попрошу накраситься, потому что иначе у меня не встает? Это не кончится ничем хорошим. Лучше всего не нажимать на «ввод» и просто смириться с тем, что…
Я делаю решительный шаг и… это лучше, чем я мог вообразить. Роскошные обнаженные женщины-клоуны. Их много! К вашему сведению, обнаженные мужчины-клоуны тоже встречаются, и, как оказалось, они пугающие настолько же, насколько женщины-клоуны соблазнительны. Я уточняю критерии поиска, чтобы исключить их, и в этот раз жму на «ввод» без сомнений. Поиск я кончаю (буквально и фигурально) на изображении молодой клоунессы, воплощающей в себе все, о чем я мечтал в обнаженной клоунессе. Ее псевдоним – Солнечная Радуга, и она… все, что мне нужно.
– Рассказывай, что видишь, – требует Барассини.
Заметно более молодые Мадд и Моллой, ребячливый и очаровательный, худой и толстый соответственно, выступают в бурлеске где-то в маленьком городе. Это или флешбэк, или просто более ранняя сцена из фильма. Не знаю, как понять. Не думаю, что это имеет значение. Если фильм «Горчица» чему-то нас и научил, так это что строгая хронология не имеет значения. Я в виде глаза парю где-то на галерке, затем подлетаю поближе к сцене, над головами зрителей. Прекрасный и изящный кадр, и я исполняю его мастерски. В мире моей памяти я прямо Роджер Дикинс.
– Африка – невероятная страна. Я забронировал нам билеты, – говорит Мадд.
– Я не поеду. Африка меня пугает, – говорит Моллой.
– Господи, чего там бояться-то?
– Я боюсь темноты!
– На самом деле Африка – не черный континент! Это просто фигура речи.
– А что это значит?
– Значит, что она неведомая.
– Но тогда как мы про нее ведаем?
– Нет-нет. Это значит, что Африка для нас – загадка.
– Главная загадка – это кто украл лампочки во всей Африке!
– Да перестань ты. Ты замечательно проведешь время. Там очень много прекрасных диких животных.
– Дикие животные должны быть в зоопарках, где им и место.
– Не говори ерунды. Животные должны свободно бегать.
– Я и не говорю, что нужно штрафовать их за бег. У них даже карманов нет, чтоб бумажник носить. Кроме кенгуру.
– В Африке нет кенгуру.
– Ну так если там нет даже кенгуру, зачем там быть мне? Я умнее кенгуру.
– Уверен, ты действительно умнее некоторых кенгуру.
– Вот именно. Спасибо. Эй, погоди-ка…
– Подумай о туземцах. Мы увидим убангийцев, пигмеев, ватузи…
– В каком-таком атузе?
– Ватузи. Ты что, не слышал про ватузи?
– Какие еще права тузи? Им разрешают водить машину?
– Нет-нет. Я спрашиваю, знаешь ли ты, кто такие ватузи.
Сцена развеивается, как дым. Я продолжаю парить, теперь над пустотой, вокруг – кошмарная чернота.
– Что дальше? – спрашивает голос, эхом отдаваясь в черноте.
– Ничего.
– У нас осталось еще двадцать минут.
– Тут ничего нет. Пожалуйста, отпусти меня пораньше. Мне не нравится тут висеть.
– Еще двадцать минут, – повторяет голос. – Продолжай искать.
И я жду, я парю, я ищу, но ничего не могу найти. Чтобы как-то себя занять, представляю, как Солнечная Радуга кружится на равнинах Серенгети, и кончаю. Не знаю, заметил ли Барассини.
* * *
В спальном кресле, в состоянии иррациональной паники, которое настигает по ночам, мне приходит в голову, что, возможно, причина, почему мне не удается собрать воедино воспоминания о фильме Инго, в том, что они «съедены» некой болезнью мозга, энцефалопатией или чем-то еще не изученным, каким-то неизвестным паразитом. Я представляю, что такое существо, будь оно заразным, перебиралось бы из мозга в мозг, пожирая и опорожняя переваренные воспоминания в виде отходов. При таком – признаться, научно-фантастическом – варианте развития событий человек бы получал «переваренные» воспоминания других людей – или, если угодно, фекальные. И я уверен, что уже не раз натыкался на эти странные фрагменты в своих так называемых хранилищах памяти. Обрывки воспоминаний о работе у конвейера, вкус джема из рамбутана, попытка примерить несколько пар джегинсов (лично я пытался примерить только одну пару!). Возможно, эти и прочие неожиданные фрагменты воспоминаний – всего-навсего плоды моего невероятного воображения и часто отмечаемой другими эмпатии, но эти мысли настолько убедительны, что аж пугают. Я, конечно, не знаток фантастики, хотя весьма уважаю труды афроамериканских гениев Октавии И. Батлер, Сэмюэля Р. Дилэни и Тананарив Дью, которые взяли этот легкомысленный жанр и превратили в инструмент для исследования социальной и расовой несправедливости. Их книги не для фанбоев, этих подростков с замедленным развитием, которые устраивают истерики, когда выходит очередная часть «Звездных войн» или любая другая космическая опера да белиберда про путешествия во времени, – но скорее для тех, кто всерьез вовлечен в борьбу за справедливое общество. Или ее зовут Октавия Спенсер?
Малачи Чик Моллой родился в 1906 году. Еще в юном возрасте у него диагностировали «неусидчивость» и определили в специализированный центр – в школу для неусидчивых детей в Парамусе, где лечат с помощью привязывания к вращающимся доскам, гидротерапии, инсулиновых ком, фиксаторов для ног и ремесел. В тринадцать он сбегает, выпив «Микки Финна»[93]93
На сленге «Микки Финн» – напиток с добавлением психоактивного наркотического вещества.
[Закрыть] и отключившись в корзине для белья, которое затем вывезли за пределы школы для стирки. «Микки Финн» подавляет неусидчивость, из-за чего близорукий водитель прачечного фургона принимает Моллоя за комплект постельного белья. Оказавшись в Нью-Йорке, он находит работу – ходит по улицам с рекламным плакатом «Веронала», снотворного на основе барбитуратов производства компании «Байер», со слоганом: «Будь у меня „Веронал“, я бы спал как младенец». С обратной стороны плаката написано: «„Веронал“ безопасен для младенцев!»
Я тоже здесь, на улице, причем – неожиданно – не в виде глаза, а в теле, блуждаю в поисках Моллоя. Я хочу взять у него интервью для книги. Я знаю, что, если найду его, это будет сенсация и книгу ждет гарантированный успех. Но не могу его найти. Обращаюсь к полицейскому в цилиндре (в цилиндре?), спрашиваю, не знает ли он Моллоя. У того сильный ирландский акцент, он зовет меня «малым» и говорит, что если я немедленно не вернусь обратно в минус-школу аристотелевской поэтики Эразма Дарвина на Декалб-авеню, то он арестует меня за «симуляцию болезни и прогул». Я терпеливо объясняю, что, мол, спасибо, конечно, за комплимент, но я уже давно вышел из школьного возраста. Нет, не вышел, говорит он, сейчас 1923 год от рождества Господа нашего Иисуса Христа. И я осознаю, что он прав. В 1923 году мне минус двадцать семь лет, и я в минус-школе. Просто в свои минус двадцать семь меня уже девять раз оставляли на второй год. Господи, надо срочно закончить минус-школу и поступить в минус-университет. Я паникую и бегу в класс.
Вне сеансов гипноза, на экскурсии с гидом в музее стульев на Лонг-Айленде по выставке «Стулья, похожие на гигантские руки, и их роль в истории», у меня случается момент предельной ясности и я наконец полностью вспоминаю первые секунды чудесного фильма Инго: пока гид Памела не видит, я ладонью стряхиваю с бархатного сиденья chaise à main [94]94
Кресло в виде руки (фр.).
[Закрыть] Луи XVI крошки от крекера, осыпавшиеся с моей бороды, и затем вновь стряхиваю их с ладони еще одной ладонью. Иногда от меня ускользает правильное слово, и я произношу или думаю что-то комически неправильное, или неправильно звучащее, или неправильно подуманное. «Второй». Правильно сказать «второй». Второй ладонью. Я отряхиваю вторую ладонь о… матерчатые тубусы для ног? Вряд ли. Может, ножные штаны. В любом случае это простое действие – моя «мадленка Пруста», если угодно, – переносит меня назад во времени.
Инго затягивается цигаретой (он сам ее так называет), кладет руку мне на плечо и опускает меня на стул, где на сиденье, похоже, рассыпаны крошки печенья. Свет выключен, жалюзи опущены, проектор жужжит.
Начинается. Зубчатая белая царапина на черном фоне, еще одна, и еще, и еще. Затем множество мелких царапин: как снег в ночи при свете фонаря. Затем – фильм. Черно-белый. В пятнах грязи: одетая как лесная нимфа женщина – или, конкретнее, марионетка – исполняет эротический танец. Это кукольный мультфильм с использованием техники, которую иногда называют «покадровая анимация». Возможно, вы слышали о Рэе Харрихаузене, великом мастере покадровой анимации. Возможно, вы помните его работу по фильму 1933 года «Кинг-Конг». Нет, это был Уоллис О’Брайан. Я оговорился. Или, скорее, одумался. В последнее время такое со мной случается все чаще. Кажется, со мной что-то происходит, и у этого есть какая-то глубинная, естественная причина. Страшная причина. Почему я забываю? Почему роюсь в мозгу в поисках пропавших слов? Теперь окружающие, из вежливости или из нетерпения, подсказывают варианты.
– Доблестный? – говорят они.
– Рог изобилия?
– Никсон?
– Рекурсивный?
– Великий Газу?
– Явное предначертание?
– Брюс Уиллис?
Это был Уиллис О’Брайен. Уиллис, через «и». О’Брайен, через «е». Я отвлекся. В любом случае, фильм сделан сим образом, с использованием указанной техники. Марионетка танцует коряво, с судорожной энергетикой, наблюдать за ней утомительно. Я готов дать Инго больше времени. Он престарелый черный, он заслуживает уважения. Хотя все еще кажется, что у меня вряд ли хватит терпения на все три месяца. Я имею в виду, афроамериканец.
Сексуальный танец длится полторы минуты, затем кукла приступает к кекуоку, не разгибая конечностей, – вылитый нацистский печатный шаг, но за двадцать с лишним лет до появления этой конкретной партии. Я уже собираюсь разыграть свой козырь – то есть соврать и сказать, что у меня назначена встреча, – как вдруг на экране возникает накорябанный от руки титр: «Танцовщица Люси Чалмерс исполняет вальс!»
Люси Чалмерс! Великая и трагическая загадка немого кино. Сегодня мало с кем можно обсудить Люси Чалмерс. Еще будучи подростком, она снялась в нескольких фильмах, стала звездой, но однажды ушла со съемочной площадки, и больше ее никто не видел. Некоторые считают, что это она неизвестная жертва, известная как Черный Георгин. Нет, погодите, это было гораздо позже. Люси Чалмерс исчезла до того, как родилась Элизабет Шорт. Черным Георгином была Элизабет Шорт. Она не неизвестная. Это другая история, тут я уверен. Люси Чалмерс однажды ушла со съемочной площадки, и с тех пор ее не видели. Она была несчастной девушкой и жила в тяжелом браке с актером-ковбоем Артом Экордом. Но именно буйный характер позволил ей построить великолепные актерские навыки. «Построить» не то слово. Какое же слово выбрать.
– «Развить»? – предлагает посетитель музея стульев.
Да, развить. И потом однажды она просто исчезла. Прямо со съемочной площадки. И больше никто о ней не слышал. Кто-то говорит, что ее изнасиловали и бросили умирать на пшеничном поле. Кто-то – что она сменила имя, вышла замуж за страхового агента со Среднего Запада и он ее изнасиловал и бросил умирать на пшеничном поле. Были и другие теории. Много теорий, намного больше этих двух. Но штука в том, что никто не знает. Была ли она героиновой наркоманкой? Этого тоже никто не знает. Никто не знает, а незнание умножает и интригу, и трагедию. Если это и была трагедия. Она могла просто уехать из Голливуда, потому что ей не нравилось то, во что в конце концов выродилась индустрия. Ее могли посетить вещие видения о Кауфмане, о Нолане. Никто не знает, но, в любом случае, увидев ее, я решаю не отпрашиваться с просмотра. После титра с именем на экране снова появляется марионетка, но теперь ее движения не такие топорные. Печатный шаг кажется даже немного сексуальным. Возможно, дело в том, что теперь она идет как бы от бедра. Я сражен.
И вот так просто воспоминание обрывается. Гид объясняет, что слово «сиденье» произошло от слова «сидеть».
Глава 41
Мне как-то и в голову не приходило, что Солнечную Радугу можно найти, а вот поди ж ты. Ее не-клоунское имя – Эмбер Херст, и она – член клоунской артели секс-позитивных феминисток под названием «В цирке только девушки». Они родом из Энн-Арбора и занимаются клоунадой сугубо для женщин по всему Верхнему Среднему Западу и немного по Нижнему. Эмбер Херст – гордая лесбиянка, встречается с Дианой Элейн Пэджетт, также известной как клоунесса Искорка. Я прикидываю варианты. Солнечная Радуга все еще может быть моей – в том смысле, в котором уже стала моей, в царстве фантазии. В интернете есть семнадцать ее фотографий в соблазнительных позах и разных стадиях обнаженности. С ними я смогу годами создавать фантазии о наших отношениях. Однако есть и другая возможность – сейчас, на третий день конвента, привлечь к реализации моих фантазий соседку: возможно, завести какой-нибудь обычный разговор о клоунах, затем отпустить какой-нибудь безобидный комплимент ее технике грима – вроде как прощупать почву – и в зависимости от проявленного интереса предложить вместе выпить. Если согласится, я скажу, что выпить мы можем только прямо после работы, потому что позже у меня встреча, затем предложить оставить клоунский грим, чтобы сэкономить время. А там видно будет.
Я набираюсь смелости и заговариваю с клоунессой. Оказывается, ее зовут Лори, и когда-то она работала в бродячем цирке с каким-то там названием (я не особо слушал), а потом стала слишком стара для профессиональной клоунады. Карьеры клоунесс – как и гимнасток, и балерин – недолговечны и завершаются, когда им становится чуть за двадцать. Это невероятно несправедливые, двойные сексистские стандарты, что мужчина может выступать чуть ли не до восьмидесяти и часто – в паре с неуместно молодыми клоунессами в роли жен. Я соболезную Лори, которая в свои тридцать все еще достаточно привлекательная клоунесса. Кажется, этим я зарабатываю пару очков и приглашаю ее выпить после работы. Прямо после работы. Она соглашается.
– Меня немного смущает, что я сижу в баре в полном гриме, – говорит Лори.
– Ну что ты. Ты самая обаятельная женщина в заведении. Как среди клоунесс, так и нет.
– Хорошо, – говорит она. – Спасибо.
– Скажи, что ты конкретно за клоунесса?
– Ты хотел сказать, что я была за клоунесса.
– Нет. Я настаиваю на том, что ты все еще клоунесса в самом расцвете сил. Я считаю, что принудительный выход на пенсию для клоунесс – это национальный позор.
Она улыбается.
– Ну, таких, как я, называют «жонглирующие инженю».
– Ты жонглируешь?
– Да. Я – мастер падать на задницу и делать трюки с ведром конфетти.
Я осторожно поправляю член.
– Я люблю клоунов, – говорю я. Чтобы прощупать почву. Если она поймет меня неправильно (то есть правильно), смогу правдоподобно выкрутиться.
– Правда? – говорит она.
Понятия не имею, как именно она меня поняла. Из-за клоунского грима сложно разглядеть нюансы мимики. Она вечно улыбается, как чудовище из ада.
– Правда, – говорю я.
– Ох, – говорит она. – Я слишком старая для этого грима! Я убого выгляжу.
– Нет, – говорю я, вскользь, быстро касаясь ее руки.
Пауза.
– Ты где-то здесь недалеко живешь? – спрашивает она.
– У меня довольно маленькая квартира.
Не хочется ей говорить, что у меня нет кровати, на случай если я неправильно ее понял, но я пытаюсь намекнуть. Полагаю, заниматься сексом в моем спальном кресле будет неприятно.
– Студия?
– Очень маленькая студия. У меня даже места для кровати нет! Представляешь? Вот настолько маленькая!
– Ох, – говорит она. Она разочарована? Моя бедность вызывает у нее отвращение? Будь проклят чудовищный грим. Совершенно не дает прочесть ее эмоции.
– А ты как? – спрашиваю я. – Далеко живешь?
– Западная 50-я, квартира на весь этаж. Неловко признаваться, но с квартирой мне помогают родители.
Она говорит, что мне вовсе не стоит стыдиться бедности.
– Мило, – отвечаю я. – Прекрасно, когда есть родители.
– Скажи, а? – говорит она и смеется.
Я смеюсь. Несколько минут мы в неловкой тишине потягиваем наши напитки. Затем снова смеемся. Затем снова замолкаем. Все это очень странно.
– Хочешь посмотреть? – наконец спрашивает она.
– Посмотреть на что? – говорю я, все еще стараясь избежать оплошностей.
– Ох, – говорит она.
Кажется, я ее обидел, хотя на лице у нее все еще красуется огромная, красная, нарисованная улыбка. Я что, все испортил, пытаясь притвориться, что не понял ее приглашения? Я иду в наступление.
– А, так ты про квартиру? – говорю я.
– Эм-м, – говорит она. – Знаешь, я даже не знаю. Просто подумала, тебе будет интересно увидеть квартиру на весь этаж в здании с довоенной проектировкой. Если, конечно, любишь архитектуру.
– Я не большой фанат архитектуры…
Зачем я это сказал? Просто вырвалось. Просто не хотелось, чтобы она подумала, будто я фанатею от архитектуры. Не знаю, почему мне было так важно прояснить этот момент. Просто хотелось выглядеть нормальным. Зря.
– А, ну ладно, – говорит она.
– Но знаешь что? – продолжаю я. – Мне нравится Западная 50-я.
Что это вообще значит? Что я пытаюсь сказать? Надеюсь, она не станет уточнять.
– О, правда?
Кажется, она взволнована. Это многообещающе.
– Да, Западная 50-я – это десять кварталов прекрасных зданий! – добавляет она.
– Это точно, – соглашаюсь я.
Что напишут в моем некрологе? Вот о чем я размышляю, пока мы направляемся на запад. Я часто это себе представляю. Не только некролог, но и сетевые панегирики в виде твитов от людей из кинобизнеса. Rest in power[95]95
В США «rest in power» («покойся с силой», по аналогии с общепринятым «rest in peace» – «покойся с миром») – это выражение, которое в основном используют черные и ЛГБТ-сообщества, чтобы чествовать умершего, который боролся с предрассудками и сам страдал от них.
[Закрыть], глубокомысленные цитаты из моих произведений, упоминания о моей самоотверженности, моей дружбе, как я приносил суп или утешал приятеля с разбитым сердцем (надо бы не забыть хоть раз кого-нибудь утешить), зубовный скрежет о том, что я был слишком молод, то, что я был «критиком для критиков». Представляю, как оказываюсь в тренде. Лишь ненадолго. Всего на день. Я не жадный. Чтобы прийти к приемлемой строчке в рейтинге трендов, в жизни еще многое нужно успеть сделать, но открытие и толкование фильма Инго Катберта – это важный шаг к достижению поставленной цели. Это будет славный день. Они пожалеют, что я ушел, в то время как множество менее талантливых и более злобных белых мужчин в кинокритике продолжают процветать. Есть даже злые кинокритики из числа меньшинств, но об этом нельзя говорить вслух. Жду не дождусь, когда смогу лицезреть эти излияния скорби и любви. И хотя меня уже не будет и лицезреть я не смогу, я все же верю, что все еще буду и смогу.
В квартире – которая, увы, не обставлена в клоунском стиле – Лори наливает мне бокал вина. Вино белое – то есть вино для тех, кто не любит вино, – но об этом я Лори не говорю. Белое – это игрушечное вино. Это вино для детей. Вино для дебилов. Она зажигает несколько свечей и отлучается, чтобы переодеться во что-то более удобное.
– Не стоит ради меня избавляться от грима, – говорю я.
– Что ты имеешь в виду? – она оборачивается в дверях.
– Что? Просто что я не против, если ты останешься в гриме.
– Ты не против?
– Да. Если, конечно, ты не против.
– О боже. Б., да у тебя… у тебя фетиш на клоунов?
– Что? Нет! Такой фетиш вообще бывает? Не говори глупостей. Конечно же нет. Это ненормально. Я так скажу: если ты когда-нибудь с таким сталкивалась, особенно со стороны белых мужчин, конечно, – и под белыми я не имею в виду клоунский грим, ха-ха, – то я хотел бы извиниться перед тобой от лица всех мужчин, серьезно, это отвратительно. Правда. А квартира очень милая.
– Хорошо. Значит, я ошиблась. Скоро вернусь. А ты пока располагайся.
– Спасибо.
Она выходит из спальни, и я ухожу. А что еще остается?
Всю ночь я сижу в кресле, не смыкая глаз. Я поступил неправильно и, возможно, даже обидно по отношению к Клоунессе Лори. В каком-то смысле, мне кажется, я отказался видеть в ней человека, а воспринимал ее просто как объект, приносящий сексуальное удовлетворение. Это противоречит всему, за что я борюсь как мужчина и как феминист. Мне стыдно, и я стараюсь стать лучше и сражаюсь со своими демонами, терзаясь угрызениями совести. Я в темноте души, как однажды пел Фрэнсис Скотт Кей[96]96
Розенберг имеет в виду строчку из сборника эссе Фицджеральда «Crack-Up»: «В темноте души всегда три часа ночи».
[Закрыть]. Нет, не Кей, Фицджеральд – с моим рассудком что-то не так – и не пел, а написал, и даже не он это придумал. Настоящий автор – Иоанн Креста, босоногий кармелит, написавший изначальное стихотворение. Но кто бы там ни был изначальным автором, главное то, что это я и переживаю в данный момент. «Потеряв боты с ног, он стал босоног» – вот остроумная реплика, которую я уже несколько десятилетий пытаюсь вставить в какую-нибудь беседу. Не такая уж и хорошая, думаю я, повторив ее в мыслях. Сказать по правде, мне просто хочется, чтобы люди знали, что я знаю это слово. Возможно, стоит написать статью о «Босоногих по парку», или «Босоногих по мостовой», или, может быть даже о фильме «Восемь выходят из игры», где я упомяну Босоногого Джо Джексона. Я набрасываю заметки в прикресленный блокнот:
Слова, которые хорошо бы использовать в тексте:
Босоногий
Кьяроскуро (с этим проблем быть не должно!)
Фактичность
Метание
Раротонгский
Скабрезный
Мой разум – торнадо спутанных мыслей и эмоций. Я переживаю в метаниях, что больше никогда не смогу уснуть.
Но засыпаю. Почти мгновенно.
Просыпаюсь, отстегиваю себя от кресла, писаю, смотрю в окно и возвращаюсь в кресло, чтобы продолжить темноту своей души. С чего меня вообще потянуло на клоунов? Как правило, я не люблю клоунов и клоунаду в целом. С философской точки зрения я противник комедии в любом виде. Кто-то может возразить, мол, ты разве не любишь Апатоу? Но Апатоу снимает не комедии. Отнюдь нет. Ибо комедия по своей природе жестока и презрительна. Юмор обращается лишь к внешности, к поверхности. Он судит. Он унижает и стыдит. В комедии нет доброты. Ей нужна жертва, даже если эта жертва – человеческое «я». Клоунада воплощает в себе всю подлость не-клоунады, но с дополнительным слоем оскорбительного телесного гротеска.
И тем не менее.
Что я чувствую, когда вижу женщину в клоунском гриме? Когда вижу Солнечную Радугу? Когда вижу Клоунессу Лори? Когда вижу нескольких обнаженных клоунесс во вкладке в браузере прямо сейчас? Я – то самое чудовище, которое никогда не сможет полностью понять себя: белый мужчина.
В голову вдруг приходит, что мне уже давно не терпится показать в разговоре правильное произношение слова «пиранья». Пииррр-ань-я. Поразительно, как много людей в мире не умеют говорить по-португальски.
Еще несколько слов, которые я рассчитываю когда-нибудь правильно произнести в разговорах с людьми:
Leerstelle
Flaneur
Cibosity
Nocebo
Shimpo
Trompe l’oeil[97]97
Фланер (фр.).
Хранилище еды (устар.).
Ноцебо (плацебо, вызывающее негативную реакцию, лат.).
Симпо (вариант названия POEMS-синдрома, по фамилии открывшего его исследователя, яп.).
Тромплёй (разделено на два слова; букв. «обман зрения», фр.).
[Закрыть]
В последний день клоунского конвента стенд Клоунессы Лори остается закрытым. Возможно, она решила не приходить. Я чувствую вину и в то же время облегчение. Без нее тут как-то легче. Однако происходит нечто странное. Ко мне подходят несколько женщин и заводят разговоры о клоунских ботинках. По моим прикидкам, им всем за тридцать, и они очень странно себя ведут. Спрашивают про ботинки, но тон у них при этом злой и надменный. В голову приходит, что одна из них вполне может оказаться Лори без грима. В конце концов, я ведь не знаю, как она выглядит, и, сказать по правде, даже не помню ее прическу. По-моему, она малость ниже меня, вес где-то 55 кило, плюс-минус сколько-то граммов. Любая из этих женщин может оказаться Лори. И если одна из них (или все) – Лори, то что за игру она (или они) затеяла? Я покрываюсь утиной кожей. Или гусиной? Возможно, мне стоит спрятаться где-то неподалеку от ее дома довоенной постройки и подождать, когда она появится, чтобы раз и навсегда узнать, как она выглядит без грима. Через дорогу есть прачечная. Может пригодиться.
Барассини и Цай до сих пор в своем таймшере, так что я возвращаюсь домой, сажусь в спальное кресло и всеми силами пытаюсь вызвать в памяти фильм, пользуясь записями Барассини. Сигналы машин. Сирены. Гудение радиатора. Я вставляю беруши, внешние шумы гаснут, а звон в ушах усиливается. И вновь я пытаюсь вызвать в памяти фильм. Осознав, что не слышу запись из-за берушей, вынимаю их. Через какое-то время вижу фильм. Открывающая сцена: снегопад в Пайн-Барренсе, штат Нью-Джерси. Камера лениво скользит вправо в поисках… нет, стойте. Это не открывающая сцена. Открывающая сцена – это ураган в Галвестоне в 1900 году. Человек борется с ветром, пока идет по волнолому на фоне идеально воспроизведенной миниатюры отеля «Галвес». Это забавно, потому что у него то и дело сдувает цилиндр. Каждый раз он бежит за цилиндром и каждый раз снова его надевает лишь для того, чтобы тот снова сдуло. Это многое говорит нам о классовых претензиях, ведь даже когда мир вокруг него… Нет. Это будет позже, ведь мы уже знаем, что этот денди – отец метеоролога, но как мы об этом узнали? Во флешбэке? Если так, то эта сцена сильно, сильно позже. Думай!
Сцена должна быть позже, потому что она объяснит одержимость метеоролога погодой, ведь его отец погиб именно в галвестонском урагане. Зрелищная сцена: невозможно даже представить себе, какой нужен талант, чтобы не только анимировать столь мощный ураган, но и передать смену тональности, плавно переходящей от легкой комедии о том, как человек гоняется за шляпой, до жестокости, с которой шторм подхватывает его и несет вверх тормашками над Галвестоном, позволяя зрителю увидеть катастрофические разрушения города с высоты птичьего полета. В истории кино эта сцена стоит особняком. Заканчивается она тем, что уже безжизненное тело падает с небес к ногам его маленького сына, и так зритель без единого слова узнаёт все, что нужно знать об одержимости, с какой в будущем ребенок попытается отыскать порядок в кажущемся вселенском хаосе. Так как же все-таки фильм начинается и почему я путаюсь в хронологии? Я помню, что эта сцена – где-то ближе к началу. Как и рождение Моллоя в хижине в Пайн-Барренсе. Я помню, как во вьюгу с неба посыпались младенцы и бились о заснеженную землю, оставляя ярко-алые кляксы (но разве фильм не черно-белый?). Еще было Сент-Огастинское Чудовище, его выбросило на берег… как же назывался тот пляж? Мальчишки на велосипедах. Это уже в середине 1890-х, до Галвестона. И это тоже не первая сцена. Еще был мясной дождь в Кентукки в 1876 году. Разве все началось с него? Наличие в фильме путешествий во времени мешает – а то и вовсе делает невозможным – выстроить хронологию. Возможно, там и нет никакой первой сцены, а стало быть, и никакого начала, а стало быть, всегда есть что-то раньше. Будь у меня так называемое «окно времени», изобретенное метеорологом, с чьей помощью он мог с точностью предсказывать, что было и что будет… Стойте. А его как-то звали? Не могу вспомнить ни одного случая, когда бы его называли по имени. Даже когда Сильвия находит пожелтевшую газетную фотографию, где он стоит вместе с группой других метеорологов, в подписи его имя размыто. Инго даже акцентирует на этом внимание. Почему он безымянный? «Христос и безыменна обезьяна / Столкнулись и едины формой стали, / Какой и мы не избежали»? Так написал Хью Макдиармид[98]98
Хью Макдиармид (1892–1978) – шотландский поэт, кельтский националист. Пытался создать шотландский язык из сплава диалектов, самая известная попытка – «Пьяница смотрит на чертополох» («A drunk man looks at the Thistle»; откуда и приведена цитата), в поэму включены вольные переводы Александра Блока.
[Закрыть] в стихотворении, которое, пожалуй, как ничто другое изменило мое Weltanschauung[99]99
Weltanschauung – миропонимание, мировоззрение (нем.).
[Закрыть]. Метеоролог – безымянная обезьяна? Это ли Инго пытается нам сказать? Что своим даром предсказателя тот обязан не какой-то там простой (или, точнее, сложной) технологии, но христианскому Сыну Божьему?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































