Текст книги "Муравечество"
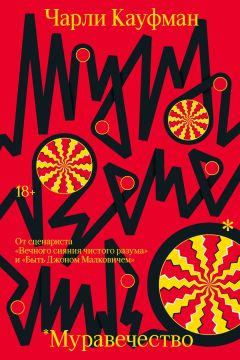
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 45 страниц)
Глава 52
Руни и Дудл попивают мартини в популярном и многолюдном голливудском баре. Проходящие мимо хлопают их по спинам. Они знаменитости. В отдалении, за столиком в углу рядом с мужским туалетом, за ними наблюдают Эбботт и Костелло, угрюмые и забытые.
– Студия хочет, чтобы мы как можно скорее сняли еще один фильм, – говорит Дудл.
– Отлично. Уже в процессе.
– Хотят, чтобы мы сосредоточились на трюках.
– Но мы не делаем трюки.
– Все думают, что делаем. В следующем фильме хотят побольше масштабных.
– Тот трюк был несчастным случаем.
– Они этого не знают.
– Надо рассказать.
– Нельзя. Это единственная причина, почему с нами хотят снять еще один фильм.
– В тот раз нам просто повезло.
– Ну, повезет и в этот.
– Не знаю.
– Слушай. Нам предоставили список из пяти трюков, которые они хотят видеть.
– Пяти?
– Да. Посмотрим… Первый: «Руни…»
– Это я. Ну конечно же.
– Да. «Руни катапультируют из развалившегося самосвала на дерево, которое как раз срубает дровосек».
– Что-то мне не хочется.
– Второй: «Руни сбивает поезд».
– И это вся шутка? Что меня сбивает поезд?
– Так тут написано.
– И что тут смешного?
– Ты смешной. С тобой происходит всякое. Благодаря тебе это всякое – смешно. Третий: «Руни притворяется столетним стариком (сами придумайте почему) и загорается, когда задувает сто свечей на своем торте».
– Опять Руни?
Дудл сверяется со списком.
– Ну да.
– Мне это не нравится.
– Это же они выписывают нам чеки. Четвертый: «Дудл…»
– Наконец-то!
– «…пытается спасти Руни, который свисает с бельевой веревки на пятом этаже жилого дома. У него не получается спасти друга. Руни летит четыре этажа сквозь бельевые веревки и приземляется одетым как девушка».
– Не буду я одеваться в девушку. Здесь я провожу черту.
– И пятый: «Руни расслабляется в кресле, читая книгу…»
– Ладно. Это я могу.
– «…пока падает с самолета».
– И с чего это я буду расслабляться в кресле, пока падаю с самолета?
– Опять же, тут написано, что решать нам. Нам не хотят диктовать, как работать. Дают пространство для маневра.
– Ну, я ничего этого делать не буду.
– Хочешь прикончить нашу карьеру?
– Не хочу прикончить себя.
– Ну, это очень эгоистично.
Я всего-то прошу, чтобы меня оставили в покое. Я всего-то прошу, чтобы не трогали мой кусочек недвижимости в этом автобусе. Я заплатил – правильно? – за эту крохотную площадь. Хватает же мне достоинства не залезать на вашу. Не заметили? Совсем не думаете о чужом удобстве. Вы сзади – пропихиваете свои голые ноги мне под кресло. Вы сбоку – лезете на мою территорию локтями и коленями. Все проблемы мира можно свести к автобусному этикету. О современник, ужель ты не в силах постичь, что если тебе неудобно в до смешного маленьком пространстве, отведенном на сем автобусе, то и человеку по соседству неудобно точно так же? Не верю, что в силах. Не верю, что есть в тебе порядочность, чтобы подумать хоть о чем-то, кроме собственных животных потребностей. А то и, быть может, все еще хуже: ты в силах постичь, но черпаешь садистское удовольствие от изощренной пытки, орудуя, так сказать, своим огромным мечом-членом, поскольку – да – ты почти всегда мужчина. Женщины называют это менсплейнингом – нет, как-то по-другому, – женщины называют это менспредингом, и мне стыдно причислять себя к этому порочному полу. Мне и так плохо. Я потерял самое важное произведение в своей карьере. И восстановление его оказалось болезненным и затянутым. И даже возможно, что я вообще ничего не вспоминаю, а выдумываю на ходу или даже подвергаюсь неэтичному влиянию гипнотизера-злоумышленника. Об этом вы подумали, люди? Нет, вы не подумали спросить, почему я пла́чу в этом автобусе. Возможно, вас это не волнует. Возможно, вы считаете меня жалким: взрослый мужчина рыдает, будто взрослая женщина (тон). Возможно, я вам отвратителен. Что ж, возможно, это вы проблема, а не я. Возможно, это вы отвратительны. Возможно, никогда и ничто в жизни не заботило вас настолько, чтобы рыдать из-за утраты. Если так, то это вы достойны жалости. Вы продолжите свое мужланское существование, тешась мелким удовольствием от того, что берете не свое, идете туда, где вам не рады, суете локоть в чужое законно приобретенное пространство. А потом умрете. Поздравляю: вот ваша жизнь. Надеюсь, вы довольны. Надеюсь, вы не пожалеете на смертном одре, что ни разу не испытали любви, или радости, или утраты. Да, утраты. В утрате заключена глубочайшая нежная меланхолия. Это самая изысканная и яркая специя на кухонной полке жизни. Как жаль, что ты ее не попробуешь, приятель. Пожалуй, она не идет к бургерам с пивом.
Стоп, это на улице Клоунесса Лори? Может быть. Вполне может быть. Я дергаю за шнур[140]140
Американские автобусы нередко оснащены шнуром, протянутым вдоль окон. Чтобы потребовать остановку, пассажир должен потянуть шнур вниз.
[Закрыть], выхожу, следую на ней. Все еще плачу. Мне кажется, если я подойду поближе к этой возможной Клоунессе Лори, то, может быть, узнаю ее наверняка. Она набирает номер на телефоне. Идеально. Я услышу голос. Тогда все сойдется. Не очень представляю, что сделаю, если это она, но, пожалуй, не исключено, что смогу заново разжечь наши отношения. Откуда ей знать, вдруг в вечер, когда я ушел, у меня что-то случилось. А потом я не мог ей позвонить и извиниться, потому что ее поместили под защиту свидетелей. Точно. Скажу, что у меня что-то случилось. Из-за чего я не мог ей сказать, что ухожу? Должно же что-нибудь быть. Какое-нибудь хорошее объяснение. Может, мне сообщили, что в моем доме пожар. Пока она идет впереди, я смотрю на ее задницу. Совсем неплохо. Если откровенно, я даже не помню задницу Клоунессы Лори. Кажется, я замечал только лицо, так был одержим клоунским аспектом ее личности. Возможно, получится объяснить, что я ничего не сказал, когда ушел в ту ночь, внезапной утратой голоса. Внезапно лишился дара речи, испугался и бросился бежать в голосовую больницу за речевым лекарством. Мне сказали – истерическая афония. Не такая уж редкость, как сперва можно подумать. Неплохой вариант. Хотя лучше применить термин «психогенная афония», чтобы не вытаскивать лишний раз патриархально-женоненавистническую «истерику». Мало что знаю о чувствительности Клоунессы Лори по поводу женских проблем, но тем не менее только заработаю лишних очков, если объясню, что предпочитаю не называть серьезный эмоциональный стресс «истерией». Внезапно вспоминается удивительно любительский и оскорбительный фильм под названием «Адаптация» от минимально одаренного сценариста Чарли Кауфмана. Там есть сцена, где Николас Кейдж (благодаря наиболее дерзкой и нарциссической уловке Кауфмана сыгравший сразу ДВУХ Чарли Кауфманов!) следует за Мерил Стрип, которая играет блестящую журналистку «Нью-Йоркера» Сьюзен Орлеан. Фильм построен на том, что два эти кошмарных Кауфмана следят за Орлеан, и это заставляет меня задуматься о собственном поведении. Хочу ли я, чтобы в этом мире было два Чарли Кауфмана, что беспечно пугают ничего не подозревающих женщин, следуя за ними по злым улицам Нью-Йорка? Нисколько. Я не желаю иметь ничего общего с этим гнусным проходимцем, этим мелким жалким еврейским клопом-сценаристом, этим Малкольмом Гладуэллом[141]141
Малкольм Гладуэлл (род. 1963) – канадский журналист и поп-социолог, внешне похожий на Чарли Кауфмана.
[Закрыть] недоделанным, этим…
Внезапно рабочий с очень длинной доской на плече разворачивается, услышав автомобильный сигнал, и крепко бьет меня прямо в лицо. Я отлетаю и падаю вверх тормашками в мусорку, в бороду набивается сыр из выброшенной бумажной тарелки с начос. Рабочий бежит ко мне и извиняется на каком-то омерзительном языке. Я догадываюсь, что он не хочет из-за меня проблем, что он нелегальный работник. Как человек, свободно владеющий пятью языками и терпимо – еще шестью (свободно: арчинский, аймара, малагасийский, ротокас и сильбо гомеро; терпимо: чокто, кавишана, онгота, ньерёп, португальский и юпикский), должен сказать, меня удивляет, что я не могу разобрать эту паническую галиматью. Возможно, потому что мое внимание поделено на три части: его панику, растущую на моем облитом колой лбу шишку и гложущий вопрос, почему такое вечно происходит со мной. Возможная Клоунесса Лори давно скрылась. Рабочий все лопочет и лопочет, то ли умоляя, то ли еще что, от чего ужасная головная боль становится только хуже. Я навскидку пробую малагасийский:
– Tsara daholo ny zava-drehetra[142]142
Все хорошо.
[Закрыть].
Безрезультатно.
У Барассини над моей несчастной головушкой хлопочет и цокает языком раздражающе, излишне озабоченная Цай. Невыносимо. Нет, не нужен мне пакет со льдом. Нет, не нужно везти меня в травмпункт. Нет, не нужны мне две аспиринки. Или чай. Или вода. Нет, мне нравится сыр на бороде. Боже мой, женщина, оставь ты меня в покое.
Когда Барассини зовет в кабинет, мы оба закатываем глаза в маскулинной солидарности.
– Рассказывай.
В прокат «Мадд и Моллой встречают 32-футового человека» выходит в захолустье, премьера – в Монтгомери, штат Алабама, где после показа Шерилд должен выйти и продемонстрировать, что он настоящий великан. Расчет на то, что его размер заслужит внимание и тем самым принесет фильму широкую бесплатную рекламу. Сейчас он втиснут в кузов двух фур перед кинотеатром.
Моллой шагает взад-вперед по улице. Мадд курит и таращится на заусенцы. У Моллоя загораются глаза.
– Предлагаю увезти фуры за город, – говорит он.
– Зачем это? – спрашивает Мадд.
– Шерилда хотят сделать главной звездой. Наши выступления, поочередно комические и высокодраматические, будут утеряны в шумихе из-за фрика. Этот фильм – наш билет из глухомани, а не Шерилда. Мы это заслужили. А он просто фрик. Фрик, фрик, фрик!
– Ну, не знаю, Чик. Он приятный парень. А киднеппинг есть киднеппинг.
– Он фрик. Фрикнеппинг. Совершенно законно.
– Ты знаешь, о чем я. Он молодой человек. И похищать фриков тоже не разрешается. Не знаю, как это называется, но знаю, что это незаконно.
– Фрикнеппинг. Я же только что сказал.
– Ладно.
– Это наш билет из глухомани, Бад. Или, по крайней мере, должен быть нашим. Уже представляю себе статью Босли Краузера в «Таймс»: «Преступно невоспетому комическому дуэту Мадда и Моллоя наконец-то воздают должное. Эти два мастера веселья, попеременно то жизнелюбивые, а то ужасающие, то задорные, а то надрывные, то смешные, а то не смешные, раскрывают множество дополнительных уровней своей „смекалки“, и уж я точно с нетерпением и затаенным дыханием жду их следующей кинематографической пробы». А Шерилда вернем после рецензии Краузера. К этому времени мы уже прогремим.
– Ну, не знаю, Чик.
– Просто садись в кабину.
– Это штука, которая спереди?
– Да. Спереди.
– Ладно.
Они уезжают.
В кинотеатре у задних рядов нервно ходит взад-вперед Джеральд Фейнберг. Он молодой продюсер, родственник бывшей жены Моллоя. Публика, похоже, увлечена подготовкой Мадда и Моллоя к убийству великана, который сидит на утесе и меланхолично смотрит на предвечернее небо.
– Ты только посмотри на закат, Марти, – говорит персонаж Моллоя. – Красиво?
– Еще бы, доктор Уильямс.
– Зови меня Роберт.
– Правда? Спасибо! – говорит юный великан.
– А теперь, Марти, помни: только не оглядывайся, – говорит персонаж Мадда.
– У вас для меня сюрприз, да?
– Да. Потому что мы тебя любим.
– О, я вас тоже люблю, – отвечает Марти.
На этом Мадд и Моллой выхватывают пистолеты и расстреливают великана. Стрелять приходится много-много раз, потому что пули по сравнению с телом Марти очень маленькие. Но в конце концов он умирает и соскальзывает с утеса прямиком в овраг.
Мадд и Моллой обнимаются и плачут. Женщины в зале плачут. Мужчины сидят с красными глазами.
Фейнберг не может поверить своей удаче. Он торопится наружу, подготовить сюрприз. Как только люди выйдут из кинотеатра и из кузова вылезет настоящий Шерилд, это станет самой известной картиной всех времен. «Это мой билет из глухомани», – говорит он продавщице попкорна.
Я смотрю, как он выходит после начала титров, но успеваю заметить на экране имя Алан. Алан. Алан. Что это значит? Почему оно меня так преследует?
Грузовика нет.
– Что за… – говорит Фейнберг.
Он бегает по кварталу и кричит: «Черт. Черт. Черт». Двери кинотеатра открываются, и выходит, взбудораженно болтая, публика.
– Какая находка! – говорит женщина средних лет.
– Боже мой! Он красавец! – говорит другая.
– Что бы я не отдала всего за одно свидание с этим здоровяком! – говорит третья.
– О да, – говорит четвертая. – М-м-м-м-м. Интересно, какой у него рост на самом деле.
– По меньшей мере метр восемьдесят. Видно по его длинным рукам.
– М-м-м-м. Идеальный рост.
– Согласна. Люблю высоких, но выше метра девяносто – это уже отдает уродством.
– Согласна. От метра восьмидесяти до метра восьмидесяти пяти.
– С затаенным дыханием жду его следующей пробы. Надеюсь, это будет романтическая комедия.
– М-м-м. Я тоже.
– Я тоже.
– О-о, и я тоже. С Дорис Дэй!
Фейнберг следует за беседующими дамами еще три квартала; они замолчали, но ему нужно убедиться.
– М-м-м. Я тоже, – наконец говорит последняя.
Фейнберг получил свой ответ.
Глава 53
Рецензия из «Голливуд Репортер»:
Сказать, что смотреть «Как делишки, братишка?», комедийную вылазку Руни и Дудла в мир пчеловодства, трудно, – это многократно преуменьшить. Публику чрезвычайно огорчат неустанные и, если откровенно, страшные физические травмы обоих героев (хотя Руни получает в разы больше травм). Признаться, юмористических сцен здесь в достатке. Определенно, падение Руни через веревки с вывешенным на просушку бельем, чтобы в конце оказаться одетым в женскую одежду, – это один из самых оригинальных пиков дурачества в истории, хотя смех несколько приглушает осознание, что при приземлении ноги Руни сломаны в пяти местах, и можно даже разглядеть тазовую кость, проткнувшую правое бедро (и женские шелковые чулки).
Руни и Дудл сидят, забытые, в популярном и многолюдном голливудском баре за маленьким столиком рядом с Эбботтом и Костелло и рядом с мужским туалетом.
– И что теперь? – спрашивает Руни.
– По-моему, кинокомедии для нас закрыты, – говорит Дудл.
– Никто не хочет видеть смешных калек.
– Зрителям некомфортно.
– И я могу их понять.
– Да. Да. Зрителей я не виню.
– Они тут ни при чем.
– Знаю.
– И все же. Мы в тупике.
– Других навыков у нас на самом деле нет.
– Жаль, что в Актернате не очень широкая программа обучения.
– Я даже на математику не ходил.
– Я ходил на математику для шоуменов.
– Но там только учили делать вид, будто знаешь математику.
– На случай, если тебя возьмут на роль ученого или еще кого, да.
– И теперь мы расплачиваемся.
– И что нам делать?
– Живое выступление? Может, для нас найдется местечко в настоящем театре.
– Вроде мюзикла «Ад раскрылся»?
– У Олсена и Джонсона получилось. Платят немного, но…
– Главное на самом деле – работа.
– На расстоянии безобразные шрамы разглядеть труднее.
– У меня тут была одна мыслишка. Мюзикл об аде.
– У Олсена и Джонсона получилось. «Ад раскрылся». Как назовешь свой?
– «Ад, мы и господа».
– Мне нравится. Это колумбур.
Меня увольняют из компании клоунской обуви. Никто не объясняет почему, но я подозреваю, что из-за Клоунессы Лори. Подозреваю, что из-за тараторящего рабочего она оглянулась, увидела меня и в кадровый отдел поступил звонок о моих склонностях. Так я подозреваю. Другого возможного объяснения нет.
– Рассказывай.
Премьера «Ад, мы и господа» проходит на Бродвее с большим успехом. Руни и Дудла снова превозносят за комедийный гений, и многие статьи начинаются с того, что Фрэнсис Скотт Кей, то есть Ф. Скотт Фицджеральд, ошибался, и в американской жизни бывает второй акт, и он выпал Руни и Дудлу, и это доказывает, что они существуют – то есть вторые акты существуют, а не Руни и Дудл. Служба по газетным вырезкам Эбботта и Костелло присылает следующее от «Нью-Йорк Таймс»:
Однажды Фрэнсис Скотт Кей написал, что в американской жизни нет второго акта. Что ж, удивительно смешное представление «Ад, мы и господа» Руни и Дудла опровергает эту старую поговорку, раз и навсегда отправляя Ф. Скотта Фицджеральда на свалку истории. Ибо Руни и Дудл вернулись и теперь ничуть не хуже, несмотря на все отвратительные шрамы. То, что двоица напоминает некогда выдающихся, ныне же смехотворных клоунов Эбботта и Костелло, не стоит ставить в упрек. Они бесконечно смешнее и умнее, чем этот дуэт за всю свою историю, даже в пору расцвета.
Эбботт и Костелло сидят на склоне холма Лос-Фелис. Эбботт курит.
– Руни и Дудл. Никак не угомонятся. Почему не мы написали «Ад, мы и господа»?
– Не знаю, Лу. Это хорошее представление. Свежее. Умное.
– О них надо позаботиться.
– По-моему, они и сами очень хорошо справляются, так что…
– Я хочу сказать, с ними нужно расправиться, Бад.
– Что ты хочешь сказать, Лу?
– Только одно: им пора двинуть кони.
– Коня, Лу? Того, что вы в Дэнбери приглядывали с Энн?
– Да нет никакого коня на самом деле! Это такое выражение!
– А. Ладно.
– Так что нам надо…
– Видимо, я просто не знаю, что значит это выражение.
– Значит, что мы их убьем.
– Но почему? Конь – это же хорошо. Я еще мог бы понять выражение «Им нужно расстаться с конем, потому что у них мало денег». Но даже это не подходит.
– Ты помнишь, что мы уже один раз пытались их убить?
– Это были Руни и Дудл?
– Среди прочих.
Теперь, когда у меня нет работы, я не могу оплачивать квартиру. Так что приглашаю соседа. Его зовут Доминик, и он предусмотрительно приходит с собственным спальным креслом. Из-за моих книжек и выдающейся коллекции сувениров в форме броненосцев Доминика приходится расположить спальные кресла бок о бок, касаясь подлокотниками, средь изобилия броненосцев. Мы как будто спим по соседству на коммерческом автобусе – автобусе, забитом броненосцами, – и это чересчур интимно. Доминик, как назло, страдает от отвратительного ожирения, так что свисает со своего кресла, и мы вечно воюем за мой подлокотник. Я не могу выступить против Доминика вслух; просто лежу (сижу) и поджидаю, когда он потрет нос или почешется мясистой рукой, занимающей подлокотник, и немедленно захватываю пространство. Из-за этого обстоятельства сплю я мало, и это начинает сказываться на настроении. Я думаю, что, видимо, совершил ошибку, когда согласился на соседство Доминика, но единственным другим вариантом был Себастьяно, который носит в набедренных ножнах нож боуи марки «Марблс» для джунглей. На тот момент выбор казался очевидным, но дело в том, что Себастьяно – стройный (как пантера, рассказывал он) и отлично уместился бы в собственное спальное кресло. Боюсь, этот поезд уже ушел, а впоследствии я узнал, что Доминик тоже носит на бедре нож боуи, просто я его не заметил из-за множества складок жира.
Доминик работает смешным носильщиком в комедийном отеле на Таймс-сквер под названием «Голова оленя», оформленном в стиле отеля из фильма Толстяка Арбакля «Коридорный» 1918 года. В Нью-Йорке очередная мода на киношные отели. Есть, конечно, «Оверлук» из «Сияния» и отель «Гранд-Будапешт» из «Отеля „Гранд-Будапешт“», а также два отеля Софии Копполы: «Парк Хаятт Токио» из «Трудностей перевода» и «Шато Мармон», который был где-то, но я забыл, где именно. Некоторые особенно хороши. «Плаза», теперь под названием «Плаза „Один Дома Два“», занимает отличное место на юго-восточном углу Центрального парка, и приятно видеть, как по выходным на посту в вестибюле стоит двадцать четыре часа в сутки президент Дональд Трамп, бесконечно исполняя свое камео[143]143
В фильме «Один дома 2» Дональд Трамп появляется в роли-камео. – Прим. ред.
[Закрыть]. Он выглядит усталым, грустным и очень старым. Больше всего претензий у меня к «Фреголи» на Восточной 64-й. Он основан на отеле из малоизвестного (даже для него!) фильма Чарли Кауфмана «Аномализа». Почему инвесторы усмотрели нужным воздать дань этому женоненавистническому, расистскому, классистскому кукольному убожеству – кстати говоря, кукольному убожеству, из-за которого студия потеряла целое состояние, – за пределами моего понимания. Этот отель – волдырь на теле Нью-Йорка. Могу представить определенный тип самовлюбленных псевдоинтеллектуалов, кому захочется там остановиться, но этих людей не стоит зазывать в наш город. Уж лучше построить реплику «Отеля Конкорд Сен-Лазар» (ныне «Хилтон Париж Опера») из годаровского шедевра 1985 года «Детектив». Пусть псевдоинтеллектуалы чувствуют собственное превосходство над другими туристами, проживая в воссозданном «Фонтенбло» из «Коридорного» Джерри Льюиса, тогда как истинные интеллектуалы смогут жить в одном и ужинать в другом, признавая важность обеих лент для кинематографического канона.
Вот чего не понимают эти «псевдо»: у «забегаловки» из Рене, Годара или Фасбиндера ценности не больше, чем у «забегаловки» из Джадда Апатоу, Джерри Льюиса или Шона Леви. Я открыл для себя истину: нам нужно смеяться, но главное, чтобы ничто не было объектом насмешек, чтобы никого не задевать. Наши клоуны и шуты, наши милостивые Принцы Комедии исполняют священный долг, даруя возможность похихикать над их умеренно юмористическими выходками. В конце концов, комедия – древнее искусство, существующее с незапамятных времен. Так что я чту людей о красном носе, мешковатых штанах и воздушных шариках с водой. Кого я не чту, так это комиков снисходительных: чарли кауфманов, пи-ви херманов, робертов дауни-старших (младший – гений). Эти мужчины (и это слово я употребляю в самом презрительно современном ключе) трехлично извратили благородную традицию доброго юмора, уходящую корнями в незапамятные времена, вставив собственную токсичную маскулинность, белую цисгендерную привилегию, фальшивую заботу о маленьком человеке, женоненавистничество в некогда чистую и восхитительную форму, уходящую корнями в незапамятные времена. Почему они считают женщин не за людей, а лишь за загадки, спасительниц и маниакальных девушек мечты (со стрижками пикси)? Может, им стоит начать с того, чтобы подружиться с женщиной. Или, может, переспать. Ниже по улице грохочет грузовик, растрясая множество стопок моих книг. Они валятся мне на голову, совершенно погребают. Я пробиваюсь наружу, потом шатаюсь по каморке, как пьяница, на нетвердых и заплетающихся ногах.
Доминик протискивается наружу из крохотной ванной, куда уходил переодеться в костюм коридорного. Он не переодевается передо мной и не раз обвинял меня в том, что я пялюсь.
– Что случилось? – спрашивает он.
– А ты не видишь? Здесь не так уж много куда можно посмотреть.
– Когда я спросил, что случилось, я имел в виду – как это случилось?
– Понимаю. Ну, позволь предложить в будущем говорить то, что ты имеешь в виду, а не вынуждать меня гадать.
– Ладно. Но мне все еще интересно.
– Как это случилось?
– Да.
– Вибрации грузовика, проезжавшего на улице, расшатали книги, и они упали на меня. Такова моя теория.
– Смотри, какая там книга.
– Где?
– Вон, единственная обложкой вверх.
Я оглядываю бардак, пока не замечаю «Заткнись: приглуши негативные мысли» от Кристи Пирс.
– Это твоя? – спрашиваю я.
– Я не читаю книги, а если бы читал, то не эту, а раз не читал бы эту, то и не покупал бы. Так что, одним словом, нет, – говорит Доминик.
– Ну, и не моя, – говорю я. – Следовательно, представления не имею, как она сюда попала.
– Кажется, ты называешь меня лжецом, – говорит он.
– Эй, тебе это впору, а тебе мало что впору, – отвечаю я.
Почему я лезу в драку с этим бегемотом и потенциальным мастером ножевого боя? Все как будто несется само собой вопреки моим желаниям. Доминик, как и предполагалось, мастер ножевого боя и гоняет меня в этом до нелепого маленьком пространстве кругами у стопки книжек, пока мы оба не превращаемся в масло, хотя это расизм[144]144
В детской сказке «История маленького черного Самбо» («The Story of Little Black Sambo», Хелен Баннерман, 1899) мальчик-индус обманул тигров, заставив их бегать кругами вокруг дерева, пока они не превратились в масло гхи. Позднее сказку критиковали за расистское изображение персонажей.
[Закрыть].
– Я тебя убью! – кричит теперь эта огромная лужа гхи с ножом – и, кажется, всерьез.
Возможно, публике бы это показалось комичным, если бы публика присутствовала, но для меня это отнюдь не комично. Это реально и страшно, и у Доминика чуждый огонь в глазах. Чуждый огонь. Какой необычный оборот. Откуда у меня в голове берутся эти фразы? Нужно потом погуглить, как только я спасусь из этой насущной и маслянистой опасности.
Оправившись, я в попытке расширить расстояние между уже оправившимся Домиником и собой перескакиваю через книжную стопку. Нога цепляется за кофейный столик, опрокидывает его и отправляет вазочку мне в лоб, о коий та и разбивается. Я падаю ничком в книги, в панике поднимаюсь на ноги и несусь ко входной двери, где начинаю возиться с семью засовами – их всегда было семь? Я так не думаю! – открываю дверь и юркаю в коридор. Доминик пытается последовать за мной, но в спешке забывает повернуться боком (только так он проходит в дверь) и застревает. Слышу резиновый скрип, всегда сопровождающий вклинивание Доминика в тесное пространство, и моментально расслабляюсь. Оборачиваюсь и благодушно улыбаюсь, прекрасно зная, что этим только еще больше его разъярю. Доминик краснеет, потом белеет, потом кричит:
– Чтоб духу твоего в квартире не было!
– Но, Доминик, это моя квартира, – елейно отвечаю я.
– Не волнует. Ты все равно мимо меня не пройдешь, пока я застрял.
– Рано или поздно ты освободишься.
– Освобожусь и рано или поздно мастерски зарежу тебя освободившейся рукой.
И ведь зарежет. Могу представить. И вот так вмиг я становлюсь бездомным. Блуждаю по улицам. Сижу в библиотеке, чтобы согреться. Гуглю там «чуждый огонь». Книга Левит 10: 1, сыновья Аарона, Бибоп и Неру (насколько я помню), приносят Богу непригодную жертву на неправильном огне (тут я не разобрался), творец не принял ее и сжег их заодно с подношением (предположительно, правильным огнем). Та непригодная, неприемлемая жертва называется чуждым огнем. Значит, любопытный выбор слов с моей стороны. Я не знаток Ветхого Завета, хотя получил отлично на бакалаврском курсе сравнительной религии за курсовую под названием «Генерация щедрости: генеральные тренды в межпоколенческом трансгендерстве среди анимистов камбоджийских хмонгов при власти короля Сианука в сравнении с теми же у тунгусских шаманистов Циньюаня, Цяньлуна, Куаньчэна и Фэнчэна при Мао». Но это не помогает с текущей дилеммой, а именно с тем, что все плохо. Чуть-чуть помогает, но не сильно.
Кто-то следит за мной, осуждает меня, презирает, подстраивает катастрофы, как малые, так и крупные. В этом я теперь уверен. Я регулярно проваливаюсь в тон-ки, но еще меня ненавидит дочь, что причиняет боль, не поддающуюся измерению ни по одной существующей шкале боли. Она со мной не разговаривает. Она пишет обо мне эссе и стихи и публикует в своем блоге и на Джезебел. ком. Там на меня плюет и срет армия комментаторов, доверяя безо всяких доказательств, что ее заявления точны, вески и истинны. Я – только повод для этих анонимов, которым нужно что-то ненавидеть, кого-то винить, кому-то отказывать в сострадании. И я читаю каждое эссе Грейс, потому что подписан на службу, извещающую всякий раз, когда в Сети появляется мое имя. Всегда в статьях Грейс. Больше мое имя не появляется нигде. Так что я читаю каждую – что-то вроде самобичевания, если самобичевание помогает напомнить, что ты еще существуешь. Потом читаю каждый комментарий – комментарии от Блобеллы, и ИстинноБезумноПокормиМеня, и ДеткаСнаружиХолоДно[145]145
Игра слов со строчками из популярных песен: «Truly Madly Deeply» и «Baby It’s Cold Outside».
[Закрыть], и ИзОгня, и КровьИзНосу, и ЖенщинаКотораяБудетКоролем, и МойКотенокЭдна, и АнальныеШарикиБерта. Я знаю их всех. Я представляю себе, как они сидят у ее клавиатуры и надменно порицают меня. На этих сайтах мне регулярно желают смерти.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































