Текст книги "Муравечество"
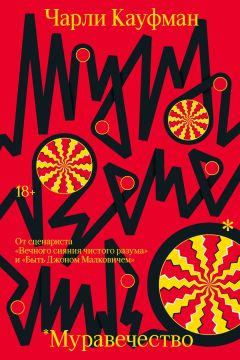
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 45 страниц)
Глава 54
«Ад, мы и господа» – на середине второго уморительного акта. Руни и Дудл, плотники в аду, поют серенаду Долорес дель Рио в роли Вельзевула.
Дудл:
Говорят, в аду
Жарко, как в аду.
Но это пламя —
Одно названье,
В сравненьи с тем, как от тебя горю.
Руни и Дудл:
О, люблю тебя, чертовка,
Скорей бери меня, черт побери.
Кто ж знал, что в преисподней
С тобой в одном исподнем
Вдвоем огнем мы вспыхнем от любви?
Словно по сигналу, за сценой вспыхивает спичка, ее подносят к лакированным доскам. Огонь занимается; почти мгновенно все декорации горят и падают на публику. Пожар скор и брутален. Из-за того что театральные кресла дешевые, из полиуретана от «И. Г. Фарбен»[146]146
Немецкий конгломерат, также производивший пестицид «Циклон Б» для газовых камер во время Второй мировой войны.
[Закрыть], обшиты изопреном и лакированы пластифицированным бензином, в театре довольно низкая температура вспышки, и даже простая искра может вмиг спалить здание дотла. «Это был излишне горючий выбор материалов, – говорил Ирвин Челло из «Американских кресел». – Теперь мы это знаем. Но все мы крепки задним умом».
Руни и Дудл чудом остаются невредимы благодаря своим асбестовым костюмам «измученных душ», но тысяча двести человек из зрителей и сценических работников погибают.
Из «Вэрайети»:
Вчера вечером «Ад, мы и господа» оправдал свое название, когда театр Шуберта превратился в геенну огненную, где в мучениях погибли 1200 человек. Звезды Руни и Дудл выжили, но с тем же успехом могли бы и умереть, потому что путь в шоу-бизнес им теперь заказан. Управляющий театром Мортон Клипп дал следующий комментарий: «Эти двое? Им теперь заказан путь в шоу-бизнес. Они сожгли все мосты. И я имею в виду не декорацию „Мост в Ад“, которая стояла на сцене во время инцидента. Хотя и это тоже. Им конец, это верняк. Конец».
Дудл откладывает «Вэрайети» на стол и смотрит на партнера напротив.
– Нехорошо на душе.
– Мне тоже.
– Столько людей пришли в пятницу вечером расслабиться после тяжелой рабочей недели.
– Знаю. Мне нехорошо. Я так и сказал.
– И нам, пожалуй, будет нехорошо. Не то чтобы мы вышли невредимыми.
– Разве что физически.
– Разве что, да.
– Что нам делать? Актернат больше ни к чему не готовил.
– Ты ходил на курс «Преступление окупается»?
– Курс «Как получить роль преступника»?
– Да.
– На том курсе я немало узнал о криминальной деятельности.
– И все казалось довольно правдиво.
– Правда. Они даже пригласили читать лекции медвежатника на пенсии.
– Ловкач О’Грэди!
– Славный малый.
– Обожал его. А преступление с виду похоже на профессию, куда берут без особого образования.
– О’Грэди даже в школе не учился. Даже в школе исполнительского искусства.
– Хотя все же не стоит так сразу делить шкуру неубитого медведя.
– Неубитого медвежатника!
– Ха-ха.
– Ха-ха. Жаль, уже не применим эту шутку, раз нас выставили из шоу-бизнеса. Хорошая.
– Жаль. Я запишу на всякий случай.
– Надо сменить имена. Руни и Дудл не похожи на имена преступников.
– И то правда. Какие есть криминальные дуэты?
– Бонни и Клайд. Леопольд и Лёб. Берк и Хейр.
– Ого, знаешь их, как отпечатки своих пальцев.
– А то. Томпсон и Байуотерс.
– Хм-м. Надо, чтобы звучало серьезно.
– Руд и Дун?
– Мне нравится.
– Неплохо.
– Я бы испугался Руда и Дуна.
– Тогда Руд и Дун.
– Или Рун и Дуд?
– Может. Да.
– Но нам же не придется быть убийцами, да?
– Я не очень хочу убивать еще больше людей, если можно обойтись без этого.
– Никаких убийств. Только ограбления.
– Грабители Руд и Дун.
– Рун и Дуд?
– Да, как скажешь.
* * *
Барассини пускает меня ночевать в его ящике для носков, который по неизвестным мне причинам огромен. Или это я съежился еще больше? Не могу встать у своего косяка, чтобы проверить. На скомканных носках довольно удобно, а еще темно и тихо. Единственная проблема – по утрам меня приходится кому-то выпускать. Это значит, что по ночам я не могу встать и пописать, что я обычно делаю как минимум дважды. С некоторым смущением я сообщаю Барассини о своих проблемах мочевого пузыря и спрашиваю, нельзя ли оставить ящик открытым, чтобы вылезать по необходимости. Он говорит «нет» и дает мне пластиковую бутылку из-под апельсинового сока, «как у дальнобойщиков». Дарованному скакуну не дозволено осматривать зубы, как, полагаю, гласит старинная пословица.
– Ладно, давай.
Я в пещере. Здесь же и метеоролог, возится с массивной машиной из электронных ламп, датчиков, мигающих огоньков и сотен проводов. Компьютер древний, и он охватывает весь периметр этого огромного пространства. Принтер в одном конце сплевывает рисунки, которые фотографируются установленной фотокамерой.
Переход наплывом к метеорологу, он сидит в пещере на стуле со спинкой перед маленьким киноэкраном, куда проецируется анимация: там сидит за столом нарисованный метеоролог и пишет в блокноте. Анимацию сопровождает скудно синтезированный закадровый голос (метеоролога?):
«Самой серьезной преградой, разумеется, по-прежнему остается ограничение человеческого мозга. Если бы я мог сконструировать достаточно изощренную электронную вычислительную машину, я бы рассчитывал результаты практически в реальном времени, а впоследствии и быстрее. Только тогда я получу полноценную машину предсказаний».
Щелчок пальцами, и я снова в кабинете Барассини.
– А! – говорит Барассини. – Метеоролог, а не мета-хронолог. Теперь я понимаю.
Я не имею ни малейшего представления, о чем он.
Цай сидит за столом, разгадывает кроссворд и лопает жвачку. Боже, как она отвратительна: все, что я ненавижу в женщинах, – в одном тошнотворном мешке плоти. И почему у нас с ней все закончилось вот так?
– Вау, – говорит Барассини, – значит, давай еще раз.
Метеоролог смотрит, как его анимированная версия думает и делает точно то же, что он сам, как мы видели, думал и делал ранее.
– Да. Теперь это предсказано компьютером, который продолжает развивать его изначальные расчеты для эксперимента с аэродинамической трубой. Все это – последствия листика, ударившегося о стеклянную стену.
– Ум за разум заходит, – говорит Барассини. – Как будто будущее можно предсказать во всей его полноте по любому отдельному моменту.
– Э-э, ну да, а я о чем.
– Тогда «мета-хронолог» здесь тоже подходит, ты заметил?
– Конечно, заметил. За кого ты меня…
Цай перебивает:
– Кто-нибудь знает слово? Тридцать одна буква, боязнь…
– Гексакосиойгексеконтагексафобия! – выпаливаю я, пока меня никто не опередил.
– Правда?
– Боязнь числа шесть-шесть-шесть – такой вопрос, правильно? Я прав? Прав? Отвечай!
– Да.
– Гексакосиойгексеконтагексафобия. Г-е-к-с-а-к-о-с-и-о-й-г-е-к-с-е-к-о-н-т-а-г-е-к-с-а-ф-о-б-и-я.
– Откуда знаешь?
– Однажды я написал чрезвычайно длинную монографию на тему – а также с применением – чрезвычайно длинных слов под названием, если правильно помню, «Хоть горшком назови, только в печку не сажай? Не все так просто! Краткая история способности слов причинять вред с акцентом на чрезвычайно длинных словах, поскольку боль, причиненная чрезвычайно длинными словами, становится все мучительнее по мере того, как слогов накапливается все больше, больше и больше» для «Журнала гиппопотомонстросескиппедалофобии» – это, как вам может быть известно, боязнь чрезвычайно длинных слов, на случай, если вам неизвестно. Вот откуда я знаю. Вдобавок в колледже, а именно в Гарварде, моей второй специальностью были исследования числа зверя. Число зверя – шесть-шесть-шесть, хотя на самом деле шесть-один-шесть, которое – возможно, неслучайно – совпадает с почтовым индексом Нижнего полуострова Мичигана, который – возможно, неслучайно – однажды был почтовым индексом Бетси Девос и ее злого брата Эрика Принса[147]147
Бетси Девос (род. 1958) – американский политик, миллиардер, с 2017 года министр образования США в администрации Дональда Трампа. Эрик Принс (род. 1969) – основатель частной военной компании Blackwater (ныне Academi).
[Закрыть], которых я зову Бетси Дьявос и Эрик Принц Тьмы соответственно.
– Вау, – говорит она. – А повтори еще раз?
– Г-е-к-с-а-к-о-с-и-о-й-г-е-к-с-е-к-о-н-т-а-г-е-к-с-а-ф-о-б-и-я.
– Как тебе ящик с носками? – спрашивает Барассини, пытаясь, полагаю, сменить тему.
– Хм-м?
Я потерялся в воспоминаниях. В памяти встают случаи из курса исследований числа зверя. Старый, доброжелательный и ворчливый профессор Демаркус с его старческой доброжелательной ворчливостью вечно требовал от нас работать на пределе.
– Третья книга Маккавейская, 2: 29[148]148
«Внесенных же в перепись отмечать, выжигая им на теле знак Диониса – лист плюща, после чего отпускать их в назначенное им состояние с ограниченными правами».
[Закрыть], – выкрикивал он. – Современные параллели?
И мы все расчехляли свои логарифмические линейки, вычисляя как бешеные.
– Штрихкоды? – говорил один из нас – наверняка подхалим Макдугал.
– Точно так, Макдугал, – отвечал Демаркус с блеском отцовской любви к Макдугалу в глазах.
– Как ящик с носками?
– Что?
– Ящик? С носками? Как?
– А. Да. Хорошо.
И воспоминания о Демаркусе вмиг исчезают, почему-то в буквальном тумане. Теперь я задумался, что в прошлом отдал бы все, лишь бы спать в ящике для носков Цай, среди ее носков. Сейчас ее ящик прямо по соседству с тем, где сплю я, и между ними окно, но мне все равно. Я смотрю под стол, на ее ноги в носках. Ничего не чувствую. Просто ноги. Ужасные, чудовищные человеческие ноги. Я уже не чувствую ничего ни из-за чего.
Можно говорить что угодно, но в сухом остатке я старик, который спит в ящике для носков гипнотизера. Не так я в детстве представлял свою жизнь.
Я думал, что буду успешным: врачом, юристом, честным руководителем – тем, кто творит в мире добро, кем бы гордились родители. Страстным, ценимым, добрым. Даже, может, простым плотником – тем, кто работает своими руками, чтобы сделать что-то полезное. Иисус, конечно же, был плотником; стыдиться тут нечего. Кто-то же сделал этот комод. Кто-то сделал его таким большим, что он вмещает съеживающегося человека, – возможно, зная, что однажды комод по этой самой причине понадобится маленькому сломленному человечку, зная, что однажды комод может спасти жизнь.
Барассини желает спокойной ночи и задвигает ящик.
В темноте я засыпаю и оказываюсь, как и каждую ночь, в городе брейнио, созданном Аббитой. Ее, конечно, здесь больше нет. Это шелуха сна, забытые остатки. Я обыскиваю пустые здания безо всякой надежды встретить ее вновь. Хотелось бы видеть и другие сны. Любые другие, но по ночам – это моя тюрьма: пустой город, ящик для носков, профессиональный провал.
Глава 55
– Рассказывай, – говорит Барассини, выдвигая ящик ровно в 7:00.
Ночь. Как часто бывает в гастролях, Мадд и Моллой оба вместились на одну кровать в каком-то клоповнике.
– Бад?
– Да, Чик?
– Мне не спится. Можешь чуть-чуть подвинуться?
– Некуда. Я и так на краю.
– Я весь издерганный.
– Считай овец.
– Овцы то и дело прячутся за амбаром.
– За каким амбаром?
– На ферме, которую я себе представляю.
– Ну, не представляй амбар.
– На всех фермах есть амбары.
– Просто представь овец в поле.
– А как же деревья?
– А что деревья?
– В полях есть деревья.
– И?
– Овцы могут прятаться за ними. Если они тощие. Овцы, не деревья.
– Представь луг без деревьев.
– Большие камни?
– Нет.
– Ладно. А овцы могут забрести за линию горизонта?
– Там забор.
– Точно не можешь малость подвинуться?
– Не могу, Чик. И так уже левая нога свесилась с кровати.
Долгая пауза.
– Не хочешь поговорить? – спрашивает Чик.
– Мне надо выспаться.
– Можно поговорить всего минутку? У меня есть идея.
– Только минутку.
– Слышал о фильме «Лоуренс Аравийский»?
– Конечно. Большой хит.
– И знаешь, что Эбботт и Костелло сняли фильм про Иностранный легион?
– «Эбботт и Костелло в Иностранном легионе». Конечно.
– По-моему, он не так называется.
– Так.
– Неважно. Ты не прав, но неважно, я тут думал…
– Я прав.
– Неважно. Я тут думал: что, если мы снимем свою версию фильма про пустыню. Вот Хоуп и Кросби сняли.
– «Дорога в Марокко».
– Нет.
– Да!
– Неважно…
– Он называется «Дорога в Марокко».
– Неважно. Это успешный жанр для пародий.
– Ладно.
– Я подумал, что можно назвать «Клоуны Аравийские».
– Ладно.
– Мы будем клоунами.
– Я понял.
– Игра слов на основе «Лоуренса Аравийского».
– Я понял.
– Что думаешь?
– И это вся идея?
– Верблюды. Фески. Ну, знаешь. Все такое. Полный набор.
– Кто нам даст денег на пустынный эпик, Чик? Мы не можем собрать даже «Элкс-Холл» в Зажопвилле, штат Айова.
– Мы снимем задешево. В песочнице.
– То есть в детской песочнице?
– Конечно. Крупные планы, съемка сверху. Никто и не поймет.
– Ты не очень-то все продумал, Чик.
– Еще стоит обмозговать детали, это точно.
– Да.
– Я человек идей. Широкие мазки. Ты работаешь с деталями.
– Например, как вместить верблюда в песочницу?
– И еще где взять пару дешевых фесок.
– Мне надо выспаться, Чик.
– Карликовые верблюды? Бывают такие? Я сейчас просто набрасываю.
– Обсудим завтра.
– Мне не спится. Кажется, будто я на грани чего-то важного.
– Насколько близко?
– Настолько.
– Ты просто говоришь «настолько». Ничего не показываешь.
– Темно же.
– Не так темно, чтобы я не видел, что ты ничего не показываешь.
– Ладно. Вот настолько.
– Ладно.
Следующий день, и я возвращаюсь к себе в квартиру с жареной свининой на леске удочки. Доминик все еще в дверях. Я болтаю у него перед носом куском свинины для мотивации. Работает. Он высвобождается из двери с хлопком пробки из-под шампанского, хватает свинину, а я проскальзываю между его ног в квартиру, захлопываю дверь и задвигаю двадцать три (двадцать три?) засова. Приваливаюсь к двери с одышкой, пока Доминик колотит и требует его впустить. Не впущу. Больше ноги его тут не будет. Я просижу в этой комнате взаперти, пока он не сдастся и не уйдет.
Стук продолжается днями, с восьмичасовыми перерывами, пока мы оба спим. Я пишу на электронную почту Себастьяно с вопросом, ищет ли он еще жилье. Сейчас его нож боуи меня не так волнует. Ответа я не получаю. Возможно, он уехал.
Даже в уединении среди стен собственной квартиры меня находит мир забавных мучений. Постоянно орет без зримых причин детектор дыма, пока я не замечаю, что курю и что в пепельницах по всей квартире и у меня самого в руках – другие закуренные сигареты. Тушу их, потом залезаю по трем поставленным друг на друга стульям, чтобы вынуть батарейку из сигнализации. Стулья рушатся раньше, чем я достигаю цели, и я падаю, снова угодив головой в мусорную корзину. Со второй попытки получается, потом я снова падаю, но в этот раз с батарейкой в одной руке и по какой-то необъяснимой причине с новозакуренной сигаретой – в другой. На сей раз я угодил головой в стойку для зонтиков в виде слоновьей ноги. У меня даже нет стойки для зонтиков в виде слоновьей ноги. Откуда она взялась? Я встаю, замечаю свое отражение в зеркале в прихожей, все еще со стойкой для зонтиков на голове, будто шляпой тамбурмажора. Мне нужно утихомирить мысли, разум. Нужно прекратить двигаться, перестать быть жертвой обстоятельств.
Из-за необходимости замедлиться в памяти встает ретрит для безмолвной медитации в буддистском монастыре на Бали, куда мы ездили с Чуми – моей девушкой времен колледжа. Она затащила меня против воли, поскольку я не любитель мистики и категорически против надувательских фокус-покусов любой религиозной доктрины, не говоря уже о «таинственном Востоке». Но любовь за (любовь за! Обязательно надо где-нибудь использовать!), и наперекор здравому смыслу мы оказались в прокатных саронгах, которые до нас носил бог знает кто. При всем при этом пережитый опыт изменил меня, смягчил. Притихла постоянная болтовня в гиперактивном разуме. «Вот! – решаю я. – Вот что мне сейчас нужно». Нужно обрести эту тишину. Нужно найти собственный голос в безумии внешнего мира. И я без труда, с легкостью возвращаюсь к дыхательной медитации, которую практиковал там. Прислушиваюсь к голосам в голове: сомнение, насмешка, критика, угрызения совести, странные, даже как будто чужеродные мысли: лущить горох на гороховой ферме в Тунисе, танцевать канкан в «Фоли-Бержере», мое счастливое детство в рабовладельческом семействе хозяев горнодобывающей шахты на Венере. Я слушаю без осуждения и мягко позволяю этим мыслям уйти. И дышу. В таких упражнениях на первый план выходят первобытные эмоции. Я рыдаю. Я стыжусь. Я смеюсь. Я борюсь со своим богом. Я борюсь с соседским хулиганом Антоном Фрикером-Вентуччи. И на протяжении всего этого – я дышу. И замедляюсь. И дыхание становится не таким частым, углубляется. Со временем (кто знает, как долго, ведь время перестало существовать!) я нахожу внутренний центр. Уже не чувствую себя добычей, уже не прижат к стенке. Мир раскрывается с удивительных сторон. Моя цель – выйти в мир, не теряя эту открытость. Я отпираю входную дверь. Каждый замок – квантованный этап единого опыта, на протяжении которого я полноценно присутствую в мире. Тридцать четыре засова. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре. Тридцать пять. Скорее тридцать пять засовов. Символизм этого акта не ускользает от моего внимания теперь, когда я просвещен, но его я отпускаю вместе со всеми другими мыслями, когда поворачиваю и тяну ручку. Вот лежит Доминик, спит как младенец, больше меня не устрашая. Он просто Доминик – омерзительный, зловонный, жирный Доминик, лишь очередное проявление божественного. Я запираю дверь, чтобы он не вошел, перелезаю через него и ухожу. В моем нынешнем состоянии улица стала иной. Я вижу все. Итальянский продавец арахиса на углу, торгующий своим товаром со сладкозвучной речевкой: «Арахис, а-рахис а-на лубой вкус!» Прочее. Затем я в Порт-Ауторити, смотрю на расписание отправки автобусов. На вокзале многолюдно, как всегда, но теперь я его вижу в новом свете. Ангелоглавые пассажиры в хореографии прелестной печали, разбитых мечтаний, сломанных жизней. «Как я сюда попал?» – как будто молят об ответе они.
«Арахис, а-рахис а-на продажу».
Итальянский продавец арахиса, ядерный физик на пути к испытаниям ядерного оружия, домохозяйка из пригорода, на «колесах» и в поисках приключений: они все одинаковы. Все едины. Все – из тех же электронов, протонов и, кажется, ньютонов. Это поистине братство (сестринство) мужчин (женщин, детей), и вот он я, лишь очередная кучка атомов, отскакивающая от других кучек атомов. Тут же чувствую себя одновременно свободным и ограниченным, потому что дуальности нет. И посему я одновременно здесь и не здесь. Одновременно сейчас и тогда. Одновременно афроамериканец («черный») и белый («европеоид»). С этим озарением как будто является возможность сбежать от моего мучителя, кем бы он ни был. Почти как по сигналу загорается табло: последнее объявление об автобусе «Грейхаунд» в Нигде, штат ОК. Нигде, ОК. Нигде – это ОК. Я не знал, чего искал, но теперь нашел.
Автобус в Нигде выезжает из автовокзала на улицу Нью-Йорка – серую, лишенную теней. Возможно, из-за того что я вижу город просвещенными глазами, я его не узнаю. Магазины кажутся другими. «Галантерея»? «Боевые боты Блокмена»? И еще расплывчатость выражений лиц у людей на улице, машин на улице, улицы на улице. Я фокусируюсь на дыхании. Натиск всего вокруг практически ошеломляет. Когда автобус замедляется, а сам я замедляюсь настолько, что перемещаюсь почти на три сиденья назад, я замечаю на улице себя, выходящего из Порт-Ауторити, только выхожу я задом наперед. Вот в чем дело, внезапно понимаю я: всё на улице движется задом наперед. И еще кое-что: в воздухе кишат бегущие капли, словно прозрачная пыльца. Они забираются людям в уши – на вид бессистемно, но так часто, что это не кажется случайностью. Еще я вижу, как эти капли показываются из ушей, словно умножившись в числе, а потом рассеиваются и проникают в другие уши. Автобус следует по улице за другим мной, будто кинокамера на тележке, наведенная на пятящегося двойника. И теперь я настолько близко, что вижу, как эти капли попадают и в уши другого меня и вылетают обратно наружу. Что происходит в этом ужасающем мире за окном автобуса? Что за лавкрафтовский пейзаж мне внезапно предстал?
Я смотрю, как я задом наперед повторяю свой маршрут до Порт-Ауторити, мимо итальянского продавца арахиса, «сукв йобул ан-а сихар-а, сихара», к себе домой. Автобус проезжает мимо. Теперь обратный я пропал из виду, и я быстро теряю интерес – подумаешь, – снова впадаю в свой монолог о бороде. Добавляю новый раздел о разнице между фальшивой и настоящей бородой, кратко касаюсь глагола beard (то есть «смело выступать против»), а также современного сленгового употребления, обозначающего притворное гетеросексуальное партнерство. Что-то вырывает меня из размышлений. Если смотреть за непосредственное окружение, я могу разглядеть другое, сияющее пространство, уходящее в бесконечность, словно трехмерная и не такая карикатурная версия канонической и сомнительно сентиментальной обложки «Нью-Йоркера» от Дэвида Стейнберга. Это красиво и внушает надежду, и я верю, что отправляюсь в новое и грандиозное приключение. Предыдущие трудности и лишения где-то далеко, неважны. Наконец я счастлив.
Затем у обратного автобуса спускает шина, и водитель просит нас обратной речью выйти. Так что я на улице, в мире как он был. На меня срет голубь (как было бы чудесно, сохранись еще обратное время, соберись и всосись обратно в голубиный анус голубиный помет; тогда бы он получил), а я разворачиваюсь и бреду на север, в свою квартиру, чиститься.
Входная дверь пробита, в ней дыра, приблизительно формы Доминика. Через дыру я замечаю его: он злобно мечется, изображает жестокие колющие движения ножом и ругается. Я прислушиваюсь, кого он ругает. Подозреваю, что меня.
Да, меня.
Возвращаюсь в ящик для носков Барассини.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































