Текст книги "Муравечество"
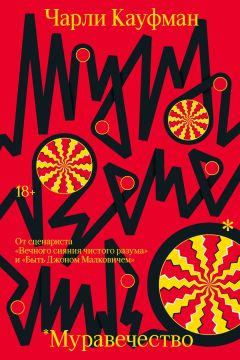
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 45 страниц)
Глава 34
– Что ты видишь?
Рун и Дуд ограбили дом и уезжают с места преступления на угнанном зеленом «Додже Челленджер».
– Ты обещал, что хозяина не будет дома, – говорит Рун.
– Он собирался уехать из города, – говорит Дуд.
– И ты не говорил, что он коп!
– Я не думал, что это важно, ведь он собирался уехать из города!
– Но ведь не уехал, верно?
– Сегодня у него по графику конвент для полицейских!
– Прекрасно. Он у нас на хвосте?
Оба оглядываются.
– Пока не видно, – говорит Дуд.
Они сбивают что-то крупное. Машину заносит, но она едет дальше.
– Что это было? – спрашивает Рун.
– Не останавливайся! – говорит Дуд.
Дуд снова оглядывается.
– О господи, это человек! Мы сбили человека!
– Какого хрена он делал посреди пустой дороги, посреди глуши, посреди ночи?!
– Ну, раз там был он, то, видать, дорога не такая уж пустая, а?
– Ты говорил, что дорога будет пустая! Он мертв?!
– Я не знаю!
– Он шевелится?!
– Отсюда не видно! Откуда мне знать?
– Мы клялись никого больше не убивать!
– Это был несчастный случай!
– Наверно, какой-то бродяга, да?
– От этого не легче.
– Я не об этом! Я просто… не знаю, о чем я. Надо вернуться.
– Нельзя вернуться. И вообще, коп увидит его и остановится.
– Слава богу, коп не уехал из города и теперь может остановиться и помочь парню, которого мы убили, пока сбегали от него.
– Ой, давай без сарказма. Я же сказал, мне жаль.
– Нет, не сказал, – говорит Рун.
– Ну, мы же не знаем, мертв ли он. И это ты его убил. Технически.
– Мы оба его убили!
– За рулем был не я, – говорит Дуд.
– Я сел за руль, потому что у тебя права истекли.
– Да, и это твое правило крайне глупое, мы ведь и так преступники, так что…
– Все, чего я хотел в жизни, – развлекать народ.
– Мы с тобой убили кучу людей. Если включить сюда зрителей нашей постановки.
– Я знаю. Мне очень жаль.
– Хотя в тот раз мы были не виноваты.
– И тем не менее я чувствую себя виноватым.
– В смысле, если бы мы не ставили спектакль, ничего бы и не случилось.
– Но сейчас мы точно виноваты.
– Ты виноват.
– Мы команда.
– А что, если тому бездомному было предначертано спасти мир?
– Спасти мир, стоя на пустой дороге где-то на Среднем Западе в три ночи?
– Мы не знаем, как устроена вселенная.
– Думаю, мы знаем, что она устроена не так.
– Психи вполне могут спасти мир. Не надо стигматизировать психические расстройства. Есть доказательства, что Иисус был психически болен.
– Мне о таких доказательствах ничего неизвестно.
– Я где-то читал, в каком-то журнале. Он мнил себя сыном Божьим, это для начала. Ну и вообще, вспомни «Трех Христов в Ипсиланти»[77]77
«Три Христа в Ипсиланти» (1964) – вышедшее в виде книги исследование психолога Милтона Рокича по мотивам эксперимента в психиатрической клинике Ипсиланти, штат Мичиган. В книге приведены беседы с тремя пациентами-шизофрениками, каждый из которых считает себя Христом.
[Закрыть].
– Если Иисус думает, что он Иисус, – это не признак душевного расстройства.
– Как скажешь.
Цай больше не дает стирать ее белье. Мы не контактируем и не общаемся, так что я не знаю почему. Просто на связь она больше не выходит. А еще из-за нее меня увольняют из магазина. Когда я прихожу на смену, Дарнелл говорит, что Цай пожаловалась на мое поведение. Он не вдается в подробности, но смотрит на меня странно, так что, кажется, она сказала обо мне что-то прям ужасное. Я в недоумении. Те два часа, что я провел за стиркой и глажкой одежды Цай, – счастливейшие в моей жизни. Признаваясь себе в этом, чувствую себя жалким, но я обязан это признать. Рано или поздно наступает момент, когда надо недвусмысленно сообщить миру, кто ты есть. После довольно продолжительного процесса заламывания рук и самобичевания я вдруг осознаю, что у проблемы постоянного и пересиливающего желания служить Цай может быть решение – и я могу служить ей, не нуждаясь в ее позволении, раз мне уже четко обозначили, что этого мне больше не видать.
Я отправляю резюме в «Заппос» – огромный онлайн-магазин одежды и обуви, принадлежащий миллиардеру Джеффу Безосу из хьюстонских Безосов, которому принадлежит также все прочее на свете. Копаясь в мусороприемнике в доме Цай, я обнаружил, что она, похоже, регулярно совершает покупки в «Заппос» (еще она любит грейпфруты и пользуется прокладками «Олвейс Макси 3 Экстра Лонг Супер с крылышками» без запаха, хотя, как я в итоге обнаружил, запах все-таки появляется). Благодаря работе в службе поддержки «Заппос», если мне очень-очень повезет, рано или поздно я отвечу Цай на письмо (а может, даже по телефону!). Я понимаю, что у «Заппос» должно быть очень много клиентов и, уверен, немало сотрудников отдела поддержи, но даже одна мысль о том, что следующим человеком на линии может оказаться Цай Янь, подталкивает работать в колл-центре «Заппос», даже если она никогда в этой жизни не позвонит.
Собеседование с дамой из отдела кадров проходит хорошо – возможно, даже слишком. Это пожилая женщина с родимым пятном на лице, и я вижу, что она чувствует со мной родство. Но я ничего не чувствую. У меня нет никакого желания вступать в клуб пятнолицых.
– Какое впечатляющее резюме, – воркующим голосом говорит она.
В отличие от того, кто принимал меня на работу в магазине, она не сводит с меня глаз.
– Спасибо.
– Должна сказать, я тоже очень люблю кино.
Пытаюсь угадать ее вкус. Думаю, «Дом у озера», или как там называлась эта слезливая сентиментальная ерунда про отель. Может, ей нравятся фильмы с родимыми пятнами, хотя сомневаюсь, что ей хватит искушенности оценить «Отель „Гранд Будапешт“» – единственный настоящий фильм с родимым пятном.
– Неловко признаваться, – говорит она, – но в школе я участвовала в постановках и одно время даже подумывала о карьере актрисы.
Серьезно? Господи, только не это. Миру повезло.
– Ой, правда? – говорю я. – Это замечательно. Выходили на подмостки?
– О да. На сцене я визжала как резаная. – Она хихикает.
Ох, в этом я даже не сомневаюсь, микс Свинка.
– Слушайте, – говорит она. – Я никак не могу устроить вас в службу поддержки. Уверена, с вашим бэкграундом в кинопроизводстве и очевидной житейской мудростью вам самое место в отделе по связям с общественностью.
– Но служба поддержки – это работа с людьми, а я очень коммуникабельный, – кричу я.
– Ерунда, – говорит она. – Даже слышать не хочу. Вы должны верить в себя так же, как верю в вас я. У пиарщика зарплата в пять раз выше, чем в службе поддержки, и это только в начале. Нет ничего невозможного.
Я киваю. Нехорошо смотреть в зубы коню, которого она мне тут пытается всучить. Мне нужно, чтобы она была на моей стороне. Как только я окажусь в пиар-отделе, потребую перевода. И полагаю, даже в пиар-отделе у меня будет доступ к истории продаж. Смогу отслеживать все заказанные Цай туфли. Одна мысль об этом – и у меня мощнейшая эрекция, прямо во время собеседования. Я обдумываю, что будет, если эта женщина увидит стояк – поможет это или навредит. В эпоху постхаррасмента такие моменты чреваты. Харви Вайнштейн оказал нам всем медвежью услугу. В итоге прихожу к выводу, что поможет, ведь она, несомненно, решит, что у меня встал на нее. Вряд ли она часто (если вообще) становится объектом настолько очевидного сексуального интереса, хотя я прекрасно понимаю, что жертвами домогательств могут быть все женщины вне зависимости от привлекательности и что домогательство – это не про привлекательность, это про власть. Это всегда про власть. Но, перефразируя прекрасную доктора Энджелоу, все-таки я поднимусь[78]78
Майя Энджелоу (1928–2014) – американская писательница и поэтесса, один из ее сборников стихов называется «И все-таки я поднимусь» (And Still I Rise).
[Закрыть]. Эйчар хочет пожать мне руку и замечает мою очевидную загвоздку. Выпучивает глаза. Я был прав.
– Мистер Розенберг! – после паузы говорит она. – Было очень приятно познакомиться.
– Мне тоже очень приятно.
Я подмигиваю. Подмигиваю, как тот проклятый буксир, мечтающий о смерти.
Она не отпускает руку. Ждет, что я приглашу на свидание. Но я не могу. Не могу! Я не знаю, что сказать дальше.
– Жаль, что я замужем, – наконец говорит она.
– Ой. Я не подумал. Ой как неловко. Хотя ему невероятно повезло.
– Если б он только знал, – отшучивается она. – Что ж, в любом случае – все меняется. Я обязательно вас проведаю.
– Звучит прекрасно, – говорю я.
Она не отпускает мою руку и улыбается. Я пытаюсь представить себе, кому взбредет в голову на ней жениться. И не могу.
– Вы так застенчивы, – говорит она наконец. – Мне это нравится. Это ужасно мило.
– Да, – признаю я. – Я ужасно, ужасно застенчив.
– Ох, – говорит она. – Вы даже не представляете, какой вы замечательный. И среди прочего поэтому вы мне кажетесь очаровательным.
– Спасибо.
– Берегите себя, Б. Розенбергер Розенберг.
И я обещаю ей беречь себя.
Глава 35
Узнав о том, что я устроился на хорошо оплачиваемую работу, Барассини приходит в восторг. Я задолжал ему кучу денег за сеансы. Он даже собирает мне ланч-бокс в дорогу – я еду автобусом «Заппос» до их центрального офиса, расположенного где-то в засекреченном месте в сельской местности Нью-Джерси.
По дороге к Порт-Ауторити я захожу к сестре, Порше Розенбергер Розенберг Хеч. Она тоже в восторге от того, что я нашел работу, потому что ей я тоже должен кучу денег. Она набрасывает мне план ежемесячных платежей и собирает ланч-бокс. Теперь у меня два ланч-бокса. Я об этом не говорю, ведь это мило с ее стороны, а я не хочу выглядеть неблагодарным, особенно раз должен ей кучу денег. Выйдя на улицу, выкидываю ланч-бокс Порши, потому что ланч-бокс Барассини выглядит получше. Мне вдруг приходит в голову, что стоило отдать ланч-бокс сестры бездомному, и я чувствую себя виноватым. Но, по правде говоря, кругом не видно ни одного бездомного, а искать нет времени. У меня есть график.
В автобусе достаю запись для самогипноза, которую Барассини положил вместе с яичным салатом, включаю диктофон на своем айфоне и жду, когда на меня подействуют слова Барассини. Я уже спросил у соседа, не помешаю ли, если сейчас в состоянии гипноза начну начитывать в айфон сюжет забытого фильма. Он сказал, что нет, не помешаю, и отсел.
Опускается тьма. Я слепо блуждаю с лопаткой в руках, пытаясь найти место для раскопок. Спотыкаюсь о кучу грязи, начинаю копать и нахожу светлый парик.
Сцена из фильма проходит сквозь меня как холодный ветер, и я ее начитываю: девушка с томными глазами искоса поглядывает на парня в цилиндре, который сидит на другом конце лавочки в парке. Он тоже поглядывает на нее с застенчивой, натянутой улыбкой. Она поглядывает. Он поглядывает. Проходит какое-то время. Они поглядывают по очереди, но не одновременно, и вдруг в клубах дыма на дереве у них за спинами возникает толстяк в засаленном комбинезоне и со светлым курчавым париком на голове. Он выпускает две стрелы; одна попадает в парня, другая – в девушку. Их глаза загораются желанием, и оба пододвигаются к середине лавочки. Парень застенчиво чмокает девушку в щеку. Оба сидят, потупив взгляды. Она застенчиво чмокает в щеку его. Они смотрят друг на друга, целуются. И пока поцелуй длится, парень замечает камеру, тянется к экрану и опускает шторку, закрывая нам вид. Пять минут мы смотрим на шторку. Сначала шторка время от времени колыхается, словно ее задевают с той стороны. Затем колыхается все сильнее, с растущими скоростью и напором. Затем из-за особенно сильного толчка шторка сворачивается наверх, и мы видим мужчину и женщину в спальне, которые занимаются жестким и каким-то даже зловещим сексом, не замечая нас. Вместо купидона за ними теперь наблюдает ухмыляющийся дьявол с рожками на голове, в темном (возможно, в красном, но фильм черно-белый) комбинезоне. У него оскорбительно антисемитский нос. Пара кончает так, что комнату трясет и со стен падают картины. Уставшие, они пытаются отдышаться, женщина лежит, небрежно раскинув ноги.
Теперь она стоит в профиль на фоне обоев в цветочек. Ее живот увеличивается в дерганом цейтрафере[79]79
Замедленная покадровая съемка, при которой каждый кадр снимается в равномерно заданные интервалы времени, создавая многократное ускорение движения на экране. – Прим. ред.
[Закрыть].
Затемнение с кругом, диафрагма закрывается, диафрагма открывается.
По грозовому небу летит аист в фуражке курьера «Вестерн Юнион» с узелком в клюве.
Диафрагма закрывается, диафрагма открывается.
Женщина с пухлым младенчиком на руках, на фоне тех же обоев. В таймлапсе мы наблюдаем, как он растет, а она стареет. Спустя несколько «лет» (в реальном времени – недель) в кадре появляется неотесанный мужлан. На матери и на ребенке появляются следы насилия: разбитые губы, синяки под глазами, сломанные руки. Мужлан исчезает. Герои продолжают взрослеть и стареть. Когда мальчику десять, его мать лежит в открытом гробу.
Далее мальчик стоит в толпе других детей на фоне заплесневелой стены с табличкой «Дом для подкидышей, Нью-Джерси».
Диафрагма закрывается, диафрагма открывается.
Мальчик спит на койке в общей спальне вместе с сотнями, а то и тысячами, а то и миллионами других детей. Он открывает глаза, смотрит в камеру, осторожно вылезает из койки, снимает ночную сорочку, и мы видим, что под ней он полностью одет. Достает из-под койки узелок и вылезает в окно.
Диафрагма закрывается, диафрагма открывается.
Пухленький сирота Моллой, теперь одетый как разносчик газет, пробирается в нью-йоркский театр, чтобы посмотреть отвратительную сексистскую комедию под названием «А она та еще штучка, ребят!» об испорченной молодой девушке (ее сыграла таинственная Люси Чалмерс), которая наследует винную фабрику, уходит в тяжелый запой, тем самым доводя фабрику до банкротства, тем самым доводя до запоя теперь уже безработных фабричных рабочих, одним из которых оказывается Гаврило Принцип, тем самым начиная Первую мировую. Моллой истерически хохочет. Это момент, когда он понимает, что его судьба – шоу-бизнес.
Похоже, у меня талант продавать обувь. Я пытаюсь проникнуть в женский отдел, потому что, конечно же, именно там, вероятней всего, столкнусь с Цай. Но «Заппос» запускает подразделение специальной обуви, и мой новый босс, Аллен Ключ (знаю!), хочет, чтобы я работал именно там.
– Ты очень творчески мыслишь, – размышляет он. – Нам в «Заппос» обычно не очень везет с кадрами вроде тебя. В новые подразделения требуются генераторы идей, а ты, по моим прикидкам, один из них. О нашем новом подразделении необходимо оповестить все еще не охваченные рынки. И ты, по моей гипотезе, именно тот, кто сумеет этого добиться, с твоими-то бесконечными идеями и творческой энергией, которая, по моему мнению, просто не имеет границ.
– Спасибо, Аллен, – говорю я.
Подразделение специальной обуви создали, чтобы продавать специальную обувь, конкретно – обувь специально для клоунов, обувь для увеличения роста, тапочки с мордочками животных и одиночную обувь для одноногих. Для «одноногих» я предлагаю создать сервис под названием «обувные приятели», чтобы одноногие покупатели находили в нашей базе данных других одноногих покупателей с похожими размером ноги и вкусом и вместе носили одну пару на двоих. Аллен говорит, что, возможно, я гений и что время покажет.
И, разумеется, вслед за этим моя коллега Генриетта тут же предлагает сервис «носочные приятели», который, прямо скажем, выглядит так же, как мой, только в профиль. Аллен хвалит ее за мою идею, и я объявляю войну. Предлагаю выпустить в продажу туфельки-лотосы для пожилых китаянок, прошедших бинтование ног. Генриетта говорит: а что, если продавать их фетишистам, которые любят связывать себе ноги. Опять – та же самая идея. На самом деле нам без разницы, зачем конкретно покупают туфельки-лотосы, объясняю я. И предлагаю выпустить в продажу цементные ботинки для наших покупателей-мафиози. Это шутка, чтобы разбавить напряженную атмосферу и продемонстрировать мое остроумие – куда лучше, чем у Генриетты. Все, кроме Генриетты, смеются. Я вижу, как она хмурит лоб, яростно шевелит извилинами, придумывает шутку. В итоге предлагает обувь для уток. Перепончатую. Шутка не заходит. Она сконфужена. Я предлагаю обувь для проституток. Ну, знаете, красные десятисантиметровые шпильки в блестках. Все снова смеются. Аллен хлопает себя по колену, затем меня, затем обходит стол по кругу и хлопает по колену всех присутствующих. Я взял шутку Генриетты и обратил в золото. Выжал лимонад из ее хрени. Внезапно даже думаю о том, чтобы попробовать себя на открытом микрофоне в каком-нибудь стендап-клубе в центре. Раньше я был ярым противником юмора, потому что считал, что комедия чаще всего приносит вред, ведь она высмеивает малоимущих, а в случае сатиры – и многоимущих. Но смех меня опьяняет.
Генриетта тем временем бесится. Ее глаза горят. Она, как гарпия, визжит, что после моей идеи насчет китайских старушек и шутки про проституток абсолютно очевидно, что я какой-то женоненавистник. Как феминист первой, второй и третьей волн, я возмущен. Вот что больше всего злит меня в женщинах: они думают, что могут безнаказанно клеветать на мужчин. Что ж, я оцениваю женщин по тем стандартам, на которые они сами стремятся претендовать. Именно так поступают настоящие феминисты. Есть только один способ ответственно ответить на мерзкие нападки Генриетты: я втопчу ее в грязь и оставлю умирать. И я мгновенно одну за другой выдаю сразу три серьезные идеи для специальной обуви: ретро-туфли для хипстеров, пинетки для собак и дизайнерские детские ботиночки с милыми названиями вроде «Агу-Гуччи», «Ив-Сен Пацан», «Ко-ко-ко Шанель». Бум. Бум. Бум. Тебе конец, Генриетта. Я – король этого департамента, а тебе конец. Аллен смотрит на меня почти с отцовской гордостью, хотя сам на тридцать лет младше меня и одевается как Фредди Бартоломью в «Маленьком лорде Фаунтлерое». От его взгляда по телу у меня бежит странная и приятная дрожь. Я почти забыл о Цай. Но, конечно, не совсем, и эта дрожь вновь напоминает о ней.
На автобусе по дороге обратно в город я занимаю на сиденье гораздо меньше места. Больше нет никаких сомнений: я уменьшаюсь. Хотя на этой стадии процесс проходит очень медленно. Но воротник стал свободнее, галстук – шире и в то же время нелепее. Нелепость галстука – на нем изображен мультяшный ребе и подпись «100 % кошерный» – не связана с уменьшением, но заставляет усомниться в своих суждениях, которые тоже, кажется, сужаются. Еще уши стали слишком большими для головы. Я встревожен. Возможно, пора сдаться и принять любовь женщины из отдела кадров с родимым пятном на лице. Быть может, настанет время, когда и она меня не захочет.
Барассини, похоже, не очень рад меня видеть. Не спрашивает о работе. Просто шарится по кабинету и хлопает дверцами шкафчиков. Мне не терпится рассказать, как прошел день.
– Где мои чертовы очки? – говорит он.
Ненавижу, когда он такой. Как будто мы отдалились друг от друга. Он вообще меня еще люби…
Он щелкает моим переключателем и…
Я на съемочной площадке фильма «Идут два славных малых». Группа суетится, готовится отснять первый дубль первой сцены. Все еще обиженный на Барассини, я брожу по памяти и ворчу про себя. Он даже про галстук ничего не сказал. С тем же успехом можно быть невидимкой, как в этом фильме. Режиссер совещается с новой помощницей по сценарию (предыдущую убил Костелло). Мадд прогуливается в темноте, повторяет реплики, бормочет их под нос. Моллой смеется со ртом, набитым комично громоздким многоэтажным сэндвичем. Он флиртует с яркой девушкой в блестящем костюме танцовщицы.
– Говорю тебе, детка, вместе мы пели бы соловьями.
– О-о, Чик. Это так романтично.
– Ты ж понимаешь, что я про еблю сейчас, да?
– Чик! Ты ужасен!
Шлепает его по руке, но при этом смеется. И Моллой знает, что с ней все получится. Я задумываюсь, как сильно изменились времена и как нам всем повезло, кроме мужчин. Режиссер вызывает всех на места. Моллой откусывает сэндвич.
– Никуда не уходи, – говорит он девушке.
– Ни единым мускулом не пошевелю, Чик. Ну разве что попозже.
– О, детка. Мы с тобой так порезвимся.
Моллой вытирает рот рукавом и шагает в сторону декораций галантерейного магазина, где его уже ждет вошедший в образ Мадд. Режиссер дает команду световикам, и, когда они включают софиты, я смотрю на установку под потолком. Я хочу их предупредить, но не могу – ведь в этом мире я всего лишь бестелесный наблюдатель. Поэтому беспомощно жду неизбежной трагедии. Я мог бы отвернуться, но как единственный зритель фильма обязан смотреть. Я здесь, чтобы запомнить. Я здесь ради Инго. Режиссер говорит «камера», затем «мотор». Мадд и Моллой заходят в декорацию галантерейного магазина, мгновенно перевоплощаются в своих персонажей. Мадд – уверенный и сердитый, Моллой – неуклюжий и виноватый. К ним подходит владелец.
– Это вы новенькие? – спрашивает он.
– Да, – говорит Мадд. – Я Харгроув, а это мой помощник Масгрейв.
– Харгрейв и Масгроув.
– Нет, – говорит Моллой. – Харгроув и Масгрейв.
– Он так и сказал, – говорит Мадд.
– Я вполне уверен, что сказал «Харгрейв и Масгроув», – говорит хозяин, похожий на Вернона Дента, если бы Вернон Дент был марионеткой.
– Видишь? – говорит Моллой. – Опять сказал неправильно!
– Я вижу, что ты споришь с владельцем этого заведения, который проявил великодушие и нанял нас на выходные, – отвечает Мадд.
– Да ни с кем я не спорю. Я просто…
– Ну все, Масгроув, хватит, – говорит Мадд. – Мы тратим время этого джентльмена.
– Я Масгрейв! Ты Харгроув! – настаивает Моллой.
– Боюсь, пацан запутался, сэр, – объясняет Мадд. – Но, как бы то ни было, я его начальник, и я с ним поговорю, уж будьте уверены.
– Прекрасно, Харгрейв, – отвечает галантерейщик. – У меня сейчас деловой обед, поэтому я оставлю вас за главного.
– Можете смело обедать, сэр.
Галантерейщик уходит. Мадд начинает поправлять рубашки на вешалках. Довольно долго Моллой просто наблюдает. Наконец:
– Ты же Харгроув, так? – спрашивает Моллой.
– Ну конечно я Харгроув!
– Но сказал, что ты Харгрейв, – ноет Моллой.
– С начальством не спорят! Что с тобой не так?
– Значит, ты Харгроув?
– Да, я Харгроув! Теперь за работу!
– И что мне делать?
– Это наш первый день, ты должен произвести хорошее впечатление, – говорит Мадд.
– Хорошо, – говорит Моллой. – И как?
– Надо продать хотя бы десять рубашек.
Моллой озирается – магазин пуст. Он стоит, не понимая, что делать.
– Ну? – говорит Мадд.
– Что «ну»?
– Продавай рубашки! Шевелись!
– Тут никого нет!
– Это не моя проблема. Прояви инициативу.
– Инициативу. Хорошо.
Пока Мадд занимается бухгалтерскими книгами, Моллой с серьезным видом расхаживает между рядами с рубашками. Через какое-то время Мадд поднимает на него взгляд.
– Ну, как успехи?
– Стараюсь. Но у нас все еще нет посетителей, и, стало быть, никто ничего не купил.
– Не моя проблема.
Моллой кивает.
– Давай-давай, продавай рубашки.
Моллой чешет голову, думает, затем говорит Мадду:
– Эй, не хочешь купить десять рубашек?
– Зачем мне сразу десять рубашек?
– Я не знаю!
– И ты называешь себя продавцом!
– Я не называю себя продавцом.
– Может, в этом и проблема.
– Ну, я…
– Ну, ты что?
– Я не знаю.
– Прояви агрессию. Для продавца не существует слова «нет».
– Агрессию, значит?
– Ага. Покажи им, кто здесь главный.
– Кому показать?
– Покупателям! Заставь их поверить в то, что им нужны рубашки.
– Ты ведь понимаешь, что тут никого, кроме нас с тобой?
– И кто в этом виноват?
– Я?
– Именно! Иди на улицу и найди покупателей!
Моллой в ярости выходит и хлопает дверью, и, как по сигналу, на сцену падает осветительная установка. Несколько софитов грохают об пол со взрывом осколков и искр. Один софит разбивает часы на витрине. Пара падает на горы одежды на столах. Самый большой с болезненным и комичным звуком «шмяк» обрушивается на голову Моллоя. Пару мгновений Моллой ходит по магазину как ни в чем не бывало – кровь брызжет из раны в черепе, – затем падает на пол. Визжит новая помощница по сценарию. Подбегают техники, чтобы оказать Моллою помощь. Кто-то кричит: «Он мертв!» Визжит вторая девушка. Затем третья. Затем визжит гример.
Мадд – целый и невредимый – падает на колени рядом с Моллоем и рыдает.
Склейка, белая больничная палата, Моллой в постели без сознания, голова в бинтах. Мадд меряет палату шагами. Жена Мадда, Мари, курит и мрачно смотрит в окно. Жена Моллоя, Патти, сидит рядом с кроватью, держит мужа за руку и нежно с ним разговаривает. Как же я мечтаю о женщине, которая говорила бы со мной так же, смотрела бы на меня так же – с такой же любовью и нежностью во взгляде. Будь это возможно, я бы с радостью снова впал в медикаментозную кому. Она говорит ни о чем, о ежедневных пустяках, но ее забота, ее тревога, любовь в голосе насмехаются над моим одиночеством. Я вспоминаю Цай – и она тут как тут, в сцене, как призрак. Разумеется, ее не было в фильме, но теперь есть. Я улыбаюсь ей, но она смотрит сквозь меня. Не видит или просто ведет себя как типичная Цай? Я снова концентрируюсь на сцене. Патти продолжает говорить с Моллоем.
– Ой, а еще вчера я встретила Кэрол. Она просила передать привет и сказала, что попытается навестить тебя на выходных. Хэнк тоже собирался приехать. Она показывала, как они устроили кухонный уголок, и там так уютно, Чик. Я подумала, мы могли бы сделать что-то в этом роде. Помнишь, на прошлой неделе я показывала тебе ткань? Ситец с узором в виде вишен? Я подумала, что он композиционно свяжет красную кожу и те солонку с перечницей, которые нам мама подарила. Ну да неважно, а еще я решила сама сшить шторы. Нужно чем-то занять ум. И руки! Ох! Я забыла у тебя спросить, ты не против, если в этом году мы снова пожертвуем немного денег Американской ассоциации диабетиков? Звонила Марджи, и ты же знаешь, как плохи дела у ее прекрасного племянника Мартина, поэтому она спрашивала, не хотим ли мы внести свой небольшой вклад. Ей было неловко спрашивать, она ведь знает, что у нас сейчас творится в жизни. Но у него обострение диабета, он очень болен. Кажется, она сказала, что его накачивают гелием, чтобы облегчить симптомы, и он даже немножко парит над кроватью. Кажется, так она сказала. А может, и не гелием, но точно что-то научное. Она говорит, всякое вспомоществование пригодится. И в итоге, конечно, все сложится. Хотя из-за гелия врачи не могут ставить ему уколы. Иначе он просто будет летать по комнате, рикошетить от стен и…
Я больше не могу слушать монолог Патти, поэтому ухожу. И удивительно, но я могу уйти, могу свободно передвигаться по миру фильма. В больничном коридоре тихо и мрачно, стены выложены прекрасной глазурованной бледно-желтой плиткой (цвет, вероятно, Pantone 607C): когда-то этот цвет считали успокаивающим, но для современного глаза он выглядит скорее зловеще. Медсестра в белом толкает мимо дребезжащую тележку. Я заглядываю в палаты. Внимание к деталям просто ошеломляет. И все ради персонажей, которых автор не собирался показывать зрителю. Как же такое возможно – что я гуляю по части мира, не показанной в первоначальном фильме? Я размышляю над словами, которые Хемингуэй однажды сказал о своем рассказе «Не в сезон»:
«Я опустил настоящий конец, заключавшийся в том, что старик повесился. Я опустил его согласно своей новой теории: можно опускать что угодно при условии, если ты знаешь, что опускаешь, тогда это лишь укрепляет сюжет и читатель чувствует, что за написанным есть что-то еще не раскрытое»[80]80
Пер. Б. Грибанов.
[Закрыть].
Я думаю, это очень глубокая мысль, и одновременно думаю, что писателю уровня Хемингуэя неприлично использовать слово «опустить» четыре раза в двух соседних предложениях.
В одной палате медсестра бреет старого афроамериканца со впалыми глазами и щеками. В другой – молодая азиатка, страдающая от ожирения, на ее массивных, мясистых голых руках – нездоровая красная сыпь; еще одна женщина, возможно, латиноамерикан_ка, истощена какой-то ужасной болезнью. То, что тщательно и кропотливо анимированная боль всех этих марионеток не предназначена для глаз зрителей – как и боль многих из нас, – наполняет все происходящее ошеломляющим величием. Я хочу оплакать их, но не могу, ведь я не из их мира. Здесь у меня нет тела. И нет слез, хотя сам я – огромный невидимый глаз.
Погодите. Я что-то вспоминаю. Разговор с Инго однажды вечером, во время перерыва на ужин из рамена и восстановленного сгущенного молока.
– Большинство из нас – невидимки, – сказал он. – Никто не записывает наши жизни. Когда мы умираем, то вскоре как будто и вовсе не жили. Но мы имеем значение, ведь без нас мир не функционирует. У нас есть работа. Мы поддерживаем экономику. Мы заботимся о стариках и детях. Мы проявляем доброту. Мы убиваем. Наше существование – существование всех незримых людей – необходимо признать, но дилемма в том, что стоит нас признать, как мы перестаем быть незримыми. Эти твои братья Дарденны, Де Сики, Сатьяджиты Раи – уважаемые, талантливые режиссеры, приличные и, полагаю, неравнодушные, но в своем творчестве они заблуждаются. Как только Незримый становится зримым, он больше не Незримый. Они поддерживали вымысел. Я бился над этой загадкой и решил ее, построив и оживив целый мир за пределами объектива камеры. Эти персонажи существуют и анимированы так же тщательно, как и те, кого мы видим в фильме. Просто они всегда не на виду.
Эти несчастные в больнице – их он имел в виду? Печальные, больные, невидимые люди, которых никогда не замечают, когда проходят по коридорам? Я пытаюсь заглянуть к еще одному незримому пациенту, но уже лишился этой способности, и меня словно на резинке отбрасывает обратно в палату Моллоя. Мари все еще курит и смотрит в окно. Мадд все еще меряет комнату шагами. Патти все еще держит Моллоя за руку и продолжает щебетать:
– Ой, а еще я вчера говорила с мамой. Она очень хочет приехать, но дороги в Нью-Джерси закрыты из-за урагана. Говорят, на данный момент уже выпало шестьдесят сантиметров осадков. Она вне себя и обещает сесть на поезд, как только сможет. А пока передает, что любит тебя сильно-сильно. А еще я читаю совершенно восхитительную книгу и хочу рассказать о ней. Может, даже почитаю тебе вслух. Она не из тех, что ты обычно читаешь, – любовный роман, – но, думаю, тебе понравится. Чик, в ней очень реалистичные персонажи! А еще она раскрывает многие социальные проблемы современности. Еврей и обычная женщина влюбляются друг в друга и вынуждены мириться с тем, что многие не рады отношениям женщины и еврея. Автор – женщина, но в данном случае думаю, что это не плохо. Там нет ничего вычурного или фривольного. И я бы с радостью начала с начала, чтобы ты не запутался. Она у меня с собой, дорогой. Я начну, и если тебе понравится, то прочту ее целиком!
– Время вышло, – говорит голос через больничную систему оповещения. – У меня курильщик на пять часов.
Затем – щелчок пальцами, и я просыпаюсь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































