Текст книги "Муравечество"
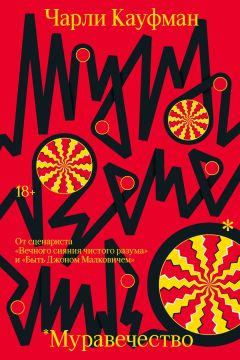
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 45 страниц)
– И не раз! – кричит кто-то под смех и аплодисменты.
– Однако я поговорю о ее темах, о том, что мне пытался донести Инго, а следовательно, о том, что он пытался донести до вас через меня. В первую очередь магнум опус Инго – это чудо человеческой изобретательности и любви, и он выставляет их в идеальном б-жественном свете. Но что же исследуется в фильме? В этом формате – как вам известно, он называется покадровой анимацией – Катберт изучает течение времени и, за неимением лучшего термина, божественное вмешательство. Как он этого достигает? Ну, каждое крошечное движение каждого персонажа в этом гигантском произведении определено Инго, исполнено Инго и все же зрителю кажется свободным волеизъявлением персонажа. А показывая мир бедности и угнетения, доблести и героизма в столь малых, идеальных подробностях, наделяя достоинством тех, кто заслуживает нашего сострадания и уважения, но чаще всего невидим миру, Инго проливает свет на нашу общую человечность. Не бывало еще столь серьезного фильма о сирых и убогих. Критически важно понимать, что в этом фильме нет ни единой шутки, ни единого легкомысленного кадра, ни единого смешка. Эта картина – три месяца нескончаемых мук. Но как раз это нам и нужно, верно?
– Божественные муки! – восклицает зал.
– Нам нужно раскрыть глаза. Нам нужно испытать страдания бедных, психически больных, преступных, «заменяемых» людей, которых мы складируем в тюрьмах, гетто и психиатрических больницах, людей, скрывающихся от нас под брезентом, под мостами, иммигрантов, цветных, обделенных, испытывающих гендерную дисфорию, карликов, инвалидов, слепых, глухих… Я уже сказал «карликов»?
– Карлики! Карлики! Карлики! – скандирует весь зал как один.
– Короче говоря, тех, от кого мы отвернулись всем обществом. Вот кто изображен в этом фильме. Впервые они выходят на сцену. Это их история. В кино Инго мы слышим о привилегированных, здоровых, белых, но видим их только в виде погоды, в виде вихря жестокого угнетения, кем они и являются…
Глава 59
И так далее. Он врет, врет и врет о фильме напропалую больше часа. Очевидно, он его не видел. Он выдумал фильм, который уже по определению противоположен задумке Инго, противоположен творческой задаче Инго. Меня водворили в кошмар наяву, но я прикусил язык до самого времени вопросов из зала. После нескольких безобидных вопросов и никчемных ответов, после того, как мою неколебимую руку игнорируют снова, снова и снова, доппельгангер в ермолке наконец показывает на меня:
– Да, вы, клоун в четвертом ряду.
– Кто из нас клоун? – огрызаюсь я.
– Вы, – отвечает он, явно сбитый с толку вопросом.
– Во всяком случае, – говорю я, – у меня к тебе претензия.
– Прошу, – говорит он с улыбкой, – не стесняйтесь.
– Ты врешь, – говорю я.
– О чем же, мой забавный друг?
– Ты описываешь совсем не фильм Инго.
– И откуда вам это известно?
– Потому что я его видел.
Тут зал начинает на меня шикать. Но человек на сцене сохраняет спокойствие, милостиво улыбается, поднимает руки, чтобы утихомирить зрителей.
– Фильма не видел никто, кроме меня, – говорит он.
– Я – это ты, – отвечаю я.
Снова шиканье.
– Вот как? – говорит он, по-доброму посмеиваясь.
Я пытаюсь драматически стереть грим, чтобы показать свое лицо, но не знаю, получилось ли, потому что я потерял карманное зеркальце в канализации. Поворачиваюсь к женщине по соседству.
– Стер? – спрашиваю я.
– Только размазал! – кричит она с ненавистью в глазах.
– Может, выйдешь на сцену, друг? – предлагает доппельгангер. – Мы можем обсудить этот вопрос. Вы согласны? – спрашивает он зал.
По его интонации очевидно, что правильный ответ – «да».
– Да! Да! – говорят они. После чего меня поднимают с пола и передают из рук в руки до сцены, где бесцеремонно сбрасывают.
– Здравствуй, – говорит доппельгангер, помогая подняться. Потом кричит за кулисы: – Можно, пожалуйста, принести еще одну кафедру и микрофон для моего друга-антипода?
Справа немедленно появляются два рабочих сцены и тащат кафедру с микрофоном. Все происходит так быстро, что в мыслях мелькает подозрение, будто он ожидал моего прихода. Доппельгангер мягко сопровождает меня к кафедре, потом возвращается к своей.
– Итак, – говорит он, – расскажи, каким ты увидел наш фильм Инго?
Я теряю дар речи. Я в волнении, в замешательстве. Смотрю в зал и вижу, что здесь все до одного против меня. Меня презирают.
– Я, ну, я… – начинаю я. – Я настоящий ты и видел фильм. Ты – моя замена. Ты не видел фильм. Тебя запрограммировали космические силы, чтобы ты в это поверил.
– Понятно, – говорит он. – Как таинственно!
Зал смеется.
– Ну что вы, – говорит он. – Дайте нашему другу возможность высказаться. Мир достаточно велик для множества интерпретаций реальности. Если мы чему-то и научились из фильма Инго, то это относиться к психически больным с состраданием и уважением. Хотя, – прибавляет он, – я нисколько не предполагаю, будто моя красочная противоположность психически больна. Прошу, продолжай, – говорит он мне.
– Инго понимал, что нельзя снять фильм о Незримых, не потеряв саму их… незримость. Он знал: единственный способ показать истину о Незримых в обществе – не показывать их.
– То есть его фильм о Незримых не показывает их беду?
– Показывает только белых, причем в формате непрерывной и запутанной комедии. Обделенные остаются за кадром.
– Как и в любом другом фильме, – шутит он.
Зал ревет от смеха, затем прибавляет аплодисменты, затем топот ногами. Это почти что пугает.
– Нет, – говорю я. – Инго анимировал Незримых. Просто не снял. Только запомнил их. Забрал их истории с собой в могилу.
– Видимо… – начинает он.
– Ничего не видимо! – отбриваю я. – В этом-то и вся суть.
Это остроумно, и я смотрю в зал, надеясь на какую-то реакцию на мою колкость. Аплодисменты. Топот ног. Но ничего нет. Впрочем, мой двойник на сцене делает уступку.
– Туше, – говорит он.
Воодушевленный этим небольшим жестом великодушия, я продолжаю:
– Это я построил его мемориал в Сент-Огастине.
– Вот этот? – говорит он, щелкая пультом в руке, после чего возникает проекция фотографии мемориала Инго. Его трудно разглядеть, потому что вокруг кишит огромная толпа туристов и паломников, но я вижу, что, хотя участок тот же самый, сам мемориал совершенно другой. На нем в камне изваяны в полный рост все горемычные и незримые люди – те самые, чьему каменному изваянию истинный Инго, мой Инго, ужаснулся бы. Это плохая версия вьетнамского мемориала. Мой доппельгангер – Фредерик Харт в сравнении с моей Майей Лин. М-м-м. Майя Лин.
– Это не мой мемориал Инго, – говорю я.
– Нет, это мой.
– Но тебя не существует, – проныл я.
– Друг мой, – говорит он, – я же не сомневался в твоем существовании. Я проявлял уважение и дружелюбие. Я пригласил тебя на сцену в совершенно особенный для меня и этой публики вечер. Я бы попросил ответить мне той же любезностью.
Зал меня освистывает. Кто-то бросает помидор, попадает мне в грудь. Откуда у них помидоры, если меня не ожидали? В лоб прилетает камень. Откуда у них камни?
– Прошу, – говорит доппельгангер залу. – Ведь мы не жестокие люди.
– Простите! – доносится из зала злой, истеричный, извиняющийся голос.
– А теперь, друзья мои, у меня есть особый подарок, сюрприз, если угодно, – говорит доппельгангер. – Превью моего сериала на «Нетфликсе» – покадровое воссоздание утраченного шедевра Инго.
– Покадровое? – говорю я.
– Ну разумеется, – говорит доппельгангер.
– Во-первых, это невозможно, даже если ты правда видел фильм.
– Возможно. У меня эйдетическая память.
– Эйдетическая память – это миф. Ее не существует.
– Неужели? Ты сказал: «Инго понимал, что нельзя снять фильм о Незримых, не потеряв саму их… незримость. Он знал: единственный способ показать истину о Незримых в обществе – не показывать их». Я сказал: «То есть его фильм о Незримых не показывает их беду?» Ты сказал: «Показывает только белых, причем в формате непрерывной и запутанной комедии. Обделенные остаются за кадром». Я сказал: «Как и в любом другом фильме». Тогда зал рассмеялся, потом зааплодировал, потом затопал ногами. Ты сказал: «Нет. Инго анимировал Незримых. Просто не снял. Только запомнил их. Забрал их истории с собой в могилу». Я начал: «Видимо…» Ты сказал: «Не видимо! В этом-то и вся суть». Я сказал: «Туше». Ты сказал: «Это я построил его мемориал в Сент-Огастине». Я сказал: «Вот этот?» Здесь я щелкнул пультом в руке, после чего возникла проекция фотографии мемориала Инго. Ты сказал: «Это не мой мемориал Инго». Я сказал: «Нет, это мой». Ты проныл: «Но тебя не существует». Я сказал: «Друг мой, я же не сомневался в твоем существовании. Я проявлял уважение и дружелюбие. Я пригласил тебя на сцену в совершенно особенный для меня и этой публики вечер. Я бы попросил ответить мне той же любезностью». Здесь тебя освистали. Кто-то бросил помидор и попал тебе в грудь. В лоб попали камнем. Я сказал залу: «Прошу, ведь мы не жестокие люди». «Простите!» – ответил кто-то из зала. Я сказал: «А теперь, друзья мои, у меня есть особый подарок, сюрприз, если угодно. Превью моего сериала на „Нетфликсе“ – покадровое воссоздание утраченного шедевра Инго». Ты сказал: «Покадровое?» Я сказал: «Ну разумеется». Ты сказал: «Во-первых, это невозможно, даже если ты правда видел фильм». Я сказал: «Возможно. У меня эйдетическая память». Ты сказал: «Эйдетическая память – это миф. Ее не существует». Я сказал: «Неужели?» И вот, друг мой, мы дошли до этого момента.
– Я сказал не так.
– О, именно так.
– Не так.
– Томми, можешь проиграть запись, пожалуйста?
Из динамиков раздается запись: «Инго понимал, что нельзя снять фильм о Незримых, не потеряв саму их… незримость. Он знал: единственный способ показать истину о Незримых в обществе – не показывать их. То есть его фильм о Незримых не показывает их беду? Показывает только белых, причем в формате непрерывной и запутанной комедии. Обделенные остаются за кадром. Как и в любом другом фильме. [Смех. Аплодисменты. Топот ног.] Нет. Инго анимировал Незримых. Просто не снял. Только запомнил их. Забрал их истории с собой в могилу. Видимо… Не видимо! В этом-то и вся суть. Туше. Это я построил его мемориал в Сент-Огастине. Вот этот? [Щелчок пластмассового устройства.] Это не мой мемориал Инго. Нет, это мой. Но тебя не существует. Друг мой, я же не сомневался в твоем существовании. Я проявлял уважение и дружелюбие. Я пригласил тебя на сцену в совершенно особенный для меня и этой публики вечер. Я бы попросил ответить мне той же любезностью. [Освистывание. Звук попадания помидором по торсу. Звук попадания камнем по лбу.] Прошу, ведь мы не жестокие люди. Простите! А теперь, друзья мои, у меня есть особый подарок, сюрприз, если угодно. Превью моего сериала на „Нетфликсе“ – покадровое воссоздание утраченного шедевра Инго. Покадровое? Конечно же. Во-первых, это невозможно, даже если ты правда видел фильм. Возможно. У меня эйдетическая память. Эйдетическая память – это миф. Ее не существует. Неужели? И вот, друг мой, мы дошли до этого момента. Я сказал не так. О, именно так. Не так. Томми, можешь проиграть запись, пожалуйста?»
Запись выключается.
– Ну вот, – говорит мой доппельгангер.
– Ладно, впечатляет. Хороший трюк.
– Спасибо, друг мой. Теперь можно продолжать мой вечер?
– Да пожалуйста. Мне уже вообще все равно.
– Спасибо, друг мой. Итак, друзья мои, без дальнейших проволочек наслаждайтесь знакомством со скорой премьерой.
Свет гаснет, и на экране позади нас появляется логотип «Нетфликса». Он темнеет и сменяется кадром, где камера летит в черноте глубин космоса, мимо планет и метеоров. Рассказчик начинает глубоким голосом: «В галактике Черный Глаз есть мир под названием Борей-Гефест».
Мы прибываем на планету, объятую пламенем.
Рассказчик: «Сторона, обращенная к солнцу, вечно горит».
Камера огибает планету, чтобы раскрыть темную сторону, покрытую льдом.
Рассказчик: «Противоположная сторона вечно покрыта льдом».
Камера наезжает на планету.
Рассказчик: «Это история Мэдд и Молли, воительниц, обитающих на границе, которые сразятся с армией льда и армией огня, чтобы спасти невинных порабощенных детей своей земли».
Камера останавливается на Мэдд и Молли, двух молодых борее-гефестианских афроамериканках с мечами и пенисами в ножнах; они сосредоточенно склонились над картой.
Глава 60
После этого доппельгангер приглашает меня выпить и обсудить наши разногласия – в надежде, говорит он, что мы придем к консенсусу. Я отклоняю предложение, потому что на сегодня у меня уже есть планы. А именно – проследить за ним до дома, чтобы получить преимущество над этим широко шагающим и далеко идущим самозванцем. Так что мы прощаемся. Он обнимает меня и называет «земляком». Я понимаю, что он обнимает меня как собрата-еврея.
– Я не еврей, – говорю я.
– Ой вей, – говорит он. – Когда-то я был таким же, как ты. Приходи со мной в эту пятницу в Храм актеров. А потом устроим нош[154]154
Nosh (от иддишского «нашн») – перекус. – Прим. ред.
[Закрыть] у «Книшионера Гордона», будет небольшой свойский киббиц.
– Мне пора, – отвечаю я, с трудом извлекаясь из его медвежьих объятий. На его черной водолазке осталось пятно от клоунского грима.
– Ладно, друг мой, – говорит он. – Я буду на связи.
Как? Как ты будешь на связи? Где ты меня найдешь? Лжец! Я киваю и машу на прощание. Когда он уходит, я считаю до семнадцати, потом следую за ним. Смотрю на наручные часы на поясе: 21:30. Оказывается, он живет в том самом люксовом жилкомплексе, где когда-то жил я и где теперь мою бывшую квартиру занимает Марджори Морнингстар. Я жду снаружи, перед «Данкин Донатс», пока меня не прогоняет управляющий. Перемещаюсь к бухгалтерской фирме – к счастью, уже закрытой. Доппельгангер вновь показывается в 23:00 – на этот раз в халате, тапочках и с собачонкой на поводке. Кажется, это миниатюрная чихуахуа, из тех, что можно посадить в чайную чашку. Но у нее какие-то странные пропорции. Я горжусь своим знанием собачьих пород после длительного изучения «Системы природы» Линнея, а также стандартных руководств для судей Американского собаководческого клуба. Голова этой собаки пропорционально меньше, чем требуется для выставочной породы. Вдобавок у нее необычно длинный намордник. Я рискую приблизиться. Они сворачивают за угол на 45-ю – мой двойник, похоже, увлекся перепиской по телефону. Здесь намного тише. И темнее. Сказать по правде, у меня нет плана, но отсутствие пешеходов и темнота вызывают какое-то помутнение в сердце. И тут он оборачивается – возможно, почуяв изменение в эмоциональной погоде, внезапный холодный фронт, бурю, порывистые ветры.
– А, это ты, – говорит он, пытаясь изобразить благодушную улыбку, которая то пропадает, то появляется, как натянутая, а потом отпущенная резинка.
– Да, – отвечаю я.
– Совпадение? – спрашивает он.
– Бывают ли совпадения?
– Ну вот, теперь ты заговорил как религиозный человек. Рад это слышать. Чем могу помочь?
– Нами обоими играют, – говорю я.
– Играют?
– Кто-то и где-то.
– По-моему, я в жизни благословлен.
– Да. Но это, конечно, может измениться. За кулисами всегда поджидает открытый люк.
– Не понимаю.
– Беда. Унижение. Прямо за углом.
– На 44-й улице?
– Не умничай. Ты понял, о чем я.
– Хашем испытывает нашу веру. Если бы не испытывал, вера была бы не нужна. Ты же это понимаешь, да?
– Я не еврей.
– Когда-то я был секулярным евреем, как ты. Потом обрел истинный смысл.
– Нет. Я не еврей от рождения. Мои предки по большей части – ирландские католики.
– Любопытно, – говорит он. – Я это говорю из-за твоего носа.
– Этот нос мне сделали антисемиты с Юга США.
– Вот о чем я бы хотел как-нибудь послушать за ношем.
– У тебя есть то, что по праву принадлежит мне.
– Благословение Хашема?
– Фильм Инго.
– А. Знаешь, редактор мне говорил, что каждый раз, когда книга добивается успеха, появляются люди, чтобы заявить о своем авторстве, о том, что ранее автор читал их книгу, о том, что их книгу украли, и тому подобное.
– Я жил той жизнью, которой якобы жил ты. Я видел фильм Инго. Я беспомощно наблюдал, как его погубил пожар, вызванный моим невежеством.
– Потоп.
– Потоп?
– Фильм, конечно же, погиб во время урагана Ирма. Это все знают. Так решил Б-г. Никто не виноват, как сказал бы наш древнекитайский друг Лао-цзы. Всё есть в моей книге.
– Как насчет Мадда и Моллоя? – спрашиваю я.
– Кого и кого, друг мой?
– Мадд и Моллой.
– Ни о чем не говорит.
– Персонажи. Из фильма Инго.
– В какой сцене?
– В каждой!
– Не помню.
– Неудачливый комедийный дуэт.
– А. Может быть. Был один момент. Короткий. Мельком. Поздно вечером Молли смотрит по футуристическому космическому телевидению фильм, и там слышно какое-то комедийное пустозвонство. Мы не видим телеэкран, только слышим. Эта сцена рассказывает об одиночестве Молли, отчуждении, когда ее единственный товарищ – пустозвонство по телевизору. Забавно, я и забыл. И не вставил в книгу. Я-то, со своей идеальной эйдетической памятью. Малозначимый, конечно, момент, но он все же добавляет сцене некую резкость. Чувствуется, как он отображает потраченное впустую время, как наши мозги забиваются пустозвонством. Я уже сказал слово «пустозвонство»? Вроде бы я употребил слово «пустозвонство» для описания фильма, который она смотрит, но не уверен. Человек не может вернуться и перечитать транскрипцию своей беседы. Хотя я могу, поскольку у меня эйдетическая память.
Доппельгангер замолкает, задумывается.
– Да, пустозвонство. И «пустозвонство» – слово не хуже других для передачи, которую смотрит Молли, но мы, зрители, его даже не видим, о чем я уже упомянул. Да, возможно, там были Мадд и Маллели, о ком ты…
– Мадд и Моллой.
– Прошу прощения?
– Мадд и Моллой.
– Ах да. Они. Должно быть, это они. Единственный случай появления комедийного дуэта, что я могу припомнить. Очень малозначимый. Но подчеркивает настроение сцены, согласен? Почти как печальная мелодия пианино. «Пустозвонство» – интересное слово. Тебе известна его этимология? Удивительно и многозначительно простая. По сути, это потворство. Труд, рассчитанный на чужое внимание. «Пустой» – то есть бессмысленный, «звон» – то есть привлечение внимания. Сколько времени нашей жизни мы тратим на чужое пустозвонство, раздаривая свое внимание, одобрение, аплодисменты потугам, предназначенным лишь для самовосхваления? Задумайся обо всех книгах в мире, всех фильмах, сериалах, музыке, изданиях, политиках-демагогах, «творцах» всех мастей. Представь, что все пустозвонство… я ведь уже рассказал об этимологии этого слова? В любом случае представь, что все эти люди и их произведения свалены в одну гору. Достала бы она до луны? Думаю, не раз. И вот это мы вбиваем себе в мозги. Как оно только умещается? За это я среди прочего и люблю творчество Инго. Его не прельщало вбивать что-то людям в голову. Его мотивы были чисты. Он творил для себя. И потому я с чистой совестью вбиваю его творчество людям в головы. Оно качественно иное и оттого представляет собой нечто вроде лекарства, антидота, если угодно, для всего того мусора, что мы потребляем на ежедневной основе. Меня никогда не привлекало самовосхваление. Как религиозный человек, я уже исполнен духа Хашема. Я не нуждаюсь и не жажду похвалы мужчин, восхищения женщин. Мне не нужно видеть свое лицо на обложке «Роллинг Стоун», как говорит наш добрый друг из Хиксвилля Билли Джоэл. Забавно, если задуматься, что имена Мэдд и Молли похожи на имена Мадд и Моллой. Возможно, ты что-то перепутал.
– Доктор Хук.
– Прошу прощения?
– «Доктор Хук и Медисин Шоу». Это их песня. А не Билли Джоэла.
– Я совершенно уверен, что мистера Джоэла. «Верни меня в отдел уцененных товаров, как очередную банку бобов». Я помню…
– А это «The Entertainer» Билли Джоэла. Вообще другая песня.
– Не думаю. Мне никогда не нравилась эта строчка. Что банка бобов делает на полке уцененных товаров в музыкальном магазине?
– Просто это разные песни.
– Можно спорить весь день, но…
– Нет. Можно легко проверить.
– Но суть не в этом, верно? Суть в том, что наш друг Билли Джоэл поместил свои стишки нам в головы, и теперь мы вынуждены жить с ними вечно. Они меняют проводку мозга. Об этом позаботились белки Arc. Они делают нас теми, кто мы есть. Заставляют задаваться вопросом, что банка бобов делает на полке уцененных товаров в музыкальном магазине. А все потому, что Билли Джоэлу нужна наша любовь, наши воздаяния, наши чествования. Хашем ни о чем подобном не просит.
– Не просит?
– Нет, друг мой. Не просит. Нам не нужно умолять о его внимании. Нам не нужно быть знаменитыми, чтобы он нас увидел. Он видит нас всегда. Судит нас по сердцу, а не по известности. Наш друг Билли Джоэл заявляет, что мы не разжигали пожар. Но, конечно, кто же еще? Каждый пункт в этом его длинном списке с неидеальной рифмой создан людьми. Это мы разожгли пожар, мистер Джоэл. А теперь можешь сколько угодно говорить, что это песня Доктора Хука, Доктора Дементо[155]155
Американский радиоведущий и популяризатор музыки. – Прим. ред.
[Закрыть], Доктора Дре или даже доктора Кеворкяна[156]156
Джек Кеворкян (1928–2011) – американский врач-патолог, популяризатор эвтаназии, получивший в прессе прозвище Доктор Смерть. – Прим. ред.
[Закрыть], но я говорю, что ты ошибаешься, а кроме того, это неважно, потому что я все равно говорю правду. В погоне за деньгами, славой или властью люди творят бесчинства. Вот почему я верю в образцовость жизни и фильма Катберта.
Я настолько сосредоточен на своем двойнике и его непрестанных выдумках, что еще не взглянул на его собаку. Но теперь та шумно шмыгает, чем привлекает мое внимание, и я бросаю на нее взгляд. Оказывается, это вообще не собака; это кукла осла из фильма Инго, из моей похоронной урны, – теперь, похоже, ожившая в человеческом мире.
– Привет, – говорит мне осел.
– Ты, – говорю я. – Ты-то меня знаешь. Скажи ему. Скажи всем!
– Может, мы мельком встречались, – говорит он. – По работе я встречаю многих.
– По работе?
– Я животное-поводырь.
– Он же не слепой.
– Я собака… осел… ну, кукла осла… ну, ожившая кукла осла – поводырь для эмоциональной поддержки. Разве это не очевидно? Ты что, дурак совсем?
По какой-то причине его надменный тон приводит меня в бешенство. Наверное, потому, что оскорбления от осла – это уже перебор. Не задумываясь ни на секунду, я наступаю на него. Что поразительно, он сделан не из силикона поверх арматуры из нержавейки. Кукла расползается, как раздавленный персик, превращаясь в маленькое ужасающее месиво крови и костей на тротуаре. Он еще жив, пытается заговорить:
– Пожалуйста, не надо…
Не знаю, из милосердия или злобы, но я наступаю еще два раза. Теперь он замолкает. Я поднимаю глаза на доппельгангера, пристыженно, но в то же время почему-то победоносно.
– Что ты наделал? – чуть ли не шепчет он. – Это было б-жье создание, чудо, единственное из своего вида благословенное даром речи.
– Ну и что? – бросаю я, не зная, как еще ответить.
– А то, – говорит он и впервые повышает голос из-за гнева, – что мне необходимо известить об этом соответствующие органы. Он был моим другом и наперсником. Он был мудр. Он был б-жьим созданием.
– Это ты уже говорил, – отвечаю я, а потом бью в челюсть. Он на удивление хрупкий и легкий, и мой кулак отправляет его спиной в столб. Я бью еще раз. И еще. Он не сопротивляется. Потому что пацифист или просто уже не может? Не знаю. Я больше ничего не знаю. Скоро он на земле. Я затаскиваю его в подворотню и избиваю до смерти.
Потом сползаю рядом на цемент. Меня тошнит от внезапного осознания, что я натворил. Замечаю осла на тротуаре, наспех собираю его останки в картонную коробку из мусорки и заношу в переулок. Что мне делать? Я говорю себе, что был в состоянии аффекта, но знаю, что убийство самозванца таилось на задворках моего разума с тех самых пор, как я узнал о его существовании. Говорю себе, что это самозащита, но в свете того, о чем я только что думал, это еще глупее. Чтобы бороться с миром лжи, где я очутился, нужно быть честным хотя бы с собой. Я мечусь туда-сюда. Пытаюсь думать. Нужно выбираться из этого кошмара. Тут в голову приходит очевидное. Я поменяюсь с ним местами. Достаю из гигантского кармана грим и черный карандаш и принимаюсь за лицо доппельгангера. Уже скоро его не отличить от моего размалеванного лица. Расплетаю его бороду. Нахожу в мусорке засохшую тряпку (от чего засохшую? Нет времени размышлять!) и осколок разбитого зеркала и с их помощью стираю собственный грим. Пытаюсь заплести бороду, как умею. К счастью, в мусоре находится и выброшенное руководство по заплетению бороды. Меняюсь с ним одеждой. Хватаю осла и выхожу из подворотни, только чтобы торопливо вернуться, когда я понимаю, что забыл самый главный предмет маскировки: ермолку. Прикалываю ее заколкой к волосам.
У двери в жилкомплекс набираюсь смелости и захожу. Все не так, как я помнил, полностью переоформлено. Теперь здесь есть консьерж.
– О мой бог, мистер Розенберг, что случилось? – говорит он.
– На меня напал сумасшедший. Он убил… моего осла.
– Грегори Корсо?
– Точно. Наверное, Грегори Корсо. Именно так.
– О мой бог.
– Б-г?
– Да. Простите. Б-г. Я вызову полицию.
– Это еще не все. Скажите полиции, что при самообороне я, кажется, убил сумасшедшего.
– О ваш б-г.
– Его тело осталось в подворотне на 45-й.
– Ладно. Понял. Все будет хорошо, мистер Розенберг.
– И что он клоун или как минимум одет как клоун.
– Клоун?
– Да. Так и скажите.
– Клоун. Понял, – говорит он, записывая.
– Я пойду в квартиру, чтобы успокоить нервы. Я в таком состоянии, что ничего не помню, даже номер своей квартиры.
– Буква.
– Что?
– Буква.
– А.
– Нет. «Ж».
– «Ж». Точно.
Странно, что у них здесь буквы. Как же понять, на каком этаже квартира?
– Здесь только одна квартира на этаж.
– Начиная с А?
– Да.
Я считаю по пальцам.
– Значит, восьмой.
– Ну, квартиры начинаются со второго, о чем, уверен, вы скоро вспомните.
– Значит, девятый.
– А на пятом кинотеатр и переговорные комнаты, о чем вы, несомненно…
– Значит, «Ж» – на десятом.
– Вот видите? Память уже возвращается. Послать к вам полицию, когда они прибудут?
– Полагаю, они сами будут на этом настаивать.
– Тоже так полагаю, мистер Розенберг. Если бы только можно было обойтись без этого.
– Если бы, – говорю я, поворачивая направо к лифту.
– Нет, сэр, налево.
Тогда я поворачиваю налево.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































