Текст книги "Муравечество"
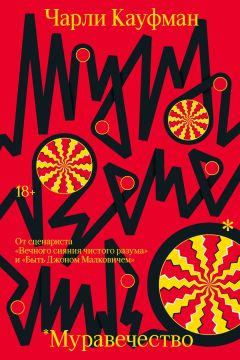
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 45 страниц)
Глава 50
Я коротаю время в пути на поезде к Барассини, составляя список 2017 года (сейчас 2017-й?):
10 – L’amant Double (Озон)
9 – Werk Ohne Autor (Хенкель фон Доннерсмарк)
8 – Un Beau Soleil Intérieur (Дени)
7 – «Том из Финляндии» (Карукоски)
6 – «Дональд плакал» (Аведисьян)
5 – Fingerspitzengefühl (Стерн)
4 – «Эй, Тимми Гиббонс, звонит твоя мама!» (Апатоу)
3 – «Битва при Сэкигахаре» (Харада)
2 – Reakcja Iancuchowa (Пачек)
1 – Inxeba (Тренгов)
– Рассказывай.
Ночь. Дорога через кукурузные поля сияет в бледном лунном свете. В отдалении – шум приближающихся голосов. Теперь шаги. Бегут. Двое. Тяжелое дыхание. Появляется титр: «Черная полоса в Зажопвилле». Растворяется. Плавный поворот дороги, и из-за него на камеру выбегают двое тощих людей с написанным на лицах отчаянием. Они оглядываются: за ними гонятся. Это Мадд и Моллой, постарше, потрепанней. Теперь я следую за ними на бегу.
– Все не так уж плохо, – говорит Моллой.
– Плохо, Чик.
– Ну, у меня есть мысли, как подтянуть наш номер про врача.
– Дело не в подтягивании. Дело в идее. Где это слыхано – скетч про врачей, где оба героя – врачи?
– Врачи ходят к врачам, – говорит Моллой. – А куда, по-твоему, идут врачи, когда болеют? Подумай головой. К врачам, куда же еще.
– Отлично. Тогда так и сделаем. Один врач – больной, второй его осматривает. Это может быть смешно. А не то что два врача осматривают друг друга одновременно.
– Но в этом как раз и есть юмор! Мне смешно, даже когда ты просто говоришь.
– Ты не смеешься.
– Уж прости, что берегу воздух, чтобы сбежать от очередной разъяренной толпы.
И на этих словах из-за поворота появляется толпа. У них в руках факелы, вилы и театральные билеты.
– И они близнецы, – продолжает с одышкой Моллой. – Это тоже смешно.
– Людей это пугает.
– Не понимаю почему.
– Может, потому что они вручную обследуют друг другу прямую кишку.
– Мы же ничего не показываем! Все в профиль!
– Чик, прямую кишку вообще не обследуют вручную. Ты это просто выдумал.
– Но будут. Я немало читал на тему проктологии и урологии.
– Зачем? Господи, Чик, зачем?
– Потому что я любознательный. Ты что же, не хочешь, чтобы наш юмор был авангардным?
– Не уверен.
– Я читал Локхарта-Маммери о проктологии и разработал собственный метод диагностики. Уверен, исследование, которое я предсказываю, – исследование прямой кишки вручную – однажды будет стандартным на раннем этапе определения рака простаты. У мужчин, понятно. Ты знал, что у женщин нет простаты?
– Не знал.
– У них нет простаты! Разве не здорово?
– Отлично. Просто отлично, Чик.
– Я хочу воротить взад нашу славу. Фигурально выражаясь.
– Мы никогда не работали в пошлом жанре.
– Люди меняются, Бад. А те отношения, которые остаются, это только подтверждают. Это относится как к браку, так и к дружбе.
– Нашим бракам конец, Чик. Уж твоя травма мозга об этом позаботилась.
– Бывает. Иногда жизнь бросает крученый. Подстраиваешься. Делаешь лимонад. Возвращаешься на коня. Поднимаешься, отряхиваешься и начинаешь заново.
– А ведь я бы мог работать с Бессером.
– Да, Бад, мы бы все могли работать с Бессером, но…
– Ты бы не мог.
– Метафорически, Бад. Метафорически говоря, мы бы все могли работать с Бессером.
– Я не понимаю, что это значит. Это ничего не значит.
– Я имею в виду, мы бы все могли работать с Бессером, но правильно ли это? Мир изменился. Мы уже не пара жеребцов. Мы два взрослых, многогранных человека в многогранном мире. С предстательной железой. Это нужно признать для себя, если мы хотим оставаться жизнеспособными и актуальными.
– Я правда понятия не имею, о чем ты говоришь.
– Шутки про продажу бойскаутской газировки остались в прошлом.
– У нас их никогда и не было, Чик.
– Ну, что бы там ни было – в памяти все размыто, – это осталось в прошлом.
Мадд оглядывается.
– Догоняют!
– Быстро! Срежем через кукурузу!
И вот они бегут в кукурузе. Долгое время есть только одышка, сумбур и треск кукурузных стеблей. Кажется, что у одного стебля лицо и светлые кучерявые волосы на рыльце. Он просит дуэт о помощи через поджатые губки. Но они проносятся, не замечая, и оказываются у здоровенного одноэтажного здания – длинного, как футбольное поле, и широкого, как другое футбольное поле.
– Это еще что?
– Не знаю, – говорит Моллой. – Какая-то птицеферма?
– Птицеферма?
– Где растят птицу на убой. Птицеферма.
– Но такая большая.
– Некоторые птицефермы вмещают до пятидесяти тысяч птиц. Промышленное птицеводство – это волна будущего.
– Откуда ты такое знаешь?
– Читал, Бад. Читал.
– Я тоже читаю, а такого не знаю.
– Я любознательный, Бад, я любознательный.
– Я и сам такой.
– Ладно. Так или иначе, лучше спрятаться внутри, пока толпа не уйдет.
Интерьер птицефермы – Ночь. Помещение огромное, освещение тусклое – от полной луны за потолочными окнами. На удивление, бо́льшая часть здания находится под землей – огромное открытое пространство, уходящее вниз где-то на семь этажей.
– Господи, – шепчет Мадд. – Такого я не ожидал. Где курицы? Не вижу ни одной курицы.
– Не знаю, Бад. Что-то не так. Может, они от нас прячутся.
– Все пятьдесят тысяч?
Моллой начинает спускаться далеко вниз по металлической винтовой лестнице.
– Уверен, что стоит, Чик?
– В тени безопасней.
– Не знаю. Страшновато, – говорит Мадд.
– Что ты как маленький.
Мадд опасливо следует за ним. Вниз, вниз, вниз во тьму, туфли звенят по стали ступенек из ромбовидной решетки, отдаются в огромном открытом пространстве. Наконец, на дне и на цементном полу, все затихает, не считая хрипа Мадда, заядлого курильщика. Когда он умолкает, на первый план выступает другой звук – почти как дыхание, но неестественное, глубокое и сонное.
– Ты слышишь? – спрашивает Мадд.
– Да.
– Что это?
– Как дыхание, но в мегафон.
– Руди Валле? – спрашивает Мадд.
– Что? Зачем Руди Валле дышать тут в мегафон?
– Я не подумал. Просто пришло в голову, когда ты сказал про мегафон[134]134
Руди Валле (1901–1986) – американский певец и саксофонист, в 1920-е часто певший на концертах в мегафон, чтобы тем самым пересилить шум поклонниц. – Прим. ред.
[Закрыть].
Мадд достает зажигалку. Огромное пространство тускло освещается мерцающим огоньком. В дальнем углу сидит фигура, человек, мужчина.
– Привет? – говорит Моллой.
– Привет, – отвечает тот глубоким, но добрым голосом. – Подойдите поближе; хочу вас разглядеть. Мне так одиноко.
Ноги Мадда как приросли к полу, но Моллой подходит к мужчине, привлеченный его голосом, его добротой. Идти приходится долго – кажется, намного дольше, чем ожидает Моллой. Он все идет и идет, а одинокая фигура все растет и растет. Что происходит? Наконец Моллой стоит прямо перед сидящим человеком, который оказывается великаном.
– Ты огромный, – говорит Моллой.
– Да.
– Не ожидал. Эй, Бад, он огромный!
– Я заметил! – кричит Бад далеко-далеко.
Моллой поднимает зажигалку повыше, чтобы разглядеть лицо великана. Оказывается, самое удивительное в нем – не рост. На чем я, зритель, сейчас сосредоточен, так это на его красоте. Я не гей, но не настолько боюсь за свою гетеросексуальность, чтобы заявлять, будто вовсе не вижу красоту мужчин. А он красив – глаза с поволокой, бурлящая чувственность молодого Рудольфа Валентино, благородство точеной челюсти молодого Грегори Пека, обаятельное простодушие молодого Гэри Купера, подкупающая искренность молодого Хэнка Фонды, лукавый блеск в глазах молодого Кларка Гейбла и опрятная беззаботность пожилого сэра Чарльза Чаплина. Невозможно не поддаться тому, как великан очаровывает, соблазняет и, возможно, если позволите, даже влюбляет в себя. Моллой, похоже, заворожен не меньше.
– Черт возьми, – говорит он. – Бад, подойди!
– Нет уж, спасибо! Я просто… мне и тут неплохо, у стеночки, рядом с лестницей.
Моллой оборачивается обратно к великану.
– Позвольте узнать ваше имя? Я Чик Моллой.
– Меня зовут Шерилд. Шерилд Рэй Пэрретт Джаниор.
– Джаниор?
– Это значит «джуниор» на немецком.
– Вообще-то нет. «Джуниор» на немецком – это «джуниор». Более того, в Германии не употребляют слово «младший» так, как мы употребляем в США, то есть для различия сына и отца с одинаковым именем.
– Мой папа говорил, что употребляют. Зачем ему врать?
– Может, не врал; возможно, его ввели в заблуждение.
– Почему языки разные, а слово одно и то же? Разве тогда это был бы не тот же самый язык, а не другой? Глупости какие-то. Вы говорите глупости, мистер.
– Хороший вопрос. Это хороший вопрос. Все это хорошие вопросы. Вы позволите мне отлучиться на минутку?
– Ладно.
Моллой возвращается через огромное пространство к Мадду. Шерилд провожает его взглядом. Времени на это уходит много.
– Слушай, – наконец шепчет Моллой Мадду. – Я вижу наше будущее.
– Ладно. Нет, – говорит Мадд.
– Выслушай. Помнишь «30-футовую[135]135
30 футов ≈ 9 метров.
[Закрыть] невесту из Кэнди-Рока»?
– Последний фильм Лу Костелло.
– Оглушительный кассовый успех. Эксплуатация национальной истерики из-за лучевой болезни.
– Ладно.
– У нас здесь пятидесятифутовый[136]136
50 футов ≈ 15 метров.
[Закрыть] мужчина. Это же золото.
– Что ты хочешь сказать, Чик?
– Возьмем этого тупого, красивого, невозможно огромного малого и снимем собственный фильм про лучевую болезнь. В чем единственный минус «30-футовой невесты»?
– Не знаю. Я не киноэксперт. Как они могут сношаться? В смысле могут, конечно, но она вряд ли что почувствует. Вот о чем я все время думал, пока смотрел фильм.
– Не этот минус. А великанский спецэффект. Не такой уж убедительный с нашей-то нынешней технологией. Что ж, сэр, нам об этом волноваться не придется. У нас здесь настоящий пятидесятифутовый мужчина. «Мадд и Моллой встречают 50-футового мужчину».
– Я не…
– Вот сюжет. Помни, я только набрасываю. Итак… мы физики…
– Физики-близнецы?
– Точно. Правильно. Вот, мы с тобой уже поймали волну. Упражнения Вайолы Сполин окупаются.
– Совершенно одинаковый характер?
– Да. Да! И мы разрабатываем секретный луч для правительства. Это луч изменения размера, и он все делает больше. Мы пытаемся вырастить… не знаю… кукурузу в початках, чтобы накормить голодающих. Гигантские початки, каждого хватает на семью из восьмерых. Ну, знаешь, важная работа. Мировой важности. Однажды мы целимся лучом в кукурузу, а между лучом и кукурузой проходит молодой человек – может, гонится за мячиком, не суть, – и…
– Эй, о чем вы там разговариваете?
– Минутку, Шерилд! В общем, он начинает расти. А нам приходится его скрывать, потому что если правительство узнает, то захочет сделать из него секретное оружие против Советского Союза. Но нам парень нравится, и мы хотим его защитить.
– Ну, не знаю, Чик…
– Так что мы прячем его в лесу. И кормим гигантскими овощами, которые выращиваем. Початками кукурузы. Помидорами. Гигантским рисом, где каждая рисина – в полметра длиной. Затем, через несколько недель, мы замечаем, что гигантские овощи меняются. Например, становятся злыми.
– Злые овощи?
– Над этим я еще работаю, но, думаю, да. Овощи становятся страшными на вид и ядовитыми. Поэтому физики понимают: то же самое коснется и молодого человека. И пытаются создать антидот, пока это не погубило их друга-великана. Но ничего не помогает, и великан сходит с ума и пытается их убить. И тогда его взрывают атомной бомбой.
– Ого. Вау. Не ожидал… Внезапная концовка.
– Но все хорошо сходится.
– Это комедия?
– Комедия, как и всегда, заключается в подаче.
– Судебных исков? Которые подадут, когда посмотрят этот фильм?
– Хорошая игра слов, Бад. Я тобой горжусь. Но нет. Этот фильм станет нашим билетом из глухомани. В нем есть всё: пафос, романтика…
– Ты не говорил ни о какой романтике.
– Разумеется, там будет романтическая героиня.
– Одна? На нас обоих?
– Не будь узколобым, Бад. На дворе шестидесятые.
– Я не знаю, что значит это слово. И вообще, у нас никогда не получалось запустить фильм. Так что этого никогда не будет.
– Теперь, с Шерилдом, все будет иначе.
– Я только что слышал свое имя? – окликает Шерилд.
– Минутку, дорогой, – кричит Моллой, потом говорит Мадду: – А еще сын сестры Патти стал режиссером независимых фильмов. Снимает всякую дрянь про чудовищ.
– Джеральд?
– Я опять слышал свое имя?
– Нет, мы говорим «Джеральд», а не «Шерилд», – кричит Моллой.
– Ладно, – говорит Шерилд. – Я здесь, если что.
– Джеральд так вырос? Господи. От этого что-то стало грустно.
– В общем, если Джеральду понравится Шерилд – а он понравится, – то мы идем в комплекте. Такая сделка.
– Теперь я слышал свое имя два раза. Если Шерилду понравится Шерилд.
– Только один раз. Дорогуша, скажи, какого ты роста? – кричит Моллой.
– Я?
– Да, милый мой.
– Двадцать девять футов.
– Правда? А кажется, что больше.
– Это из-за вертикальных полосок. Мать сшила мне одежду из палатки для фумигации.
– Ну, все равно. Этого мало. Надо хотя бы обойти Костелло. У него была тридцатифутовая невеста, так что двадцать девять не подойдет, – говорит Моллой.
Ходит взад-вперед.
– Конечно, размер еще не все, – говорит Моллой. – Что, если… что, если мы дадим ему обувь со скрытым подъемом? Всего фута на три, чтобы было тридцать два. Обойдем Костелло и… Эй, Шерилд?
– Да?
– Ты согласен носить обувь с подъемом?
– Я не знаю, как это.
– Подъем. Вставка в обувь. Чтобы ты стал выше.
– Мать делает мне обувь из коробок для холодильников. Называет их «лодочки из лодочек», хотя они из коробок, но это, как она рассказывает, просто строчка из песни про девушку с большими ногами[137]137
Отсылка к песне «Oh, My Darling Clementine».
[Закрыть]. Хотя я не девушка и это коробки от холодильников, а не лодочки, которые, по-моему, мне были бы великоваты. Может, хотя бы ялик. Какого размера ялик?
– Это интересно, но ты не ответил на мой вопрос, а именно, если вспомнишь: согласен ли ты носить обувь с подъемом?
– Да. Но зачем? Я и так высокий. Почти двадцать девять футов.
– Почти?
– Ну, двадцать восемь футов одиннадцать дюймов.
– Господи. Все хуже и хуже. Согласен носить обувь с подъемом на три фута один дюйм?
– Наверное. В смысле…
– Так ты хочешь стать кинозвездой или нет, Шерилд? Господи. Многие кинозвезды носят обувь с подъемом. Алан Лэдд, Джеймс Кэгни, Берджесс Мередит. Предсказываю, что и Аль Пачино.
– Я даже никогда не видел кино. Я бы не влез в городской кинотеатр, так что я не хожу.
– Ты не знаешь, что такое кино?
– Мама мне о нем рассказывала. Как я понимаю, это плоская доска с картинкой, только картинка двигается, разговаривает и играет музыку. То есть как фотография, только движется, если послушать маму. И в картинках есть истории. И музыка. А эта доска называется экран.
– Точно. Оно самое. Хочешь туда попасть?
– Я всегда хотел быть кинозвездой.
– Хорошо. Тогда жди здесь. Через несколько дней мы вернемся с каким-нибудь богатеем.
– А вам неинтересно, почему я такой высокий?
Моллой смотрит на часы.
– Эм-м, ладно, да. Валяй.
– Радиация.
– Вау. Ладно. Отлично. Спасибо. Короче, никуда не уходи. Мы вернемся.
– Я буду здесь. Я и не могу никуда уйти. Мама говорит, если меня увидят горожане, они решат, что я демон из ада, и убьют на месте. Мама всегда об этом говорит, и еще про кино.
– Горожане в этих краях удивительно легковозбудимые.
Глава 51
Я постарел с той же скоростью, что и мои сверстники? Вот Арвид Чим, мой сосед по гарвардскому общежитию, чье издательство публикует мои монографии, выглядит моложе. Он единственный из однокурсников, с кем я поддерживаю связь. Потому что он самый успешный из нас? Спорно, но возможно. Впрочем, важнее, по-моему, что он живет самой полной жизнью: женат на милой денежной девушке из Мейн-Лайна в Филадельфии, у них трое детей – полагаю, разного возраста. Это все, о чем мечтал Арвид. Не эту жизнь я представлял для себя, и я исключительно успешен в том, чтобы ею не жить, но не жил я и той жизнью, которую себе представлял. Любил ли я когда-нибудь любовью из всех любовей? Вот на что я надеялся в молодости. Любовь на века: пламя страсти, слезы, восторг, осознание, что нельзя жить друг без друга, что жить друг без друга не захочется. Любовь Тристана и Изольды, Абеляра и Элоизы, Ромео и Джульетты. Я знал, что она у меня будет. Знал, что без нее мне не быть полноценным. И все же ее не нашел. Все мои отношения – болото переговоров, уступок, компромиссов. Мне, конечно, известно о практической невозможности такой величественной любви. Я знаю, что связь, которую я искал, – лишь иллюзия, проекция… Знаю все это слишком хорошо. Так хорошо, что даже не искал. Так и не узнал для себя в ходе жестоких и непрестанных проб и ошибок, что эта любовь невозможна, и потому не снимал для себя этот вопрос, а следовательно, в глубине души подозреваю, будто потерял свой шанс, будто упустил свою вторую половинку, истинную половинку, будто совершил великое космическое преступление, будто проявил великую слабину характера и будто все дальнейшее – результат того преступления. Вселенная хмурится на меня, старит раньше времени. Была бы у меня полная голова волос и гладкая сияющая кожа, стремись я и дальше к своей судьбе? Подозреваю, что вполне. «Где бы я был сейчас, если бы подчинился зову сердца?» – задаюсь я часто вопросом.
В молодости меня покорила одна красивая женщина. Казалось, у нее ко мне схожие чувства. Мы безобидно флиртовали на работе (мы трудились консьержами в известном высококлассном бутик-отеле в Нью-Йорке). Не скажу ее имя, но вы его слышали. Тогда я был женат, слишком рано и неудачно, но у нас случайно родился ребенок, так что я поступил сознательно. Вот весь я одним словом. Сознательный. Хороший человек. Всегда поступаю правильно. Но правильно ли поступать правильно? Или поступать правильно – это трусость? Делать то, что ничего не меняет? В чем другие не могут найти изъян? Если романтические фильмы чему-то нас и научили, так это что, будучи сознательными, мы несознательны к самим себе. К космосу. К сюжету. Даже к тем, кого ужасно подведем, если преступно бросим. Ведь разве не лучше быть честным с ней, с ним, с тоном? Мне кажется, пожалуй, лучше. В конце концов, брак у меня все равно распался. Ее покорил арт-критик, причем посредственный. Но было уже поздно. Консьержка Моего Сердца (как мы когда-то в шутку называли друг друга) тоже вышла за арт-критика. Другого, хотя и равно посредственного. Как не подивиться случайной симметрии жизни. И она была счастлива, едва ли не упоительно, говорила она, хотя я всегда считал, что она как будто малость оправдывается. А моя жизнь была разрушена. И я постарел. И выгляжу несчастным, упоительно несчастным. И не сплю по ночам. И принимаю таблетки, чтобы не сорваться. И дело не только в ней – хотя, будь она со мной, не сомневаюсь, все остальные разочарования меня бы не трогали, но ее нет, так что на первый план выступают мои профессиональные неудачи. В каком-то смысле та же трусость, что мешала мне добиться успеха в истинной любви, помешала добиться успеха и в моем истинном призвании. О, ну снял я фильм. Снял на гроши, которые взял взаймы у сестры, удачно вышедшей замуж. Он не помог моей карьере так, как я ожидал – как, верю я по сей день, должен был помочь. Данный фильм – и я это говорю как объективный профессиональный критик с докторской степенью в области кинематографа послевоенной Европы, – возможно, самый блестящий за последние двадцать лет. Конечно, у него есть свои минусы. Не говорю, что их нет. Во-первых, он на десятилетия опередил свое время. Во-вторых, признаю, для публики он оказался слишком эмоционально изматывающим. Зритель в большинстве своем не ищет столь неотступно напористого, столь разрушительно душераздирающего переживания, что способно изменить тебя навсегда. А потом еще были критики, которые, одним словом, обзавидовались. Им всем самим хотелось снимать кино, но они бездарны, так что излили свою ярость в потоке умеренно негативных рецензий. В некоторых случаях вообще отказывались его рецензировать.
– Ты отвлекаешься.
Руни и Дудл ждут сигнала перед входной дверью в огромную декорацию в виде дома. Руни попыхивает сигарой. Дудл выполняет глубокие приседания. Из дома доносится голос:
– Где эти два плотника? Я их ждал уже полчаса назад!
Руни затягивается последний раз, бросает сигару на пол, давит каблуком, развеивает дым, потом стучится. Шаги; дверь раскрывается, за ней оказывается кукла Вернона Дента.
– Наконец-то! Вы опоздали.
– Простите, мистер, – говорит Дудл. – Мы точили молотки.
– Ну, не прохлаждайтесь. Заходите. Работа не ждет.
Руни и Дудл входят.
– И что нужно, начальник?
– Нужно построить лестницу на второй этаж.
– Мы не…
– Будет сделано, шеф.
– И чтобы была готова, когда вернусь через два часа, – говорит Дент.
– Но мы не умеем…
– Легко. Лестница на второй этаж. Сделаем.
– Хорошо. Два часа. Ни секундой больше, ни секундой меньше. Или вы больше не построите ни одной лестницы в городе.
– Два часа.
– И лучше не облажайтесь.
– Но…
– Не переживайте, начальник.
Вернон Дент кивает и уходит.
– Мы же не умеем строить никаких лестниц, Джо.
– Проще пареной репы. Сперва делаешь одну ступеньку, встаешь на нее, потом делаешь следующую, потом следующую, и так – пока не доберешься до второго этажа.
– И все?
– И все. Проще пареной репы.
– Ступенька, встать на нее, следующая ступенька, и так – пока не доберемся до второго этажа?
– Вот именно.
– Ясно.
– Тогда за работу.
– Я?
– Да, ты.
– А ты что будешь делать?
– А я прораб.
– Ясно.
Долгая пауза, пока Руни поправляет пояс с инструментами, измеряет доски, оглядывает пилу, разминает руки, опять поправляет пояс. Дудл только наблюдает за ним.
– Джо? – говорит Руни.
– Да?
– Я не умею делать ступеньки.
– А еще плотником называешься.
– Я не называю себя плотником. Это ты назвал меня плотником.
– Потому что я в тебя верил. А теперь не знаю, что и думать. Мне за тебя стыдно.
– Но…
– Ты эту кашу заварил. Теперь расхлебывай и делай дело.
– Ладно, Джо.
Руни неуверенно берет доску, молоток, гвоздь. Смотрит на Дудла.
– За работу! – говорит Дудл.
Руни исполняет замысловатый предстроительный ритуал потягивания рук и разминки пальцев, потом наконец вбивает гвоздь в деревяшку. Дом начинает шататься. Руни и Дудл вскидывают глаза, явно испуганные; на них падает стена. Руни оттаскивает Дудла в комнату. Стена падает внутрь, но оба целы, потому что Руни поставил их под открытое окно. Этот танец повторяется еще пять раз, пока стены дома падают одна за другой. Каждый раз Руни бежит с Дудлом в охапку и ставит ровно под открытое окно. Когда все кончается, дом разрушен, а Дудл с Руни – невредимы. Съемочная группа разражается аплодисментами.
Рецензия «Вэрайети»:
Что можно сказать о «Ломать – не строить» – фильме, в котором мы знакомимся с новым замечательным комедийным дуэтом Руни и Дудла? Картина во многом полагается на отработанные устные дурачества, уже знакомые нам по комедии Эбботта и Костелло, однако эти дебютанты добавляют выдающийся физический юмор. Более того, здесь имеется, возможно, самая выдающаяся сценка, когда-либо попадавшая на пленку. Исследователи кинематографа наверняка помнят «Одну неделю» – немую ленту Бастера Китона 1920 года с эпизодом, когда на незадачливого героя падает дом, но сам он остается невредим, поскольку по исключительной случайности находится на пути открытого окна. Представьте этот трюк, умноженный многократно: Руни и Дудл перебегают из комнаты в комнату в разрушающемся доме, избегая верной смерти не один, а шесть раз. С этим отважным достижением команда Руни и Дудла поднимается на новый уровень физической комедии. После появления звука в кинокомедиях началось движение в сторону исключительно устных дурачеств. Как следствие, новый класс комиков не выработал физические навыки комиков немой эры с их водевильной подготовкой. Это разочаровывает публику, которая быстро устает от избитых хаханек Эбботта и Костелло. Без выдающегося физического трюка картину «Ломать – не строить», пожалуй, сочли бы лишь подражанием, второсортным фильмом в стиле Эбботта и Костелло, но благодаря этой зрелищной добавке мы приветствуем ленту в пантеоне киноклассики всех времен.
Пока я ворочаюсь в спальном кресле, беспокоясь из-за денег и своего наследия, в голову вдруг приходит идея. Благодаря ее гениальности я разбогатею настолько, что хватит на полный ремейк фильма Инго и еще останется, так что я убью этих двух зайцев неудачи одним выстрелом изобретательности.
Стучусь в окно Марджори Морнингстар. Она поднимает штору, с прохладцей смотрит на меня, спрашивает «Что?» через все еще закрытое окно.
– Я надеялся быстренько кое-что обсудить, – говорю я.
– Да?
– Можно войти? У меня есть идея.
Она так театрально вздыхает, что мне слышно даже через новоустановленный звукоизолирующий стеклопакет, открывает окно, отходит.
– Спасибо, Марджори Морнингстар.
Она кивает. А я перехожу к своему спичу:
– Что самое худшее в долгой поездке?
– Эм-м, не знаю. Что? – спрашивает она.
– Ну, угадай. Нужно угадать.
– Когда ноги затекают.
– Что?
– У меня затекает нога от того, что я слишком долго держу ее на педали газа.
– Бред какой-то!
– Ты спросил, я ответила.
– Но это неправильно.
– Ладно. Тогда, может, сам скажешь? Я сейчас немного занята.
На ее кровати лежит на спине мужчина с эрекцией.
– Грязные туалеты.
– Угу. Круто. В общем, я тут вроде как занималась…
– Тебе нравятся грязные туалеты?
– Нет…
– Вот именно. Никому не нравятся. Так что у меня есть бизнес-предложение, чтобы предложить владельцам «Слэмми».
– А.
– И я надеялся, ты поможешь до них достучаться.
– Хочешь предложить помыть туалеты?
– Хочу открыть сеть люксовых придорожных туалетов. И мне нужен стартовый капитал. Это прекрасная идея, я уверен. За номинальную плату – скажем, три доллара – получаешь нетравматичный туалетный опыт.
– У меня вряд ли получится…
– Просто помоги мне достучаться. Даю двадцать процентов за хлопоты. Приблизительно двести двадцать миллионов человек проводит в машине в среднем девяносто минут в день. Скажем, одна восьмая этих добрых честных людей, скажем приблизительно, заплатит три доллара за чистый люксовый туалет. Это двадцать семь миллионов человек в день. По три доллара на брата – восемьдесят один миллион в день! Так что если родительская компания «Слэмми»…
– «Дегеш Норт Америка Холдингс»[138]138
Компания – производитель отравляющего газа «Циклон-Б». – Прим. ред.
[Закрыть].
– Правда? Вау. Не ожидал. Ладно. Если «Дегеш» даст мне один процент, то для меня это восемьсот десять тысяч долларов в день, двести девяносто пять миллионов долларов в год, из которых тебе я передам двадцать процентов, или почти пятнадцать миллионов долларов. В год.
– Я вообще-то…
– Скажем, я ошибаюсь на порядок – что невозможно, потому что моей второй специальностью в Гарварде была стратегизация бизнеса, – это все равно полтора миллиона долларов. Для тебя. В год.
– Частные туалеты для путешественников?
– Да. «Свой Туалет», я бы назвал это так.
– Хм.
– В честь Вулф, – добавляю я.
– Ага.
– Вирджинии Вулф[139]139
Отсылка к эссе «Своя комната» (A Room of One›s Own, 1929) – одному из первых феминистических высказываний о женщинах в литературе.
[Закрыть].
– Ясно.
Голый человек, уже без эрекции, встает и идет в туалет.
– Чтобы добавить элегантности. И я ссылаюсь не на тот нелепый фильм Мелвина Франка с тем нелепым Джорджем Сигалом (не путать со скульптором, он-то выдающийся!), который, к сожалению, надо признать, был прекрасен в роли Хани с банджо в «Кто боится Вирджинии Вулф» Майкла Николса, на чем мы завершаем полный круг.
– О’кей.
– О’кей?
– О’кей.
– Отлично!
– Я позвоню начальнику и узнаю, можно ли что-нибудь устроить.
– Отлично!
Я остаюсь стоять. Она тоже остается стоять, ее взгляд перебегает с меня на окно и обратно.
– Когда ты уйдешь.
– Ладно.
Я ухожу.
– Только слишком много им не рассказывай! – кричу я в уже закрытое окно. – Я сам!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































