Текст книги "Муравечество"
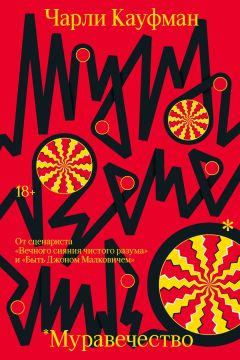
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 16
Пассажиров было в два раза больше, чем мест в автобусе. Компания «Грейхаунд» предлагает скидку в четыре доллара на все билеты для тех, кто согласится поехать следующим рейсом, назначенным на 17:30 в следующий четверг или пятницу; но это неточно. Желающих нет, поэтому они запускают экстренный план «Места на коленях». Всех пассажиров взвесили и каждому назначили «коленного приятеля». Поскольку в больнице я сбросил 21 килограмм и в промокшем состоянии весил 42 килограмма (они не объясняли, зачем нужно было окатывать нас водой из шланга), меня поставили в пару к парню в спортивном костюме по имени Леви, который весил 152 килограмма. Он жмет мне руку и просит называть его Хваткий, потому что все его так называют.
– Откуда взялось это прозвище? – спрашиваю я с деланым равнодушием.
Он медлит, потом говорит, что, когда был маленький, любил таскать печенье из банки. Я ему не верю, но у меня нет желания торчать на вокзале до следующего четверга или пятницы.
По правде сказать, все не так плохо. У Леви мягкие, теплые, комфортные колени, и руки он в основном держит при себе. Пытаясь найти общий язык, мы заводим краткую, неловкую беседу.
– Любишь спорт? – спрашивает он.
– Нет. Любишь книги?
– Нет. Любишь машины?
– Не очень. Любишь кино?
– Только «Ди-Си», не «Марвел». «Марвел» говно.
– Как насчет путешествий?
– Брэнсон. А охоту любишь?
– Охоту на древности!
– То есть типа охотишься на старых животных, так, что ли?
После идеально выдержанной паузы я отвечаю:
– Да, именно это я и имею в виду.
После этой реплики каждый из нас уединяется в своем мире: Леви, обхватив меня руками, играет в видеоигру на девайсе, который он называет Sega Pocket Gear, глядя на маленький цветной экран мне через плечо, пока я пытаюсь читать «Моллоя». «Моллой» идет медленно. В наши дни сконцентрироваться сложно даже в идеальных условиях. Кажется, у Леви эрекция. Я читаю предложение «Не знаю, как я здесь оказался» снова и снова. И не могу понять его смысл. На первый взгляд вроде простейшее предложение, но что оно значит? Подозреваю, что у меня пробелы в восприятии. Они всегда там были? Не помню. В этом главная проблема пробелов. Если это ненормально, то смогу ли я когда-нибудь вернуться к норме? Врачи не могли (или не хотели) ответить. Это ужасно – терять вещи. А я потерял время. Я потерял большую часть воспоминаний о фильме Инго.
– Черт, я проиграл, – говорит Леви.
Делает паузу, ровно три секунды созерцает пейзаж за окном и начинает новую игру.
Нужно уметь отпускать, склеивать по кусочкам, начинать сначала. Мой коленный приятель преподает важный жизненный урок. В моей жизни будут и другие Инго. Впереди меня ждет еще куча невиданных ранее шедевров, возможно, тысячи. Надо только держать ухо востро. И я буду держать!
Я ненадолго засыпаю.
Слушайте, если у меня потеря памяти или какая-то травма мозга, то я постараюсь максимально развить то, что осталось. Как великий спортсмен, потерявший ноги, – благодаря твердому характеру, решительности и еще этой, как ее… смекалке? – может вновь стать великим спортсменом, с помощью таких прыгучих штук для ног, так и я могу вернуться в строй, найти увлечение, как Шейла… Ее ведь звали Шейла?
– Не помните, как там было, «Увлечение Шейлы»? – спрашиваю я у Леви.
– «Увлечение Стеллы», – отвечает он, не отрывая глаз от игры.
– А.
– Неплохой фильм, – говорит он.
– Я спрашивал про книгу, – говорю я. – Я не смотрю такие фильмы.
– Не знаю, как называлась книга.
– Кажется, она называлась «Увлечение Шейлы», – говорю я. – В кино частенько все меняют.
– А, – говорит он.
– «Три дня Кондора» изначально назывались «Шесть дней Кондора», – напоминаю я. – Так что…
– Угу, – говорит Леви.
Мы возвращаемся в наши отдельные миры: он помогает маленькому зеленому марсианину (?) преодолеть серию пересекающихся марсианских каналов (?), а я смотрю на проплывающий мимо смурной пейзаж за окном. Вдоль шоссе Северной Каролины стоят хибары, похожие на кучи мусора. Босоногие дети, разинув рты, провожают взглядом наш автобус. Они что, никогда не видели автобус? Очевидно же, тут проходит маршрут. Или рты у них все время открыты от недоедания? Как мы, наша страна, могли так подвести этих херувимов с открытыми ртами? Я чувствую острое желание сжать их всех в объятиях. Может быть, теперь, когда фильм Инго, который мог стать смыслом моей жизни, уничтожен, я посвящу свою жизнь им. Возможно, перееду сюда и стану учителем. Какой бы серьезной ни была травма мозга, я все еще могу приносить пользу в богом забытых местах вроде этого. Велика ли беда, что помнишь только половину «Илиады», если учишь детей, которые даже рты закрыть не могут? Я представляю себя учителем в школе, где всего один класс: как проверяю посещаемость, бинтую болячки и сражаюсь со школьным советом, пытаясь вместо Дня Колумба праздновать День коренных народов. Проще говоря, делаю мир лучше. Возможно, все случившееся в моей жизни вело меня именно сюда. Полагаю, придется получить лицензию учителя. Но что тут сложного? Думаю, в таких местах это проще простого – как отнять конфету у ребенка. Я смеюсь над невольным колумбуром. Колумбур или каламбур? Неважно. Решаю, что колумбур.
– Вы, значить, читать умеете, мистер Розенберг?
– Да.
– Складывать да вычитать там?
– Конечно.
– Ну дык поздравляю, вот вам учительская лицензия! А до кучи и разрешение на рыбалку! Йии-ха!
– Спасибо вам, добрый человек.
Леви начинает дремать, а я остаток долгого пути провожу, воображая новую, простую жизнь. Даже представляю будущий байопик о себе. У меня ощущение, что я наконец нашел свое место в жизни.
Когда мы подъезжаем к Нью-Йорку, я уже передумал. Очень тщательно все взвесил и решил, что не могу позволить сволочам победить. Не могу забиться в угол и сдохнуть. Не могу предать свои мечты. Я найду еще один неизвестный шедевр (их должны быть миллионы!) и в этот раз буду хранить его правильно. Тут же оцифрую. Сделаю копии. Оплачу депозитную ячейку (или депозитный сейф?). Найму юриста и пошлю ему (ей, тону) копию. Я извлек важный урок.
В Порт-Ауторити я пробиваю себе путь сквозь толпу проституток, наркоманов и унылых пассажиров. Кому-нибудь надо снять фильм о Нью-Йорке. В смысле настоящее кино. Пока никто даже и близко не стоял. Я знаю, как снять, и легко снял бы. Я знаю этот город. Знаю его ужасную боль и мелкие победы. Мог бы снять. Должен снять. Сниму. Несмотря на то что мою первую попытку на поприще кино встретили с жестоким равнодушием, которое, сказать по правде, напоминало заговор с целью заставить меня замолчать. Но я чувствую, что снова готов взять на себя ответственность. Все раны успешно зализаны, и не только Хватким Леви. Я достаточно долго скрывал свои чувства от интеллигенции. Я пробился через критику, полную олимпийского безразличия. Я вижу большое полотно, охватывающее весь Манхэттен, от Марбл-хилла до Бэттери-парка, и все поколения, от ранних голландских поселенцев до китайских и саудовских миллиардеров современности и будущих чешских властителей умов. И все они живут вместе, сотни лет поколений, утрамбованные в двадцать три мили. Или вот, новая мысль: в фильме будут коренные ленапе, которые тоже здесь проживали. Мы все здесь упакованы так плотно, что не можем сдвинуться. И в той искаженной реальности мы будем наблюдать за историей любви. Между двумя женщинами, упакованными, по счастливому стечению обстоятельств, рядом. Так что в каком-то смысле это фильм о судьбе, но еще и о плавильном котле, хотя если точнее, то о салатнице, потому что одна из женщин будет афроамериканкой из 1920-х, а другая – палестиноамериканкой из нашего времени. Вот таким будет мой фильм. И тут есть способы сократить расходы. В основном это будут крупные планы на двух героинях, и обе – низкого роста (необязательно карлики, но возможно: это придаст всему проекту дополнительное измерение заботы и разнообразия), чтобы камера на уровне их глаз не видела огромные толпы у них за спиной. Чтобы показать множество людей, первую и последнюю сцены можно сделать с помощью CGI, что означает компьютерно-генерированное-что-то-там. Афроамериканку сыграет моя девушка. Она не низкая, но, опять же, мы прекрасно уменьшим ее с помощью компьютеров и всякого такого.
Я иду по 10-й улице, а думаю об уничтоженном фильме Инго. Думаю о том, что его больше нет. Больше нет труда всей моей жизни. Моих мыслей. Моих трех месяцев. Жизни Инго. Можно ли все это восстановить? Нет. Все это уже прах. В голове звучит притча о Шалтай-Болтае, которая всегда казалась мне не более чем детским стишком про яйцо. Меня охватывает паника. Ничто. Моя жизнь сгорела дотла. Мне было дано ненадолго почувствовать себя значимым, и именно поэтому теперь особенно больно. Я снова пробую вспомнить фильм Инго. Насколько внимательным я был зрителем? Выходит, совсем не внимательным. Не бдительным. Я отвлекался? Замечтался о славе, которую принесет мое открытие? Да. Считать ли эти мысли частью замысла Инго? Боюсь, что нет. Это мой собственный жалкий «фильм». Мой собственный никчемный вклад в бесполезный гомон триллионов эго, мечтающих урвать себе объедки со стола бессмертия. Теперь я понимаю. Я – неидеальный зритель. Я не отдавался просмотру целиком.
О, Инго. Мертвый, сгинувший. Стертый. Я втерся тебе в доверие. Я был твоим единственным зрителем, а это огромная ответственность перед тобой, перед твоим трудом. Я не могу вернуть тебя. Я не могу вернуть труд всей твоей жизни. И все же не смогу жить, если не верну. Я пытаюсь вспомнить. От усилия болит голова. Мысленно возвращаюсь в первый день: стул со спинкой, первый кадр, первое движение, царапины на пленке, пятна, передержка, недодержка, верная выдержка. Подобные случайные артефакты важны для фильма не меньше, чем сознательные решения художника. Через пленку говорит целый мир. Миру нельзя помешать.
И, возможно, размышляю я, мир сказал свое слово. Фильм уничтожен, стерт, как священные мандалы буддистских монахов на песке. Он вернулся к своей разрозненной форме – к праху. Прах к праху. В этом есть утешение, поскольку я давно считал буддизм наиболее близкой моему сердцу философской системой. Создание фильма всегда сопряжено с человеческим отчаянием, с человеческой потребностью контролировать, побеждать, бороться с иллюзорностью мира. Даже в терминах фотографии скрыта потребность человечества в контроле, в приручении. Говорят, что фотограф «ловит» момент. Поймать момент возможно не больше, чем остановить ход времени. Мир так не работает, и все же с помощью новейших технологий мы убеждаем себя, что работает. Но в конце всегда приходит смерть. Мы можем оставить после себя памятник в виде произведения искусства или могильной плиты, но они не отменят самого факта смерти. Мы находимся в вечном состоянии подстройки. Мы подстраиваемся. Подстраиваемся. Случилось вот это, что теперь? Это главный вопрос человечества, и он вечен. С этим бальзамом на моей психической травме я продолжаю путь. Я вспомню. И мои воспоминания будут сотрудничеством с Инго. Сотрудничеством между афроамериканцем, который жил на протяжении всего двадцатого века, и белым интеллектуалом, чья жизнь началась в середине двадцатого и, возможно, закончится когда-нибудь в середине двадцать второго. Конечно же, будут недовольные. Культурная апроприация, скажут они. Опять белый человек наживается на достижениях черного. Мне есть что им ответить: 1) а разве фильм Инго – не апроприация? Разве он не пользуется технологиями, изобретенными белыми? И из того, что я помню о фильме Инго, действие там происходит в мире белых людей, конкретно – в мире белой кинокомедии. Принадлежат ли белым «шутки», которые применил в работе Инго? Возможно. Но я не ставлю это ему в вину. Я польщен тем, что он использует наше творчество. И 2) в мире нет больше никого, кто годится для этой работы. Я, к добру или к худу, его единственный душеприказчик. Я понимаю, что это слово опасно похоже на «душегуб». Но это причуда языка, с ней ничего не поделать. 3) Возможно, Инго был белым шведом.
Задача ясна, я нахожу скамейку в Порт-Ауторити (почему я сюда вернулся?), сажусь и достаю блокнот – я пишу только от руки. В линованных блокнотах. Можете звать меня динозавром, но я не верю в текстовые процессоры. Мне надо чувствовать слова нутром. На бумаге должны быть кляксы. Должны быть зачеркнутые предложения; яростные зачеркивания напоминают мне о том, с какой страстью я предаюсь самобичеванию. Усталым я это писал или грустным? Наклон почерка расскажет. По почерку о человеке можно сказать абсолютно все. Я начинаю.
Мужчина на роликовых коньках. Нет, мужчина идет против штормового ветра. Он идет по экрану слева направо. Мимо пролетают какие-то вещи. С него сдувает шляпу. Возможно, там был ребенок. Возможно, с неба упал какой-то ком…
Не получается. Четыре часа труда – и это все. Я не могу вспомнить. Моя ограниченная человеческая прошивка, созданная в основном чтобы действовать по принципу «бей – беги», запоминать, какие ягоды съедобны, уничтожать врагов, не позволяет вспомнить.
Погодите. Я вдруг вспоминаю, что фильм погиб в цунами. Я прыгнул следом, хотя и не люблю плавать, и меня мотало туда-сюда, как актист_ку Наоми Уоттс, пока меня не выловила береговая охрана и не отвезла в больницу для утопленников имени Мортона Дауни в городе Доктор-Филипс, Флорида, где доктор Флип Фиппс ввел меня в медикаментозную кому и провел операцию по восстановлению носа, хотя зачем – непонятно. Что насчет огня? Разве это был не пожар? Да, пожар. Как могут быть правдой обе версии гибели фильма? Не знаю, но тем не менее вот он я, еду из Доктор-Филипса по пустым дорогам. Эвакуировали целые города, потому что скоро на побережье обрушится ураган «Батон» (названный в честь одного из подписантов Декларации независимости Баттона Гвиннетта?). Поэтому я жму на газ, пытаясь его обогнать. По шкале Саффира – Симпсона Баттон – тропический шторм, а это означает, что его максимальная скорость – сто семнадцать километров в час. Я жму сто восемнадцать, чтобы его обогнать. По радио – прогноз погоды. Если ускорится шторм, я тоже ускорюсь. Надо было уехать еще вчера, но я был не в себе и не мог покинуть больницу.
Сегодня всё иначе. Теперь во мне горит огонь. Мне нужно вернуться в Нью-Йорк. Все надежды на мой проект «Инго» рухнули, и теперь нужно вновь влиться в жизнь города. Смотреть фильмы, посещать выставки, открывать для себя недорогие этнические рестораны. Но самое важное – вернулась моя афроамериканская девушка. В последние месяцы мы мало общались, оба с головой ушли в работу. Главная опасность отношений на расстоянии! Но, если я проскочу шторм, буду дома к десяти. Мысль о ее теплых руках и, осмелюсь сказать, влагалище держит меня в тонусе. Эта мысль – и «Батон», который, сообщает мне радио, должен обрушиться на побережье к югу от Мертл-Бич. Меня раз за разом замедляет оплата дороги. Небо в зеркале заднего вида выглядит скверно. Чтобы скоротать время, пытаюсь по порядку назвать штаты между Флоридой и Нью-Йорком. Дальше идет Джорджия, затем Южная Каролина, Северная Каролина, затем Южная Виргиния, Западная Виргиния, Северная Виргиния… Напьервилл. Делавер. Вагина. Мэри. Карандаш. Нью-Джерси. Нью-Йорк. Справился довольно быстро. Я все еще во Флориде. Развлекаю себя, воображая воссоединение с девушкой, сплетенье наших тел, ее роскошную коричневую кожу, почти шоколадную на фоне моего розовато-белого оттенка – почти цвета рахат-лукума, – мы оба блестим от пота. Я от природы весьма сладострастен, что не вступает в конфликт с моими интеллектуальными наклонностями. Популярная культура внушает вам, что когда речь идет о делах сердечных и телесных, то «нерды», «гики», «задроты», «очкарики» и «ботаны» безнадежны, но на самом деле, подобно тому как разработанные рецепторы на языке способны лучше оценить тонкие оттенки различных сортов вина, так и человек с образованием в искусстве обольщения и секса может – и будет – превосходным любовником. Например, поскольку я могу обучить свою девушку искусству помпур и кабазза, у меня больше шансов довести нас обоих до взаимно приятного и зачастую взрывного полового контакта, чем у какого-нибудь типичного дешевого повесы. Для женщины у этих техник есть еще одно достоинство, потому что мужчина оказывается в пассивной позиции, тем самым передавая всю власть ей. Передача власти женщинам, конечно же, очень часто их сексуально раскрепощает, но еще я люблю, когда меня контролируют сильные женщины. А если эта сильная женщина еще и афроамериканка – что ж, я в раю.
Итак, я представляю, как девушка садится на меня верхом, моя йони – в смысле мой лингам – в ее руках – метафорически, потому что во время кабаззы лингам целиком находится в ее йони, – и она сокращает стенки влагалища и совершает медленные, но мощные волнообразные движения мышцами живота. Исполняет танец живота верхом на моем члене. Одной мысли об этом достаточно, чтобы у меня встал, поэтому я пытаюсь подумать о чем-то другом, иначе могу случайно эякулировать прямо во время урагана, а Национальная метеорологическая служба убедительно рекомендует этого не делать.
Наконец я в безопасности в Нью-Джерси, паркую машину на стоянке у станции «Харрисон», отправляю ее домой по железной дороге PATH. Нью-Йорк пахнет так же, как и всегда, и особенно сильно – в Порт-Ауторити. Я пробиваю себе путь сквозь толпу проституток, наркоманов и унылых пассажиров. Кому-нибудь надо снять фильм о Нью-Йорке. В смысле настоящее кино. Пока никто даже и близко не стоял. Я сажусь с блокнотом и пытаюсь написать сценарий здесь и сейчас. Но не могу.
Глава 17
Я подхожу к своему дому, а моя афроамериканская девушка уже ждет меня на пороге.
Как она узнала?
Этот ее взгляд. Каким-то образом я понимаю, что все кончено.
– Надо поговорить.
– Что?
– Мне жаль, Б.
– Что?
Она обнимает меня. Я ее отстраняю.
– Ты не можешь меня обнимать, когда у тебя такой взгляд! – кричу я.
Она просто молча смотрит, как кошка – как кошка, которая собирается порвать с мужчиной.
– Почему? – требую я ответа.
– Да просто… мне кажется, пока мы были далеко друг от друга, мы отдалились, и я не знаю, как все вернуть.
– Я был в медикаментозной коме! Из-за… чего-то! – внезапно я сам не уверен. – Разве нет? – ною я. – Разве не так?
– Так. Но это ничего не меняет.
– Мы можем попытаться. Мы обязаны попытаться. У меня есть для тебя роль в моем будущем фильме.
– Не получится.
– Почему? Потому что мне сбрили бороду, чтобы ввести в кому? Я отращу обратно!
– Я встречаюсь с другим.
Мое сердце разбито. Это клише, но я это чувствую. Чувствую, как разбивается сердце. Оно даже трещит.
– Актер?
– Режиссер.
– Он?
– Да. Мне жаль.
– Но…
– Я должна быть с кем-то черным, Б. Может быть, это недобросовестно с моей стороны, но…
– С кем угодно, лишь бы афроамериканец?
– Конечно, нет. Не будь жестоким. – Она замолкает, затем: – Мы с ним находим общий язык. С тобой – нет. Да, я понимаю, евреи тоже страдали, но…
– Я не еврей.
– Хорошо, Б. Мне жаль. Правда жаль.
– Не понимаю, почему ты все время настаиваешь на том, что я еврей.
– Не знаю. Ты просто… выглядишь как еврей. Сложно все время помнить, что это не так. А теперь еще сложнее. Не могу точно сказать почему.
– Вы с ним смеялись над тем, что я выгляжу как еврей?
– Нет!
– Подозреваю, что да.
– Мы не смеемся над тобой! Мы о тебе вообще не говорим!
– Вау. Хорошо. Что ж, ты выразилась предельно точно.
– Я не это имела в виду.
– Хорошо. Что ж, я привез тебе подарок, хочешь посмотреть?
– Не знаю, Б. Это очень мило. Но я не думаю, что стоит.
– А. Хорошо.
Я достаю из сумки завернутую в подарочную бумагу коробку и бросаю в общественную мусорную урну. И сразу чувствую, как убого и театрально выгляжу, будто обиженный ребенок. Но, если честно, женские туфли из больничной сувенирной лавки мне теперь все равно без особой надобности. Не совсем без надобности, но без особой.
Я блуждаю по улицам, сжимая в руках небольшую больничную сумку. Пока что не могу заставить себя войти в квартиру. Все пропало. Инго больше нет. Моей афроамериканской девушки, Келлиты Смит из «Шоу Берни Мака», больше нет. Без Келлиты вероятность найти финансирование для фильма про Нью-Йорк равна нулю. Свою монографию о флоридском фильме про трансгендеров я отдал карьеристу с двумя гендерами и в два раза моложе меня. Это я открыл «Очарование»; оно мое по праву. Ничего не осталось. Нью-Йорк превратился в дорогостоящую выгребную яму. Он мне совершенно неинтересен – да и какая разница, раз меня выкинут на улицу из квартиры, если я не найду работу. Озираюсь в попытках впитать магию Нью-Йорка, в попытках позволить городу залечить мои раны.
Шагая в сторону Таймс-сквер, пытаюсь вспомнить фильм Инго. Уверен, в фильме есть эта улица, может быть, даже эти самые люди. Может быть, даже я. Хотя помню я очень мало, фильм все же оставил в мозгу довольно сильный эмоциональный отпечаток. Подозреваю, после просмотра мой взгляд на мир изменился навсегда. Это хорошо? Сомневаюсь. Но ничего не поделаешь. Подозреваю, при всей своей увлеченности движением, комедией и человеческой психологией в глубине души Инго был нигилистом. До просмотра я мог бы охарактеризовать себя как телеологического оптимиста. Из всех книг в моей детской библиотеке самой зачитанной была «Теодицея» Лейбница. Бог – ведь он/она/тон же Бог – должен был по определению создать лучший из миров. Но Инго перетянул меня на «темную» сторону бессмысленности. Я опустошен. Но без утешения в виде понимания почему.
И вдруг – ура! Проблеск воспоминания, начало фильма Инго.
На меня смотрит грубо сделанная деревянная кукла, ее суставы и челюсть – на шарнирах. Кругом тишина. Выдержка нестабильная, изображение – черно-белое. Кукла шевелит руками и ногами, словно в первый раз. Ее глаза неподвижны, открыты и слепы. Она поднимает левую руку и машет мне. Шарнирная челюсть дважды хлопает, затем на экране появляется написанный от руки титр: «Привет, мистер!» Титр длится слишком долго, я успеваю прочесть его сотню раз. Обратно к кукле. Она стоит неподвижно, глядит в камеру – пристально и в то же время слепо. Наконец кивает, и челюсть опускается и поднимается восемь раз – выглядит это жутко, нечеловечески. «Что ж, если ты настаиваешь, привет, Б.». Этот титр длится еще дольше. Неужели она отвечает на то, что я, по идее, должен был сказать в ответ на приветствие? Это что – минусовка фильма? Я что, должен был сказать: «Называй меня Б.»? Обратно к кукле, она вновь шевелит челюстью, и возникает титр: «Рад познакомиться, Б.». Обратно к кукле. Долгая пауза, затем – кивок и движение челюсти. Титр: «Спасибо. Мне нравится имя Уильям». Я дал ему имя? Обратно к кукле. Уильям машет. Фильм уходит в затемнение, оставляя круг посередине, затем возвращается. Над куклой поработали. Теперь очевидно, что это мужчина, есть даже пенис на шарнире, который поднимается и опускается, пока Уильям смотрит прямо в камеру. Челюсть двигается, и далее титр: «Мне стыдно».
Все это я помню довольно ясно, и в то же время кажется, что все было совсем не так…
Я возвращаюсь, наконец, в квартиру, и пахнет здесь омерзительно. Боже мой, я забыл попросить кого-нибудь присмотреть за моим псом О Азаром Бальтазаром[39]39
Отсылка к французскому фильму 1966 года «Наудачу, Бальтазар».
[Закрыть]! Пол покрыт фекалиями, ковры потемнели от мочи. Я нахожу его истощенным, но чудесным образом живым, он дрожит в ванной. Слабо машет хвостом. Вот как выглядит приветствие без скрытой угрозы. Никакого мертвого взгляда. Это любовь. Он не винит меня в своих невзгодах, хотя, сказать по правде, должен бы. Человеческому роду следовало бы поучиться у О Азара Бальтазара. Я нежно глажу его, успокаивающе шепчу, хвалю его за стойкость. Кажется, он благодарен за внимание, но при этом не сводит глаз с погрызенных запечатанных консервных банок с собачьим кормом, разбросанных по комнате.
– Хорошо, дружок, – говорю я. – Давай-ка мы тебя покормим.
Мне правда очень жаль, что я совершенно о нем забыл. Слава богу, он выжил. В это трудно поверить. Полагаю, без еды можно протянуть долго. Ученые утверждают, что главная проблема – вода. Думаю, он пил из унитаза. Другого объяснения нет. Если бы у меня были лапы и я не понимал устройства крана, поступил бы точно так же. Ставлю на пол миску с кормом. Он пытается его проглотить, но не может.
– Помедленнее, дружище, – советую я.
Он смотрит на меня и как будто улыбается. Зубы пропали. Может, сделать пюре? Корм и так мягкий, но, возможно, из-за общей слабости и беззубости ему нужна дополнительная помощь. Я тянусь к миске, и он рычит. Странно. Непохоже на него. Он всегда был таким приветливым малым. Не уверен, что делать дальше. Говорят, хозяину нельзя позволять псу проявлять агрессию. Пес должен уважать альфу, то есть хозяина, то есть меня. И все же хозяину не хочется быть покусанным. Но, полагаю, учитывая нынешнюю беззубость, он вряд ли представляет большую опасность. Я поднимаю миску. Он вцепляется в руку, пытается удержать, но та выскальзывает из беззубой пасти. Он валится набок, демонстрируя некое подобие припадка. Зрелище достойно жалости. Я глажу его по голове и говорю: «Ш-ш-ш. Ш-ш-ш». Он замирает, и вот он уже мертв. Мир жесток. Я оплакиваю лучшего друга, ибо кто он мне, как не лучший друг? Всегда ждал меня, всегда был рад видеть. Ему было наплевать, успешен я или нет, гений или нет, афроамериканец или нет. Мне кажется, я его подвел. Во многих отношениях он был лучше меня, и я надеюсь когда-нибудь научиться на его примере. Кроме случая, когда он на меня рявкнул – это, честно говоря, обидно, хоть я и понимаю, что наверняка имелись смягчающие обстоятельства, и, в конце концов, дело не во мне. Голод не тетка. Какое-то время я размышляю о его будущей погребальной урне. В моем книжном шкафу – целая коллекция урн (с прахом членов моей семьи, домашних животных и трех безродных трупов из городского морга). В моей семье кремацию предпочитают похоронам в земле, в море или запуску тела в космос. В нашем клане у меня лучший художественный вкус, поэтому выбор урны всегда доверяют мне, на чем я и сам настаиваю.
Я приглашаю на консультацию своего личного скульптора урн Оливье.
– Расскажи мне о своем ослике.
– Это собака.
– В каком смысле? – спрашивает он, делая заметки.
– В собачьем. В том смысле, что он был собакой.
– И тем не менее ты назвал его в честь самого известного ослика во всей Франции? Pourquoi?
– Потому что это третий фильм в списке лучших фильмов всех времен, лучший французский фильм всех времен, лучший фильм про животных всех времен, шестой в списке лучших фильмов всех времен о Семи Смертных Грехах, четвертый – в списке лучших фильмов шестидесятых…
– Как он может быть одновременно третьим лучшим в истории и четвертым лучшим в шестидесятых?
– Я не помню, чтобы учил тебя делать погребальные урны, Оливье.
– Ну, мне фильм показался très fastidieux[40]40
Очень утомительным.
[Закрыть].
– Твои рейтинги фильмов меня не интересуют. Я предпочел бы обсудить погребальную урну для моего пса.
– Посмотрим… как лучше отдать дань ослику, который пес?
Я понимаю, что Оливье меня подкалывает, но смотрю на урны в шкафу у него за спиной – и они восхитительны: оловянный колодец желаний, бронзовый Адонис, кафельный мужской туалет с писсуарами, урна в виде банки для печенья, великолепная хрустальная метель, где покоится мой дядя-метеоролог, окаменелый птеродактиль, который в то же время действующий фонтан, – каждая урна с точностью и изяществом отражает личность ее обитателя. Взгляд останавливается на опаленном кукольном ослике из фильма Инго, и меня озаряет. Почему бы не воздать должное праху и Бальтазара, и фильма Инго, их схожему неукротимому духу, ведь оба погибли (может сказать кто-то) по моей вине. Ежедневное напоминание об этом будет моей епитимьей. Я предлагаю Оливье вмонтировать в урну кукольного ослика. Он осматривает его, играется с ним, шевелит подвижными конечностями.
– Я думал, ты не учишь меня делать погребальные урны, – наконец говорит он.
– Прошу, Оливье, не усложняй. У меня горе. Разве не видишь?
Долгое молчание, затем:
– Если вмонтировать в основание урны маленький моторчик, можно сделать так, что ослик будет шевелиться.
– Что он сможет делать? – спрашиваю я.
– Возможно, танцевать. Шагать. Склонять голову в трауре. Умолять.
– А всё сразу не сможет?
– Это будет недешево.
– Деньги – не вопрос, – говорю я и звоню сестре.
Я встречаюсь с редактором Арвидом в его кабинете.
– Думаю, я все еще смогу написать текст, – говорю я.
– О фильме, который никто никогда не видел, – говорит он.
– Да. Но я смогу воссоздать его.
– Новеллизация?
– Ну нет. Это как-то оскорбительно. Я бы не стал это так называть.
– А я бы стал.
– Хорошо. Уверен, я мог бы написать новеллизацию, Арвид, настолько неизгладимым был фильм. Если вспомню.
– Буду с тобой откровенен, Б…
– Не надо.
– Я не верю, что этот фильм вообще существовал.
– Но он существовал. И это был самый важный фильм в истории кинематографа.
– Видишь, вот тут я и начинаю сомневаться в достоверности…
– Смотри. – Я достаю сохранившийся кадр.
– Это что?
– Единственный сохранившийся кадр.
Арвид берет его.
– Осторожно, – говорю я.
Он очень долго его изучает, затем:
– Я не понимаю, на что смотрю.
– На поворотный момент в фильме. Полагаю, это эпизод, когда осветительная решетка падает на Моллоя, проламывает ему череп, и он впадает в кому, которая меняет всю его жизнь. До сих пор не помню этот эпизод.
– Бессмыслица какая-то. И потом, в кадре нет ничего из того, что ты наговорил.
– Ну, кадр задымлен из-за сигареты подручного на осветительных лесах, чьими глазами (субъективной камерой) мы все и видим.
– Значит, я смотрю на сигаретный дым.
– Нет! В этом-то и смысл! Поразительно, но это вата. Эффект создан с помощью обыкновенной ваты. Той самой, которую можно купить в аптеке или в ватном магазине вниз по улице.
– Я к тому, что тут плохо видно.
– Так это же специально. То, чего ты не видишь, в кино так же важно, как и то, что ты видишь. Спроси любого.
– Не надо меня учить. Только хуже делаешь.
– Посмотри. – Я достаю из сумки урну с осликом.
– Игрушечная лошадка, прикрепленная к коробочке, – говорит он.
– Это кукольный осел. Из фильма. По-моему, он жил в доме великана, вместе с великаном. Кажется, там был великан. Возможно, я путаю его со «Шреком». В «Шреке» был великан?
– Где его хвост?
– Что? Это вообще тут при чем? Ты посмотри, какая мастерская работа. Сгорел хвост, ясно тебе?
– Милая кукла, но она не поможет получить то, о чем ты просишь.
– Тогда дай написать об «Очаровании».
– Это нечестно по отношению к Динсмору.
– Он пользуется моими наработками.
– Ты их сам им предложил.
– Тону.
– В любом случае…
– Если не могу получить обратно «Очарование», хотя я имею на это полное право, тогда дай написать текст об Инго. Новеллизацию, как ты сам говоришь! Фильм у меня в голове. – Я стучу по ней пальцем. – Значит, будет новеллизация!









































