Текст книги "Муравечество"
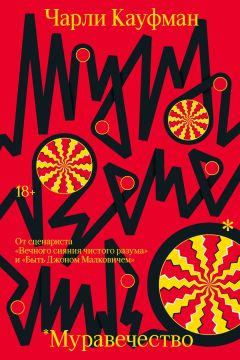
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 45 страниц)
Глава 42
Я приезжаю на улицу, где живет Клоунесса Лори, и обнаруживаю, что ее дом сгорел дотла. Ничего не осталось, только куча тлеющих обломков. Это я его поджег? Не помню за собой такого. Нет, конечно, не я. Тогда почему у меня руки покрылись утиной – или гусиной – кожей? Я этого не делал. С чего бы? Я точно не делал этого специально, но что, если, убегая из квартиры, я случайно опрокинул одну или пару из множества свечей? Абсолютно уверен, что не опрокидывал свечи – ни одну, ни пару. Но что, если все же опрокинул и не заметил? Но я не опрокидывал. Но вдруг? Что, если я сходил в туалет и после зажег там спичку? Но нет же. Или да? А погибшие есть? С телефона я гуглю новости о пожаре. Полиция подозревает, что это поджог, говорится в статье из газеты «Вестник Западной 50-й». Никто не пострадал, но по программе защиты свидетелей все жильцы получили новые удостоверения личности – чтобы защитить их от возможного покушения неизвестного поджигателя, или жгуна, как говорит молодежь. И как мне теперь ее найти? Клоунессой Лори может оказаться буквально любая женщина похожего возраста, роста и веса. Думаю, она белая, но даже в этом не уверен; на руках у нее были белые четырехпальцевые клоунские рукавицы. Да ладно. Если она не понимала, что я за тип и чего хочу, то почему их не сняла?
Прогулки по улицам превратились в кошмар. Клоунесса Лори может быть где угодно… повсюду. Я звоню ее работодателям, в фирму «Клоун-дайк», и прошу к телефону Лори или бывшую Лори.
– У нас нет и не было сотрудниц с таким именем, – говорят мне.
– Вы специально так говорите. Из-за программы по защите свидетелей и всего такого.
– Оставьте свои имя и номер, и мы вам перезвоним.
Я чувствую, что это ловушка, и кладу трубку. На меня это убийство не повесят. В смысле поджог. В смысле возможный поджог. Иногда мне кажется, что мои мысли – не мои, что я думаю о чем-то очень неправильном, дурацком, нелепом, на потеху незримой публике.
Слово «незримые» зависает в мозгу, как дым.
Я страдаю от того, что Юм называл болезнью ученых. Проще говоря, я слишком много знаю. И в этом смысле мало отличаюсь от человека-слона Дэвида Меррика из пьесы Бернарда Померанса «Человек-слон»: «Иногда мне кажется, что у меня такая большая голова, потому что я много мечтаю». Разве что в моем случае голова такая большая, потому что я много знаю, не говоря уже о том, как много мечтаю. Конечно, моя голова не такая неестественно большая и уродливая, как у Меррика, но шестьдесят два сантиметра – это больше среднего. Иногда я в шутку называю себя «человек раз-Юмный».
– Рассказывай, – говорит неприятно загоревший и отдохнувший Барассини.
Метеоролог, сопровождаемый своим почти вездесущим закадровым голосом, записывает в блокнот: «Чем больше я копаюсь в вычислениях, тем больше данных нахожу. Теперь я могу не просто просчитать и предсказать движение воздуха и растения в аэродинамической трубе, но и просчитать с любого ракурса, даже в клетках растения. Моя анимация первых воссозданных пятнадцати секунд теперь включает в себя все. Предположительно она могла бы также включать в себя запах, осязание и вкус, если бы только существовала возможность передать их с экрана. Самой серьезной преградой, разумеется, по-прежнему остается ограничение человеческого мозга. Если бы я мог сконструировать достаточно изощренную электронно-вычислительную машину, я бы рассчитывал результаты практически в реальном времени, а впоследствии и быстрее. Только тогда я получу полноценную машину предсказаний».
За ужином Цай рассказывает историю:
– Я возвращалась с занятий барре[100]100
Сочетание балета и фитнеса. – Прим. ред.
[Закрыть], переходила Западную 55-ю и увидела пожар. Там живут мои друзья, поэтому я, конечно же, забеспокоилась и остановилась. Улицу усеивали мертвые, обожженные, изуродованные тела людей, выбросившихся из окон. Затем в окне я увидела ее. Клоунессу Лори. Грим размазан по лицу, она прыгает, приземляется на пожарный батут, и ее подбрасывает обратно в окно ее же квартиры. Пожарные кричат, просят прыгнуть еще раз. Она прыгает опять, и ее опять подбрасывает обратно в окно пятого этажа. Ей кричат: «Еще раз!» И в этот раз, когда она касается батута, пожарный набрасывает ей на шею петлю с мешком песка на конце. В этот раз ее подбрасывает до окна третьего этажа. «Еще песка!» – орет пожарный приятелю в грузовике с песком. В этот раз ее подбрасывает на второй этаж. «Еще больше песка!» – орет пожарный, когда она прыгает из окна второго этажа. В этот раз балласта так много, что батут рвется, и она приземляется на асфальт. Забавное зрелище, хотя и кажется неуместным из-за кошмара вокруг: языки пламени, едкий черный дым, корчатся на земле обгоревшие тела, рыдающие свидетели.
– Тогда почему ты смеешься? – спрашиваю я.
– От облегчения я рада, что она в порядке, – говорит Цай, оправдываясь.
Я, конечно, тоже смеялся над ее историей. Все за столом смеялись, особенно Конрад Фейдт Третий. Но от облегчения ли, как утверждает Цай? Я задумываюсь, не стал ли привычен к чужим трагедиям. Умом я понимаю, что прыжки из горящего здания – это не шутка, уж точно не для прыгнувшего, его семьи или друзей. И тем не менее почему-то не могу заставить себя сочувствовать. Виноват фильм Инго? Это тревожит. Все вокруг тревожит. Кроме того, похоже, мои романтические чувства испарились навсегда. Прирученная Цай меня совершенно не интересует. Клоунесса Лори стала истопником веселья. Источником. Я с трудом помню мою бывшую девушку-афроамериканку Келлиту Смит. Моя бывшая жена в воспоминаниях кажется мужиковатой. Возможно, я просто старею, да и черт с ним. Мне совершенно не жаль, что период романтических потребностей подошел к концу. Теперь – только работа. Моя цель – Инго.
После ужина в качестве развлечения, раз уж никто из гостей не хочет играть в «Угадайку», Барассини предлагает провести сеанс.
В палате Моллоя разворачивается сцена – удивительный образец ловкой кукольной анимации. Это снятый цейтрафером эпизод, который ужимает несколько недель комы Моллоя в пятнадцать минут, каких не доводилось видеть ни одному зрителю. День сменяется ночью и обратно, снова и снова, пока влетают и вылетают медсестры и врачи, проведывают пациента и уходят, приходит и читает мужу Патти, курит и смотрит в окно Мари, ходит по комнате и заламывает руки Мадд. Все это время Моллой лежит на койке – остров неподвижности в этом море панического, ускоренного движения. Проходят недели, Моллой теряет вес, его лицо осунулось, на верхней губе вырастают усики. Он становится похож на скелет, и кажется, что он уже никогда не проснется.
Затем он просыпается.
Это происходит ночью. В палате темно и никого нет. Моллой открывает глаза, в них отражается струящийся сквозь окно лунный свет. Этот захватывающий момент служит категорическим завершением турбулентного цейтрафера. Моллой приподнимает голову, пытаясь понять, где находится. Где я? Он выглядит слабым и сонным. Пытается сесть, не может и продолжает лежать в ожидании. Мы ждем вместе с ним – товарищи по заточению, одинокие в темноте. Эту сцену – одинокого Моллоя в койке – мы видим целиком. Все пять часов, за двадцать лет до уорхоловского «Спи»[101]101
«Спи» (англ. Sleep) – первый фильм Энди Уорхола, немой и черно-белый. Хронометраж – 5 часов и 20 минут, и все это время зрителю показывают спящего Джона Джорно, любовника Уорхола.
[Закрыть], только с марионеткой. И в отличие от «Спи», это не выходка, не концептуальная шутка. Эта сцена исследует изоляцию, скуку, страх и пребывание в больнице. И если зритель сможет досмотреть ее до конца – а он должен! – наградой будет чувство глубокого сопереживания.
Наступает рассвет, в палату заглядывает медсестра, встречается взглядом с Моллоем – и это, наверное, одна из самых смешных сцен с переглядываниями и перханьем кофе (медсестра почему-то, заходя в палату, как раз отпивала кофе из чашки), когда-либо запечатленных на целлулоидной пленке. Инго, явно вдохновленный комедиями Хэла Роуча, мастерски выстраивает сцену, впечатляющую еще больше, если вспомнить, что ее искусственно выстраивали кадр за кадром. Страшный вопрос, которым задается публика, – почему Моллой, опытный водевильный артист, не находит юмора в комичном удивлении – ни в своем, ни у медсестры. Тут есть зловещее предзнаменование. Ошарашенная медсестра подает голос:
– Ой! Мистер Моллой! Лежите! Не двигайтесь! Не двигайтесь!
В гулком коридоре раздается стаккато полуботинок на высоком каблуке, пока медсестра убегает – предположительно, за доктором. Моллой отворачивается к окну. Камера проходит через стекло в тусклый предрассветный сумрак. Палата Моллоя на верхнем этаже, поэтому мы видим Лос-Анджелес с высоты птичьего полета. Вдали – Тихий океан и остров Каталина. По пустому проспекту катит одинокий трамвай. В невероятном маневре камера пикирует и залетает в вагон с утренними пассажирами. В кадре оказывается негр (это уважительное название афроамериканцев в Америке 1940-х используется здесь только для правдоподобия и никоим образом не одобряется автором) с проездным для «Лос-анджелесской железной дороги», на котором напечатана реклама выступления Джона Райта в главной роли в мюзикле «Карусель» в зале «Шрайн-Аудиториум». Сам мюзикл, написанный Роджерсом и Хаммерстайном по мотивам пьесы Ференца Мольнара «Лилиом», вполне заслуженно критиковали за ohrwurm-мелодии[102]102
Ohrwurm с немецкого буквально переводится как «уховертка». Этим термином также обозначают назойливые мелодии.
[Закрыть], а также за попытку приравнять любовь к домашнему насилию («Так бывает, дорогая, что кто-то может тебя ударить, и сильно, но ты совсем не почувствуешь боли»). По этому пути слишком часто идут и мужчины-апологеты, и женщины-жертвы, страдающие от стокгольмского синдрома. Схоже ужасающий посыл был в песне Кэрол Кинг и Джерри Гоффина «Он ударил меня (и это было как поцелуй)»[103]103
Имеется в виду песня группы The Crystals «He Hit Me (And It Felt Like A Kiss)».
[Закрыть] 1962 года. Да что с вами, люди? Я никогда не бил и не ударю женщину. И вот пожалуйста: в руке у негра реклама абьюзивных отношений. Что Инго хочет этим сказать? Еще слишком рано делать выводы в повествовании такой сложности, но Инго здесь почти наверняка исследует фабричность американской мечты, ее потребителей и потребляемых. Тем временем негр, уже пересевший в автобус, оказывается перед автомобильной фабрикой Уиллиса-Оверленда в Мэйвуде. У входа на фабрику он присоединяется к толпе рабочих с коробками для обеда. Он молчалив. Мы не знаем его имени. Увидим ли мы его вновь – вот вопрос, с которым фильм нас оставляет, пока мы переносимся обратно в палату Моллоя, где его уже окружили врач, поперхнувшаяся кофе медсестра, Патти, Мадд и Мари. Врач водит перед глазами Моллоя указательным пальцем. Все остальные смотрят затаив дыхание.
– Хорошо, – говорит врач. – Вы помните, как вас зовут?
– Малачи Фрэнсис Хавьер Моллой.
– А прозвище у вас есть?
– Чик.
– Вы узнаёте людей в палате?
Моллой выглядит встревоженным, словно сдает экзамен. Сжимает кулаки, глубоко вдыхает, затем приступает:
– Моя жена Патти (в девичестве Миттенсон). Мой партнер Бад Мадд. Его жена Мари Богдонович Мадд. Та медсестра, которая недавно технически замечательно, но до странного несмешно поперхнулась кофе. И вы представились, когда вошли, доктором Эвереттом Флинком.
– Очень хорошо, – говорит врач.
Моллой выдыхает с облегчением. Патти плачет и целует его в лоб. Мадд хлопает по плечу. Мари приоткрывает окно, зажигает сигарету. Обеспокоенной выглядит только она одна.
– Где это видано, чтобы Чику Моллою не понравилось, как кто-то поперхнулся кофе? – бормочет она, выдыхая дым в щелку, в несчастный мир снаружи.
– Меня ждут какие-то последствия? – спрашивает Моллой.
– Вы провели в неподвижности пять недель. Необходим контролируемый режим физиотерапии.
– Я вернусь в норму?
– Точные прогнозы делать еще рано, но, думаю, с должным усердием…
– Я буду очень стараться.
– Хорошо. Это хорошо.
– А что, если я не вернусь в норму?
Патти и Мадд прищуриваются, на их лицах ужас. Что-то не так в его поведении? Серьезность? Тревожность? Может, дело просто в том, что он слишком похудел и где-то в этом истощении похоронен толстый, задорный, глупый, неуклюжий клоун. Он выглядит… неприятным. И тоненькие всклокоченные усики вовсе не спасают.
– Почему вы все так на меня смотрите? – спрашивает Моллой.
– Как, дорогой? – говорит Патти.
– Словно я чужой. И вы меня презираете.
– Никто на тебя так не смотрит, Чик! – говорит Мадд. – Мы просто очень рады, что ты снова с нами!
– Ты лжешь, – говорит Моллой, в его голосе слышится невиданный ранее гнев. – Дайте мне зеркало.
Патти хватает свою красную сумочку-косметичку из крокодиловой кожи, открывает и протягивает ему. Моллой изучает свое мертвенное лицо в зеркале на внутренней стороне крышки. Ощупывает усы.
– Можно сбрить их прямо сейчас, Чик, – говорит Патти. – Раз, два, и готово.
– Нет, – отвечает Чик после паузы. – Они мне идут.
– Мы не можем оба быть усатыми, Чик, – возражает Мадд.
– Оставь его в покое, Бад, – говорит Мари. – Если ему нравятся усы, пусть будут. Он их заслужил.
– Но как же наши образы?
– Оставь его в покое.
И Мадд оставляет, хотя есть что-то предосудительное в том, чтобы сразу оба комика носили усы. Он подумывает сбрить свои. Нет сомнений, это изменит динамику их дуэта. Разве зритель поверит, что их дуэтом правит безусый? И этот новый, истощенный Моллой выглядит злым. От озорной улыбки не осталось и следа. Но, Бад, ради всего святого, он же был в коме! Дай ему прийти в себя. И в любом случае, несмотря ни на что, его друг снова с ним, а все остальное – мелочи, их можно обсудить и решить позже, в свое время.
Пока иду домой после сеанса у Барассини, пересматриваю свой список. Так я коротаю время, а кроме того, всегда полезно знать, где находишься.
Список людей, которые, вероятнее всего, умнее меня:
Альберт Эйнштейн
Сьюзен Зонтаг
Исаак Ньютон
Данте Алигьери
Уильям Шекспир
Ханна Арендт
Джеймс Джойс
Жан-Люк Годар
Готфрид Лейбниц
Алан Тьюринг
Ада Лавлейс
Мари Кюри
Аристотель
Примечание: срочно найти афроамериканца!
Я останавливаюсь возле «Дерева желаний» Йоко Оно, которое в этом году привезли на фестиваль «Перформа», и прикрепляю к нему свое желание: я желаю привнести в мир критики столько же гениальности, сколько Пикассо и Брак привнесли кубизмом в мир живописи. Можно ли смотреть фильм под разными углами? Подо всеми углами? Может ли критика включать в себя все потенциальные интерпретации? Можно ли понять фильм со всех человеческих точек зрения? И всех нечеловеческих? Вот моя цель.
В данный момент на дереве, кроме моего, висит всего одно желание: «Велосипед. – Джим Керри».
Глава 43
– Рассказывай.
Я сижу незримым вместе с Маддом и Моллоем, кажется, в часовне при больнице. Моллой – в больничном халате, Мадд – в элегантном двубортном костюме.
– Предлагаю вернуться к съемкам, доснять «Идут два славных малых», – говорит Моллой.
– Хорошо, Чик. В смысле я даже не знаю. Бизнес с тех пор изменился.
– Вряд ли он мог сильно измениться за три месяца.
– Знаешь, Чик, давай начистоту?
– Конечно.
– Мне кажется, ты изменился. Немножко.
– Я так не думаю.
– Теперь ты похож на… меня, – говорит Мадд. Моллой долго разглядывает Мадда.
– Понимаю, – говорит Моллой.
– Не думаю, что ты теперь сможешь сыграть того же персонажа.
– Ну, может, хотя бы попробуем?
– Сейчас?
– Почему нет?
– Да, конечно. Сцену в галантерейном магазине?
– Давай.
Они играют сцену, получается плохо.
– Мне не нравится, Чик. Теперь все как-то неестественно, – говорит Мадд.
– Возможно, мы просто давно не репетировали.
– Не думаю, что дело в этом. Может, ты сбреешь усы и наберешь вес?
– Я предпочитаю свой новый образ, Бад. Он мне идет. Ты даже не представляешь, как это тяжело – жить с лишним весом. Со здоровьем проблемы, да и люди вечно смеются над толстяками.
– Могу представить, Чик. Но, честно говоря, это ведь и есть наша цель – чтобы люди смеялись.
– Не так, Бад. Не так. Это дешевый и жестокий смех.
– Хорошо. Понимаю. Может, просто сбреешь усы?
– У меня элегантные усы.
– Но ведь их элегантность не работает на образ.
– А что, если ты сбреешь усы, Бад. И наберешь вес. И мы поменяемся ролями.
– Я не хочу набирать вес, Чик.
– Значит, ты понимаешь, что я чувствую.
– Понимаю, но в нашем дуэте это всегда была твоя роль. Я даже не уверен, что буду хорош в образе напыщенного шута. Я – сухарь[104]104
Сухарь (англ. straight man) – актер в комедийном дуэте, который сохраняет невозмутимость на фоне эксцентрического поведения партнера. – Прим. ред.
[Закрыть]. Такой у меня образ.
– А давай попробуем. Как думаешь? Давай еще раз прогоним сцену, только поменяемся ролями.
– Чик…
– Давай просто попробуем, Бад. Вдруг результат нас удивит.
– Да, конечно. Давай.
Они пробуют еще раз – с тем же результатом, только теперь они поменялись ролями.
– Ты вовсе не выглядишь глупым, Бад. Ты должен выглядеть глупо.
– Это не про меня, Чик.
– Но ты даже не стараешься.
– Хорошо.
Они начинают сначала. Мадд корчит рожи, скулит и безумно пучит глаза на протяжении всей сцены. Это ужасно, кошмарно, непристойно, смотреть на это невозможно, но невозможно и отвернуться.
– Нет, так тоже неправильно, – говорит Моллой.
– Я – сухарь, Чик.
– Я тоже, Бад. Я тоже.
– Может, хватит на сегодня, дружище?
– Комедия – это все, что я умею, Бад.
Моллой плачет, но выражение его лица не меняется. Мадд смотрит на него в замешательстве.
– Мы что-нибудь придумаем, – говорит Бад.
– Обещаешь?
– Обещаю.
– Может быть… что, если мы оба будем сухарями? Никто ведь раньше такого не делал.
– Да, Чик, разумеется.
– Как будто один человек спорит сам с собой. Ты читал немецких романтиков, Бад?
– Не особо. Нет. Не знал, что ты читал.
– Я читаю по ночам, когда тут тихо.
– Ого.
– Doppelgänger. Термин придумал писатель-романтик Жан Поль, но это древняя концепция. Двойник. Возможно, как раз это и выведет американскую комедию на новый уровень.
– Разумеется. Звучит отлично, – без энтузиазма отвечает Мадд.
– Отлично! – говорит Моллой, кажется, с энтузиазмом, но я не уверен: его лицо почти непроницаемо, как у пациента с болезнью Паркинсона.
В этот прекрасный воскресный день я выступаю перед детьми в парке Риверсайд, на пикнике юных будущих историков кино Америки, подразделение Восточного побережья:
– И вот он я, в будущем – в 2019 году, верно? – оглядываюсь на свою жизнь. Таинственное несуществующее место под названием «Пока еще не» теперь полностью реализовано, и кто бы мог представить себе футуристические чудеса, которые сегодня мы принимаем за должное? Беспроводные телефоны. Компьютерные станции прямо у нас дома. Вкусные сытные блюда в форме таблеток. Все книги мира в электронных библиотеках, доступные каждому по одному простому щелчку выключателя. И хотя нам удалось искоренить войну и нищету, а все другие народы теперь признаны равными белому человеку, я до сих пор не удовлетворен. На данном этапе, который я могу описать лишь как ранний вечер своей жизни (с переходом на летнее время), я чувствую необходимость бороться за смысл. Конечно, это прекрасно – жить в мире, где все равны и никто не исключителен, но я прибыл из другого времени, из другого края – края эго и амбиций, бесконечного стремления и зависти. Эти черты проникли глубоко в мое существо, и теперь, когда всех вокруг чествуют, все пишут книги, рисуют картины и поют песни, а все остальные читают книги, смотрят на картины и слушают песни, я обнаруживаю, что моя примитивная сущность хочет выделиться. Все это вышло на поверхность в то время, когда мои творческие силы идут на убыль, и я медленно ухожу обратно в землю, откуда когда-то вырос. Ибо, понимаете ли, я уменьшаюсь.
Мне кажется, дети под впечатлением. Но я не уверен: их лица почти непроницаемы, как у пациентов с болезнью Паркинсона.
– Рассказывай.
За стеклянной дверью что-то есть. Едва заметное. Размытое. Намек на фигуру. Камера наезжает. Дверь открывается, и мы влетаем в коридор старинного особняка. Он пуст, и нас переполняет зловещее предчувствие. Что это было? Кто это был? Нам не полагалось его видеть? И тем не менее мы здесь. Сюда нас привел фильм. Значит, видеть полагалось, думаю я. Мы скользим дальше по коридору к закрытой двери. В этой абсолютной тишине есть что-то угрожающее. Мы вспоминаем все фильмы ужасов, использовавшие этот прием, который много лет назад, в 1914 году, изобрел Джованни Пастроне в своем фильме «Кабирия», хотя и с совершенно другой целью. В этом скольжении вперед есть ощущение неизбежности, отсутствия контроля. Хотим мы того или нет, мы узнаем, что таится в комнате. Исцарапанная белая деревянная дверь в конце коридора открывается, приглашая нас войти. В сырой каморке с закрытыми ставнями пьяный моряк убивает ребенка. Это фильм ужасов – не из-за убийства ребенка (эта-то сцена тут ради смеха), но из-за того, что татуировки на голой спине матроса шевелятся, намекая на двойственное отношение к жестокому и смешному убийству, которое он совершает. На участке от левой трапециевидной мышцы до нижней левой дельтовидной изображен танцующий гомункул, символизирующий безудержное ликование. Его танец прост: он прыгает вперед-назад, с ноги на ногу, на лице – злобная усмешка, глаза восторженно вращаются против часовой стрелки. На правой дельтовидной – святой Николай, символизирующий не-убивание детей. На ум приходит история о том, как мясник убил троих детей, чтобы продать их мясо и купить себе еды. Святой Николай воскресил их, и это был правильный поступок, соответствующий этике святых. На татуировке Николай цокает языком и качает головой, но вмешаться не может, потому что между ним и гомункулом – татуировка огромной клыкастой обезьяны. Не могу сказать, что именно символизирует обезьяна (равнодушие культуры? апатию общества?), но очевидно, что Николай ее боится. Обезьяна выглядит самодовольной. Что Инго пытается этим сказать? Признаётся ли в своих собственных извращенных желаниях? Оправдывает убийства детей? Очень в этом сомневаюсь. Возможно, убийство ребенка здесь чисто символическое. Кто из нас хоть раз не мечтал метафорически жестоко убить ребенка, которым сам когда-то был? Стереть с лица земли память об этом надоедливом, жалком выродке. Но правильно ли это? Святой Николай говорит, что нет. Или, может быть, скорее святой Николай говорит: я это не одобряю, и если ты убьешь ребенка, то я его воскрешу. Я никогда не позволю тебе забыть его, ибо когда-то им был ты сам – надоедливым и жалким ребенком. Отрицать это – значит отрицать свою собственную историю, а ее – какой бы она, естественно, жалкой ни была – помнить нужно, потому что тот, кто забывает историю, обречен ее повторять. А кто же хочет снова стать ребенком?
Моряк убивает ребенка, оборачивается и смотрит в камеру, словно бы говоря: «Че?» Это момент огромной кинематографической силы. Вы все виновны, говорит нам его взгляд. Окровавленный ребенок встает и кланяется. Все это только представление? Нет, теперь он живой мертвец. Чтобы это передать, Инго заменил его глазные яблоки на черные стеклянные шарики. Хотя он и не выглядит несчастным. Достает из шкафа посуду и приборы и накрывает на стол. Моряк курит трубку. Гомункул мертв. Нет, он дышит; просто спит. Жизнь – сложная штука, говорит нам Инго. Происходит ужасное насилие, но затем мы отдыхаем и ужинаем. Такова жизнь.
Из кабинета Барассини я выхожу полностью разбитым. Процесс вспоминания изматывает, и теперь я подавлен – физически и эмоционально. Размышляю о своей работе, о ее важности и о высокой вероятности провала. Чувствую, как износился. Износились мои колени. Износились кишки и член. Износ коснулся даже моего роста и ухудшающейся памяти. Когда-то я мог вспомнить что угодно. Хотя память у меня была и не эметическая. Другое слово. Нужно слово, которое означает фотографическую память. Эметическая – это про лекарства, вызывающие рвоту. Хотя, сказать по правде, и это слово не то чтобы неправильное. Я мог блевать и блевал информацией. Спроси меня о Годаре – и меня тут же реактивно рвало датами, фактами, теориями о его фильмах, собственными и чужими. Я знал размер его ноги. Но теперь не помню размер его рубашки. И меня это беспокоит. Провалы в памяти. Ослабший мочевой пузырь. Проблемы с эрекцией. Я не прислушиваюсь к совету Томаса Дилана не уходить спокойно в сумрак вечной тьмы. Дилана Томаса. Смиренно. Господи. Я дремлю в своем кресле. И вижу сон о любви. О той любви, какой не знал в реальной жизни, но пару раз она являлась ко мне во снах. В этом сне женщина добрая, с безотразимым взглядом, с глазами как открытые двери. Войди в меня, говорил ее взгляд. Войди в меня полностью. Глаза у нее черные, а кожа нежная, коричневая с бликами света. Это все, чего я только мог желать. Перед лицом этой любви погоня за уважением, деньгами, славой, в которой я провожу свои дни, бессмысленна, глупа и постыдна. С ней даже жизнь в бедности и безвестности – мечта. Я вхожу в нее без усилия, без страха быть отвергнутым, без сомнений в своей физической привлекательности. Я любим. Ее кожа тепла и нежна. Мы сплетаемся в невесомых узлах. Никаких локтей или костлявых бедер. Никаких тревог из-за моих скрытых причин влечения к черной женщине. Все хорошо. Все чисто. Просыпаюсь я с разбитым сердцем. Этому не бывать. Для меня это невозможно. Если и было возможно, то теперь уже поздно. В отчаянии я смотрю на свой книжный стеллаж. Торжественно клянусь запомнить ее лицо. Сочиняю для себя историю: возможно, она существует, и мой сон о ней – вещий. Такое уже случалось. Вдруг это совпадение. Я не особо верю в подобные штуки. Но вдруг. И я торжественно клянусь, что сегодня буду открыто смотреть в глаза всем афроамериканкам и искать в них любовь. Это маловероятно. Но в этом сне я что-то ощутил и теперь не знаю, как дальше жить без этого чувства.
По дороге к Барассини я разглядываю афроамериканок. Но вымысел сна расходится с реальностью яви. В море очевидно неподходящих женщин я вижу пять вероятных кандидаток на роль моей любовницы из сна. Ни одна из них – ни из кандидаток, ни из неподходящих – меня не замечает. Правда в том, что меня нельзя полюбить, только не в реальности. И уж точно меня не полюбит афроамериканка.
К Барассини я прихожу в ужасном настроении. Он это чувствует и спрашивает, что случилось. Я заглядываю в его тупые осуждающие глаза. Почему он не может посмотреть на меня так же, как она? Почему никто в моем чертовом углу блока Вселенной не смотрит на меня так же, как она?
– Ты сейчас как-то ненормально на меня смотришь, – говорит Барассини.
– Да и пофиг, – отвечаю я.
– Ого. Ну что ж, мы, наверное, можем приступать. Я смотрю, ты в настроении.
– Все нормально, – говорю я. – Самая, блядь, мякотка. Погнали.
Барассини щелкает выключателем у меня на шее.
Я в прихожей, заглядываю в гостиную, где осунувшийся усатый Моллой читает отпечатанную на заказ книгу «Песни Мальдорора» в переводе Гая Вернхама. Мимо несколько раз проходит Патти, занимается уборкой. Очевидно, она хочет привлечь его внимание, чтобы он с ней поговорил. Пройдя мимо в третий раз, она оборачивается в дверном проеме.
– Чик, хочешь пообедать?
Моллой поднимает взгляд.
– М-м-м?
– Пообедать?
Долгое время он как будто раздумывает над этим предложением, затем:
– Я не узнаю себя, Патти. В смысле я помню, каким я был и как реагировал на вещи. Но помню так, как если бы я прочел о себе в книге, в книге о незнакомце, которого я презираю.
– О чем ты, Чик?
– Ты правда хочешь, чтобы я повторил?
– Нет. Просто не понимаю.
– Например, я знаю, что любил телячьи отбивные. Но теперь я ненавижу телячьи отбивные и все, что с ними связано. Куда делась моя любовь к телячьим отбивным? Летает сейчас, как дым, и ищет, к кому прикрепиться?
– Не обязательно есть телячьи отбивные, Чик. Я приготовлю все, что скажешь. Хочешь спагетти?
– Я ведь не об этом.
– А. Хорошо. Потому что еще есть рубленый фарш. Могу сделать фрикадельки.
– То, что раньше меня смешило, теперь уже не смешит. Я помню, над чем смеялся раньше. Но теперь то же самое меня коробит.
– Что значит «коробит»?
– Раздражает.
– Понимаю. Ну, это нормально. Мы можем смеяться над чем-нибудь другим.
– Я знаю, что раньше обожал, когда вокруг много людей. Я любил вечеринки. Любил флиртовать. А сейчас предпочитаю быть один.
– Один?
– Мне комфортнее в одиночестве. С моими книгами.
– Что именно ты имеешь в виду под «одиночеством»?
– Я все еще жажду внимания зрителей, но уже иначе. Я жажду внимания, но по другой причине.
– По какой же?
– Мне нужны не зрители, а свидетели.
– А сэндвичи будешь? – говорит она. – В холодильнике есть охлажденная курица.
– Я не особо хочу есть, Патти.
– Хорошо.
Патти долго стоит в дверях, пока Моллой читает Лотреамона.
– А то, что любил меня, ты помнишь, Чик?
Моллой смотрит на нее.
– Помню, Патти.
Эта сцена разбивает мне сердце. Я вспоминаю о любви, которую испытывал к своей афроамериканской девушке и – когда-то давным-давно – к жене. Похож ли я на Чика? Изменился ли я? А они изменились? Люди вообще меняются?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































