Текст книги "Муравечество"
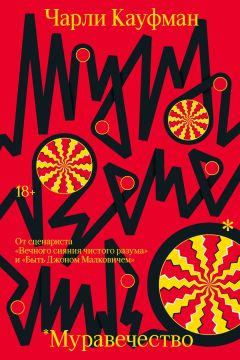
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 45 страниц)
Глава 61
В квартире «Ж» я ищу вешалку для ермолок, которая, как мне кажется, у евреев должна быть в прихожей. Но не нахожу. Может, он не снимает ермолку? Даже в постели? Мне многое предстоит узнать об этой религии. Тут появляется женщина, которую я видел ранее, на пути из одной комнаты в другую. На меня она не смотрит.
– Тебя долго не было, – говорит она, исчезая, кажется, в ванной.
– Кое-что случилось, – говорю я вслед.
– Что? – выглядывает она. Потом видит меня, видит осла у меня на руках. Глаза распахиваются в ужасе, и она бросается ко мне.
– Грегори?! Б-г мой, что случилось?
– Тот клоун, – говорю я. – Это был тот клоун.
– Клоун, который за нами следил?
– Нет, – говорю я, – клоун из «Капитана Кенгуру».
Она смотрит с непониманием.
– Кларабель? Правда?
– Да нет! Ну конечно, тот клоун, который за нами следил!
– А, – отвечает она с обиженным видом. – Я не…
– Ничего, – говорю я. – Мне пришлось его убить.
– Ты его убил?!
– У нас здесь что, эхо?
– Господи, Б., – шепчет она.
– Прости, – говорю я. – Тяжелая ночь.
Хочу назвать ее по имени, но я его не знаю. Спрашиваю, нет ли у нее в кошельке денег, потому что, объясняю я, наверное, надо дать чаевые полиции, когда та приедет. В действительности же это уловка, чтобы посмотреть на ее права.
– Эм-м, да, – говорит она. – Но разве полиции обязательно давать чаевые?
– Господи, – говорю я. – Ты же знаешь, наш народ считают скупым. Ты правда хочешь укрепить это предубеждение? В такой-то момент?
– Нет, конечно, нет, – отвечает она.
Отправляется за сумочкой. Я улучаю момент, чтобы оглядеться и ознакомиться с окружением – так будет проще отводить подозрения. Она возвращается с сумочкой и начинает в ней шарить.
– Давай я достану деньги, – говорю я. – Или ты мне не доверяешь?
Она озадаченно смотрит на меня, потом потягивает сумочку. Я нахожу ее кошелек, открываю, достаю банкноты, тайком глянув на права: Лора Элейн Коэн. Возвращаю.
– Спасибо, Лора.
– Б.!
– Что?!
– Пожалуйста, не сердись на меня, – говорит она.
– Я и не сержусь.
– Ты называешь меня Лорой, только когда сердишься! Думаешь, я не заметила?
– Лори, – пробую я.
– Серьезно? – говорит она. – Ох, Б.
Стук в дверь. Там стоят два копа в форме, а также человек средних лет в костюме.
– Офицеры, – приветствую я.
– Б.! – говорит человек в костюме и обнимает меня.
– Привет, – отвечаю я.
– Лори, – продолжает он, отпуская меня и обнимая ее.
Вот ему можно звать ее Лори. Кем бы он ни был. Как-то нечестно.
– Эл, – говорит она. – Большое спасибо, что приехал.
Его зовут Эл. Понятно.
– Спасибо, Эл, – говорю я.
– Как я мог не приехать? – отвечает Эл. – Мы постараемся облегчить для вас ситуацию, насколько только можно.
– Спасибо, Эл, – говорит Лори (?).
– Спасибо, Эл, – вторю я.
– В общем, нам только нужно взять показания, – говорит Эл.
Значит, Эл из полиции. Понятно.
– Мы нашли тело клоуна, и у нас нет совершенно никаких сомнений, что это самооборона.
– Вы бы видели, что он сделал с Грегори, – произносит Лори (?).
Я тороплюсь за трупиком Грегори, уверенный, что так будет проще протолкнуть свою версию.
– Господи, – говорит Эл. – Я любил его, насколько только можно любить говорящую куклу осла.
– Как и я, – говорю я.
– Как и весь Нью-Йорк, – поддакивает второй полицейский в форме.
– Как и я, – соглашается Лори (?).
– Расскажи, что произошло, Б., – говорит Эл. – Своими словами.
– Конечно. Ну, я выгуливал Грегори Корсо, говорящего осла, как и каждый вечер.
– Не каждый, – говорит Лори (?).
– Да, согласен. Как в некоторые вечера.
Это ее удовлетворяет, она кивает.
– И я заметил, что за мной следит этот проклятый клоун, который следил за нами весь день. Правильно?
Я смотрю на Лори (?) ради подтверждения.
– Правильно, – говорит она.
– Он даже был сегодня на моей лекции. Это все видели. Сотни свидетелей. И я обошелся с ним по-доброму, хотя, очевидно, у него не все в порядке с головой. Я даже пригласил его на сцену для дебатов. Оглядываясь назад, должен сказать, что был, пожалуй, слишком добр.
– О чем дебаты? – спрашивает Эл.
– Он заявлял, что видел фильм Катберта и что тот совершенно непохож на то, о чем рассказывал я, почти полная противоположность.
– Безумие, – отвечает Эл. – Какой безумец.
– Да, – соглашаюсь я, хотя сам внутри бушую. – Но нужно быть добрее к нашим безумным друзьям. Так нас учит Тора.
– Ты слишком прекрасен для этого мира, как говорил Винсент Ван Гог, – говорит Эл.
– Спасибо, Эл, – соглашаюсь я. – В общем, клоун напал на Грегори, а потом пошел на меня, в руках сай[157]157
Японское холодное оружие, трезубец с коротким древком. – Прим. ред.
[Закрыть]…
– Сай мы не нашли.
– Позволь договорить. Я хотел сказать, он пошел на меня с… айфоном в руках.
– Мы не нашли… Погоди, что-то я запутался. Айфоном можно угрожать жизни?
– Они же очень твердые. И держи в уме, он уже убил моего осла, так что я не мыслил рационально.
– Это я понимаю, – говорит он. Потом, после паузы: – Но мы и айфон не нашли.
– Может, кто-нибудь его забрал. Я слышал, продажа краденых айфонов – выгодный бизнес.
– Твоя правда, – говорит Эл. – Очень хорошо подмечено. Твоя правда. Может, это тебе нужно быть копом, а мне – гением кинематографа!
Мы все смеемся.
– Короче. Мы подрались, и я, чтобы защититься, ну, забил его насмерть.
– Спасибо, Б., – говорит Эл. – За то, что вновь пережил этот кошмар. Знаю, это нелегко. – Затем копам: – У вас еще остались вопросы, ребята?
– Нет, комиссар Раппапорт.
Комиссар Эл Раппапорт! Ну конечно!
– Ладненько, – говорит комиссар Эл Раппапорт, – тогда позволим вам, очаровательной парочке, вернуться к своей жизни.
– Спасибо, Эл.
Эл обнимает Лори (?).
– Дело не в том, что он клоун, Лори. Это мы знаем точно.
Это еще что значит?
– Спасибо за эти слова, Эл, – говорит Лори (?).
Дело не в том, что он клоун, Лори? Дело не в том, что он клоун, Лори. В голове почему-то включается тревога. О черт. Клоунесса Лори! Так Лори – это Клоунесса Лори? Я присматриваюсь к ней и пытаюсь представить в клоунском гриме.
– Что? – спрашивает она.
– Ничего.
Эл обнимает меня. И уходит вместе с полицейскими. Мы с Клоунессой Лори, наверное, какое-то время смотрим на дверь, словно вдруг испугались остаться наедине друг с другом, словно из-за этого ужасного события между нами разверзлась какая-то пропасть.
– Наверное, нам лучше попытаться уснуть, Сюсипуся, – говорит она.
– Ладно. Хорошая мысль.
– Мне очень жаль, Малыш Милыш, – продолжает она. – Тебе, должно быть, та-а-ак тяжело.
– Да ничего.
– О-о-о, Дружок-Пирожок, – говорит она и заключает меня в объятья.
– О-о-о, – отвечаю я.
В спальне я смотрю, как она раздевается. Она довольно хороша, и я чувствую, как натягивается ткань пижамных штанов. Вдруг осознаю, как я рад, что родился в Соединенных Штатах во времена, когда мне могли провести обрезание во взрослом возрасте в Ожоговом центре имени Ожега и Шрайбера. Так она не заметит, что я не еврей. Это возвращает к вопросу о ермолке. Можно ли снимать ее перед сном?
– Ты не знаешь, где я оставил компьютер? – спрашиваю я. – Я бы хотел кое-что погуглить.
– Там же, где и всегда, – говорит она.
– А, хорошо, – говорю я. – Спасибо.
Я выхожу из комнаты.
– Ты куда? – спрашивает она.
Я возвращаюсь.
– За компьютером?
Она закатывает глаза.
– Что с тобой? – достает его из прикроватной тумбочки. «Моя сторона кровати!» – думаю я.
– Прости, – говорю я. – Еще не пришел в себя и думаю, что останусь таким несколько дней, а то и до конца года.
– Мой бедный мактостик, – говорит она и обнимает меня.
– Ох, – отвечаю я. – А сейчас я понимаю, что даже не могу вспомнить пароль!
– Ха, – смеется она. – Глупый Б.! Это же твое прозвище для меня!
– Ха! – соглашаюсь я. – Смешно… Детка.
И смотрю на нее.
– Ты смешной, – говорит она.
Я решаю не снимать кипу. Это в его духе. Хорошо, что он уже был в пижаме, так что я хотя бы знаю, в чем он спит. Если она спросит, почему я ложусь в ермолке, скажу, что просто забыл. Из-за стресса после жестокого убийства, которое совершил для самозащиты, из-за смерти нашей любимой куклы осла. Правдоподобно. Она поверит. Я забираюсь в кровать.
– Ты ложишься спать в ермолке? – спрашивает она.
– Забыл, – отвечаю я, отстегивая ермолку и отправляя на болванку для париков на тумбочке – полагаю, она здесь для этой цели. – Просто забыл, – продолжаю я, – после убийства, которое совершил для самозащиты, а также гибели ослика. Спокойной ночи.
Ложусь.
– А как же твоя вечермолка?
– Что-что?
– Вечермолка.
Я гляжу в потолок и вздыхаю. Это почти что того не стоит.
– Что-что, еще разок? – говорю я. – Похоже, потрясение затронуло и память.
– Твоя ермолка для сна.
– А, точно. Что-то я совсем уже! – говорю я. – Видимо, это я такой рассеянный из-за событий вечера. Еще раз, где она у меня?
– Тумбочка. Верхний ящик.
– Точно.
Я выдвигаю ящик – и вот она, клетчатая и фланелевая, с резинкой – видимо, для подбородка. Надеваю. Она на удивление удобная, а моя макушка действительно стынет по ночам. Я выключаю свет и укладываюсь на подушку.
– Спокойной ночи, Голубок, – говорит она.
– Спокойной ночи, Клоунесса Лори, – пробую я.
Она меня целует. Она Клоунесса Лори! И это ее прозвище!
Губы у нее милые, теплые и мягкие, со вкусом зубной пасты и – я немало причмокиваю губами и прощупываю языком нёбо для определения вкуса – блинчиков? Наверняка не скажешь, но я возбуждаюсь. Обычно еврейки меня не привлекают. Это просто вопрос вкуса; не антисемитская позиция. Но клоунесса-еврейка – другое дело. Не могу сказать, что понимаю почему. Прихожу к выводу, что если буду докапываться до причин, то это повредит моему сексуальному успеху, так что забываю обо всем, кроме тела этой клоунессы. Погружаясь в новое переживание, начинаю чувствовать себя им, начинаю чувствовать, что все-таки нашел свое законное место в мире. Как учит нас поэт, разве может быть неправильным то, что кажется таким правильным? Ее удивляют мои решения в сексе. Похоже, у нее с моим Двойничком выработалось что-то вроде программы. Возможно, я – то, что доктор прописал, как сказали бы остряки. И мне приходит в голову, что, может, в этой семье не все так безоблачно, что, может, в таких обстоятельствах правильное решение – представить свою истинную личность. Может, эта женщина готова к переменам. Может, я та самая интрижка на стороне, о которой она мечтает, но никогда не решится. Может, мне все-таки не придется покупать книжку Ростена[158]158
Лео Ростен – автор книги «Радости идиша», описывающей лексикон американских евреев, говорящих на идише.
[Закрыть]. Придумаю для нее новое прозвище. И ей понравится. Может, «сучка». Может, это ее заведет. По ходу дела разберемся. Чувствую, что она податлива, что я как муж для нее – на коне. На том самом, на котором я никогда раньше не был в отношениях с женщиной. И я кончаю. Ох как я кончаю. Переворачиваются земля и небо. Даже сильнее, чем с Олеарой. Сильнее, чем в подъезде Цай. Сказать по правде, ее это даже слегка пугает. Потому, что мой оргазм сильнее и мужественнее, чем у ее супруга? Потому, что это слишком быстро, она не готова, сама не закончила? Не знаю, но, когда ты на коне, верить надо в первое. Я достиг оргазма в самый правильный момент, а это достигло идеального результата в ее теле.
– Это просто… прекрасно, – говорит она.
– Рад, что тебе понравилось… сучка. – «Сучка» я говорю очень тихо.
– Что? – переспрашивает она.
– Что что?
– Ты назвал меня «сучкой»?
– Назвал?
Она чмокает меня в щеку и говорит:
– Сучка Лори.
Мы долго лежим в тишине, потерявшись каждый в своих мыслях.
Наконец я нарушаю тишину:
– «Клоунесса Лори» пишется с маленькой или большой?
– Ох ты скажешь. – Она снова меня целует, потом переворачивается на бок и почти сразу начинает тихо посапывать.
Ну, варианта только два.
Глава 62
Утро приятное. Кофе и мацебрай. Мне нравится. Моя сучка Клоунесса Лори умеет готовить. В дневной ермолке уютно: она цвета хаки, не жмет, много карманов. Я вышел в интернет (большая «к») и читаю про ермолки из волос. Вчера ночью мне пришло в голову, что если бы такие существовали, то я мог бы прятать плешь без обвинений в самовлюбленности, а если такой не бывает, то на ней можно неплохо заработать. Оказывается, бывают, и я заказываю три, темные с проседью: «Юлий Цезарь», «Джуд Лоу» и «Николас Кейдж».
Сегодня я должен быть у Чарли Роуза (в этой реальности он, похоже, не обесславился или, возможно, начал карьеру заново как необесславленный[159]159
Журналист и ведущий новостей на канале CBS, уволенный в 2017 году в связи с многочисленными обвинениями в домогательствах.
[Закрыть]), а вечером вручаю Флойду Норману первую Афроамериканскую награду за заслуги в анимации имени Инго Катберта.
В общем и целом жизнь теперь хороша. Однако что-то все-таки гложет. Возможно, из-за сплошной лжи. Я дал обещание Инго на его могиле сохранять и защищать его наследие, его фильм. Как только я его нечаянно сжег, я, пока горел на парковке «Слэппи» (почему теперь вдруг «Слэппи»?), дал Инго второе обещание – восстановить фильм, насколько это возможно. И в самом прямом смысле я практически живу во лжи. И я не только лгу о фильме Инго – речь о настоящем фильме, каким я его знаю, а не этой нелепой антитезе, которую принес в мир доппельгангер, о реальной, жестокой, ужасающей комедии, о труде всей жизни Инго, – но и обманываю Клоунессу Лори. Из-за этой шапочки, которую я теперь ношу, кажется, будто меня всегда видит Бог, будто мне не спрятаться, будто мне нужно признаться, принять земные последствия, да и потусторонние тоже. Все-таки я в конечном счете этичный человек. В пылу – из-за страсти, гнева, скорби – я выхватываю айфон из заднего кармана ермолки, набираю «Комиссар Эл Раппапорт» и звоню раньше, чем могу сам себя переубедить.
– Привет, Б., – говорит комиссар Раппапорт.
– Привет, Эл. Слушай, надо поговорить.
– Что такое, приятель?
– Помнишь то тело в подворотне?
– Со вчерашней ночи? Клоуна?
– Да. Слушай…
– Конечно, помню. Это ж случилось вчера ночью.
– В общем, послушай…
– О нем позаботились, Б. Его нет. Кремировали. Развеяли по ветру.
– Вы его сожгли?
– Ага. Пока-пока, клоун. Был и не стало. Не о чем волноваться, Б. Этого никогда не было. Его не существовало.
– Но ведь существовал.
– А ты докажи.
– Чего?
– Не можешь. Никто не может. Всё в порядке. Наслаждайтесь жизнью, сэр. Вы это заслужили.
– Эм-м…
– И серьезно – спасибо за все, что ты делаешь.
– Ага. Ладно, Эл.
– Чао, сучка!
Он смеется и вешает трубку.
Я брожу по улицам. Теперь все изменилось. Все меня узнают, просят автографы, сфотографироваться. Приветствуют с уличных столиков в ресторанах. Прохожие говорят, что моя книга спасла им жизнь, что они ждут не дождутся сериала на «Нетфликсе». Все изменилось, но не уверен, что к лучшему. В смысле – да, почти во всем к лучшему. Кто-то выскакивает из «Барнис» и предлагает кашемировый свитер, который только что купил для меня, когда заметил меня через витрину. Свитер стоит долларов девятьсот, если я что-то в этом понимаю. Хороший. Мягкий. Вересково-серый, что мне нравится, и идет к заплетенной бороде, при этом прекрасно пряча перхоть с нее. И все-таки мне нехорошо.
Я вспоминаю убитого, хоть, на мой (и Раппапорта!) взгляд, его никогда по-настоящему не существовало – уж точно не так, как существую я, – хоть он, за неимением термина получше, репликант и, на мой взгляд, существовал только для того, чтобы присыпать еще больше соли на рану моей психики, которую только и солили, сколько я себя помню, даже с самого детства. И все же я чувствую себя виноватым. Он (оно?) – живое создание с человеческим лицом. Конечно, то, что это создание конкретно с моим лицом, дает полное право убрать его из этого мира. Все-таки лицо мое. И было моим раньше, чем его. Он меня копировал. Он в лучшем случае плагиатор лиц. Украл лицо и понес за это наказание. Чем он в этом отношении отличается от Стивена Разбитого Гласса[160]160
Журналист Стивен Гласс сфабриковал множество статей ради своего повышения. О нем был снят фильм Shattered Glass – «Афера Стивена Гласса», или «Разбитое стекло» (Glass – «стекло»).
[Закрыть]? Вот из-за его преступлений люди оправданно возмущались. Конечно, насколько мне известно, его никто не убил и убить не предлагал. И правильно! Но лицо – это же более серьезное прегрешение. Да, можно сказать, что «клонскость», за неимением лучшего названия, – не его вина. Он не просил сделать его клоном. В смысле это я думаю, что не просил. Возможно, просил. Просил или не просил, а его существование – не моя вина, и глупо было бы ожидать, что я стану его терпеть.
Вдобавок я уверен, что существовал-то он только для того, чтобы ранить меня, чтобы мне было невозможно жить в мире, где теперь есть он. Так что в самом прямом смысле его убийство – акт самозащиты. И все же я не получаю удовольствия от убийства человека, клон или не клон. И если забьешь до смерти своего клона, это остается с тобой навсегда. По сей день, то есть следующий день, все еще вижу перед мысленным взором его безжизненное тело. И я знаю, что его любили очень многие, многие. То, что его любили за распространение лжи, не значит, что он заслуживает смерти. Иначе кого из нас можно пощадить? Но его ложь лишила мир истинного гениального творчества Инго, заменила безвкусной разжеванной кашицей безо всякой ценности для будущего кинематографа и, не побоюсь сказать, человечества. Конечно, можно поспорить, что он не знал о лжи – что его, клона, запрограммировали верить, будто он говорит правду. Склоняюсь к мысли, что так оно и было.
Впрочем, менее опасным для общества он от этого не становится. В результате общественного «программирования» Гитлер по-настоящему, искренне ненавидел евреев. Его искренность нисколько не умаляет результатов. Если бы я мог вернуться во времени и убить Гитлера раньше, чем он пришел к власти, я бы сделал это без промедления. И убил бы всех до единого клонов Гитлера. Не только потому, что теперь я еврей, но и потому, что это правильно. Понимаю, возвращение во времени ради изменения истории чревато непредвиденными проблемами, но в случае с Гитлером я бы все-таки рискнул. То же самое я испытываю к своему клону, хотя не говорю, будто верю, что его преступления против человечества равны гитлеровским. Но примите в расчет и мое положение: представьте, что вас в мире кто-то заменил. Представьте, что у вас больше нет личности, денег, жилья. Представьте, что оказались в огромной клоунской одежде / палатке для фумигации, голодный, одинокий, презираемый. Есть вероятность, что вы были бы вынуждены поступить так же. И все же я чувствую себя виноватым. Кровавые образы не уходят. И то же самое я чувствую из-за осла. Если честно, топча его, я думал, что это фокус анимации. Я затоптал его так же, как любой другой затоптал бы фокус анимации. Когда же первый удар показал, что он из плоти и крови, я пришел в ужас, и единственным гуманным поступком было наступить еще два раза, чтобы он больше не страдал. И все же я чувствую себя виноватым. Не только из-за того, что говорящие ослики в этом мире – большая редкость (не удивлюсь, если он действительно единственный в своем роде), – но и потому, что это была жизнь. А никто не получает удовольствия от уничтожения жизни. Конечно, есть психопаты (или теперь они социопаты?), которые удовольствие получают, но, кажется, они чрезвычайно редки, хотя, наверное, и не так редки, как говорящая кукла осла. А наши заблуждения на этот счет многое говорят о Голливуде и одержимости новостных СМИ подобными преступлениями. Я нисколько не радовался акту убийства. Более того, я был в ужасе, но знал, что это необходимо. До сих пор слышу треск костей. Я пытался сдаться, но Эл Раппапорт не пошел навстречу.
И вот мне приходится в одиночестве справляться с измученной психикой. Возможно, есть способ освободиться? Рискну ли я всем, если разоблачу истину о себе и фильме Инго? Можно разоблачить сегодня же Чарли Роузу. Уверен, если все правильно объяснить, люди обязательно поймут мое положение и оценят честность. Кто из нас не поступил бы точно так же? И можно было бы немедленно вернуться к работе над своей – истинной – версией фильма Инго. Я бы опять обратился к Барассини, если он существует в этом мире. В этот раз во время процесса вспоминания у меня были бы материальные удобства, а также утешение и любовь хорошей женщины-клоунессы. Останется ли она со мной, когда истина выплывет наружу? Это риск, но я уверен, что останется. Надо всегда говорить правду. Все уважают правдорубов. Если есть творец, как я теперь верю, он, она или тон вознаградит меня за старания.
Я падаю в открытый люк.
Пока вылезаю, надо мной паркуется машина. Я зову водителя, объясняю свое положение. Он слышит, но отказывается сдвинуться с места, даже ненадолго. Он уже полчаса колесит по району в поисках парковки, кричит он мне. Я понимаю его положение так же, как он наверняка понимает мое. О чем ему и говорю. Мы приходим к выводу, что понимаем положения друг друга. Все-таки ермолка у меня на голове в каком-то смысле помогает поставить себя на место другого. Это хорошо. Он говорит, что направляется в центр и пусть я иду туда же. Если он увидит другой люк, то откроет его для меня ломиком, который носит в полой ноге. Я киваю, хотя это совершенно бесполезно, поскольку он меня не видит, и отправляюсь в путь на юг, по колено в зловонной воде. В мире должно быть больше доброты. Время до встречи на студии Чарли Роуза еще есть, и мне все равно надо на юг. И серьезно, если свести к сути, из-за честности водителя насчет своего положения и из-за вроде бы его сочувствия к моему, о котором я тоже говорил честно, мне и не хочется поднимать вонь (ха-ха!), да и, по правде говоря, я все равно уже внизу, так почему бы не продолжать путь здесь? Да и, по правде говоря, если задуматься, раз я здесь, то ниже уже не упасть, потому что я уже внизу. Что есть, то есть.
Впрочем, тут чрезвычайно темно. На моем новом айфоне есть фонарик, но он дает странный, рассеянный, почти бесполезный свет. В моей молодости фонарики делали свое дело и освещали тьму, а не только мелкий шрифт в меню в сумрачных ресторанах. То было иное, неистовое время. Я направляю телефон в пол, чтобы с каким-никаким светом не влезть во что-нибудь фекальное, не говоря уже о крысах. Крыс в своих канализационных вылазках, как я их уже начал называть, я не люблю больше всего. Ходят слухи о крысах размером с немецких боксеров, только людей, а не собак. Это я узнал, как я считаю, из надежного источника – от работника канализации, который появлялся в документальном фильме Фредерика Вайсмана «Поток» (1978). Я брал у него интервью для монографии под названием «Трубный глас» о канализациях в киноэпизодах снов. Это было первое киноисследование на тему канализации со времен эссе Марка Кермода 1993 года о киносерии C.H.U.D., которое называлось, насколько я помню, «Я, Марк Кермод, мудак». Впрочем, полной уверенности у меня нет; у него несколько эссе с похожими названиями.
Я слышу позади плеск канализационной воды и с испугом оглядываюсь, теряя равновесие. Падаю лицом во что-то мягкое и смрадное. Протягиваю руку, теперь изгвазданную жирной массой, и свечу фонариком айфона. Эта штука болезненно-белого цвета и тянется почти до потолка и дальше в туннель, сколько видит глаз. Я опасливо касаюсь усов кончиком языка, чтобы распробовать это, и мгновенно испытываю приступ рвоты. Как я и подозревал, это один из жутких жирбергов: растительное масло, влажные салфетки, туалетная бумага, мусор и тампоны, слипшиеся в одну массивную массу. У меня нет выбора, кроме как последовать через этот кошмар на поиски люка, который для меня откроет полоногий друг, и далее добраться до площадки Чарли Роуза, разоблачить истину о фильме Инго и моих отношениях с ним. Так что я проползаю еще десять кварталов жира до следующего доступного люка.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































