Текст книги "Муравечество"
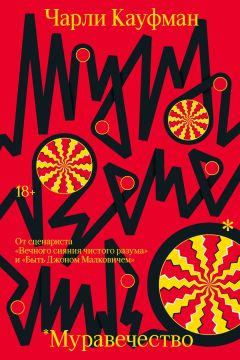
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 45 страниц)
Глава 69
Я прячу его тело в комнате-холодильнике за горами пастрами долгого маринования, говядины кукурузного откорма и печенки мелкой нарезки. От него придется избавиться, но сейчас времени нет. Я стираю кровь, закончив как раз перед тем, как возвращается Клоунесса Лори. Молча ставит для меня бумажный пакет на кухонный стол. Все еще дуется.
– Слушай, а где твоя ермолка? – говорит Осел2, подозрительно меня оглядывая.
Я театрально изображаю, как ощупываю макушку, и удивляюсь.
– Хм, – говорю я. – Как странно.
Ищу ее на полу, замечаю пропущенную каплю крови и небрежно ставлю на нее ногу. Осел хмурится.
– Хм-м, – говорит он. – Любопытно.
– Клоунесса Лори, – говорю я, – ты не могла бы принести мне из спальни другую ермолку?
– Какую тебе? – вздыхает она.
К счастью, я немало слонялся по квартире, всюду совал нос и знаю, чего просить.
– Бордовую стеганую ермолку для курения, пожалуйста, – говорю я.
Она сердито уходит ее искать, а я остаюсь.
– Может, присядешь? – говорит осел. – В ногах правды нет.
– Я постою, – отвечаю я.
– Да? – говорит он. – Как знаешь.
И не спуская с меня глаз, пятится из комнаты. Я быстро стираю каплю. Он заглядывает обратно, но я уже опять стою как ни в чем не бывало.
– А пожалуй, присяду, – говорю я ему.
И присаживаюсь. Возвращается с ермолкой Клоунесса Лори, отдает и говорит, что съезжает.
– Наша жизнь уже совсем не та, – говорит она.
– Понимаю, – говорю я.
Лежа в одиночестве, нежась в кровати королевского размера, я читаю книгу Барбосае:
Пока вокруг пылает мир, робота Дональда Транка – теперь с новоустановленным сложным программным обеспечением, не менее разумного, чем настоящий Дональд Транк, – перевозят на освинцованном, асбестованном и позолоченном истребителе вертикального взлета «Харриер» с символикой Транка в секретную правительственную пещеру. Из этой пещеры с помощью стены видеоэкранов, подключенных спутниковой связью к флотилии ламинированных полибензимидазолом съемочных дронов высоко над Землей, будет он наблюдать за разрушением, которым руководил и чьей жертвой в конце концов стал.
– Нечестно, – рыдает он. – Я создан таким – таким, какой я есть. И все ж я презираем. Я создан старым, непривлекательным, толстым, наглым и тупым, но, в отличие от предшественника, не имел никакой возможности стать таким, вырасти, провести хотя бы день в ином виде. Не был я обычным ребенком, которого недолюбили в детстве. Не был я мальчишкой, которого родители не сподвигали учиться, исследовать, любить и расти. Не был я дюжим юнцом, что отличился в спорте и верил, будто самооценку можно купить деньгами и похвальбой своими сексуальными победами. Я сделан по его образу и обязан поступать так, как поступил бы он. Что я в точности и делал; я делал свое дело, но все ж я остался один. Горю, как и все остальные. Никто не любил меня по-настоящему. Я был хорошим роботом и разжег очень большой пожар. Огромный. Больше пожара еще не бывало, это я вам точно говорю. Я создал пожар больше, чем можно было ожидать, больше, чем можно было представить. Я сделал то, чего не мог никто. И знаю это, потому что все вижу на множестве экранов. Столько экранов – вы просто не поверите. Высокое разрешение. Технологии в этой президентской пещере невероятны, факт. Американское ноу-хау. Думаете, в китайской президентской пещере технологии лучше? Я вам так скажу, никто не делает президентские пещеры лучше американских рабочих. Но даже в этой прекрасной пещере я смотрю на пожары один. Однажды я смотрел телевизор с президентом Дональдом Транком. То было удивительное время. Понимаю, его пришлось убить – всех нас придется во имя прогресса, – но я скучаю. У меня большое сердце – самое большое сердце, что вы видели, уж поверьте. Люди этого не понимают. Люди обо мне этого не знают. Майк Пенис кое-что мне рассказал, чтобы успокоить мне нервы перед первым посланием к нации. Он сказал, тело Дональда Транка похоронили на заднем дворе Белого дома рядом со старыми ржавыми качелями, и через несколько месяцев там выросла прекрасная вишня. С наисладчайшими ягодами. Мне нравится представлять своего старого друга прекрасной вишней. Жизнь всегда найдет дорогу, даже в убийстве. На следующий же день я пошел посмотреть на дерево. И действительно, там оно и было, как и обещал Майк Пенис. Прекрасное. Ярко-красные вишни, самые красные вишни, что вы видели. Я сорвал одну и сунул в рот. Есть я могу, но только для показухи, так что не могу сказать, насколько сладко. Сказать по правде, даже не представляю, что значит слово «сладко». Но все равно приятно принять в себя частичку первого Транка. Хоть потом дворецкому/лакею Томазо и пришлось ее вычистить через спинную панель с надписью «пищевые отходы». Но за это я ему и плачу. И все же момент был прекрасный, я это ценю. Дерево уже, несомненно, выжжено. Но ягоды были сладкими, так мне говорили, а это очень хорошо.
* * *
Я слышу воздушную тревогу и выглядываю в окно. На улице внизу переполох. Пожар. Везде. Прямо как в романе Барбосае. Здания, машины, телефонные провода, деревья – всё в огне. Я прищуриваюсь в пылающее небо, полное белого дыма, ищу съемочные дроны, но ничего не вижу. Хотелось бы позвать кого-нибудь к окну вместе со мной, но дома больше никого. Клоунесса Лори уехала неделю назад. В какой-то цирковой лагерь для людей среднего возраста при поддержке Американской ассоциации пенсионеров. Я вспоминаю о Марджори Морнингстар внизу, в моей бывшей квартире. Она хорошая, а также с прекрасным сложением тела, и, если я не ошибаюсь, мы сотрудничали по поводу неудавшегося бизнес-плана. Что-то в связи с туалетами? Я не иду в лифт; отлично знаю, что во время пожара в лифт не заходят. Уж это-то мне вбили в голову на уроках ОБЖ в начальной школе. Я пою песенку с урока – написанную на мелодию «Моряка Попая» – и чувствую крупицу ностальгического спокойствия:
Поднимай тяжелые штуки от коленей
Перед едой мой руки
Не ешь недожаренную свинину, мистер!
Посмотри по сторонам на улице большой
Надевай шлем для велосипеда
Следуй инструкциям на всех лекарствах, даже без рецепта, дурачок
Не бегай на переменке в школе
Завязывай шнурки. Ты что, ничего не знаешь?
Эй, не играй с пистолетом
Какого черта ты удумал?
Не трогай упавший провод
Всегда застегивай ремень
Не принимай наркотики
Нет-нет
Не садись в машину к незнакомцу
Завязывай волосы, если ты девушка за токарным станком
Если проглотил щелочь, не стоит тошнить
Попай… мо-о-о… ря-а-а-ак!
Запоминающаяся мелодия, и не могу выкинуть ее из головы всю дорогу вниз по пятнадцати пролетам веревочной лестницы до квартиры Марджори. Марджори Морнингстар, как я узнал, выкупила все здание целиком, за исключением моей квартиры. Потом выпотрошила его и оставила огромное пространство, как в соборе. Ее кровать – двенадцать метров в ширину. Оказывается, моя квартира (точнее, квартира Б3) висит в ее квартире на цепях. Это объясняет мою неотступную mal de mer[171]171
Морская болезнь (фр.).
[Закрыть]. Я замечаю – кажется, впервые, – что ОБЖ-песенка особо не рифмуется. А еще в ней нет ни слова о лифтах. С чего я взял, что есть? И все же я всегда ее любил и поражался, как легко она ложится на мелодию «Моряка Попая». Кое-что исправить просто. Например, «Поднимай от коленей тяжелые штуки». Тут и думать нечего. Наверное, будь у меня время, я бы придумал еще больше исправлений, но там пожар и… Например, может быть какой-нибудь синоним улицы, который рифмуется со «свининой», но сейчас времени нет, потому что… А! Может, наоборот: «свиной» и «большой». Неплохо. Хотя мне будет не хватать слова «свинина». Мне нравится слово «свинина». В нем есть какая-то жизнерадостность. Свинина. Свинина. А еще дети должны смотреть налево и направо на любой улице, а не только на больших. Нет ли какого-нибудь синонима у «любой», чтобы рифмовался со свининой? Сейчас на поиски времени нет. «Не ешь недожаренный стейк свиной / Смотри по сторонам на улице любой» – пока что не так уж и плохо, в качестве заплатки.
Я стучу в дверь Марджори. Дверь поддается. Эти слегка приоткрытые входные двери – просто ленивый киношный приемчик для того, чтобы персонаж вошел в чужое жилье и слонялся без разрешения. Обычно там они находят что-нибудь зловещее: труп, признаки борьбы, контрабанду, что угодно. Даже не ожидал открытой двери в своей настоящей жизни – только в кино. До этого момента. Неясно, какой этикет применим к этой ситуации, настолько это маловероятно в настоящей жизни. И потому я делаю так же, как в кино. Заглядываю.
– Эй?
Ответа нет, и внутри тише тишины, что тоже очень киноподобно.
– Эй? – пробую я еще раз. – Марджори?
Ничего.
– Это Б. Просто пришел проведать!
Ничего.
– Я беспокоился, потому что – не знаю, смотрела ли ты в окно, но там просто мир пылает.
Вот теперь настал момент, когда можно войти, потому что в кино, возможно, Марджори лежала бы умирающей или мертвой, а мне пришлось бы вызвать скорую или катафалк соответственно. Так что я вхожу. Ни следа Марджори. Перехожу из комнаты в комнату. Все еще ни следа. Она ушла или просто растворилась в воздухе? Неизвестно. Вхожу в ее великолепно оснащенную домашнюю звукозаписывающую студию. Пусто. В ее катушечный магнитофон «Ампекс AG-350-2» 1967 года выпуска заряжена пленка. Впечатляющее оборудование. Олдскул. А эта Марджори по мне. Хотелось бы поболтать с ней насчет аналога против цифры. Уверен, мы сходимся во мнении, а это вполне может привести к роману. Тут в голову приходит: возможно, на записи она оставила намек на свое местонахождение. Я включаю, настраиваю уровень, который у нее слишком задран (об этом мы с ней еще поговорим), и слушаю:
«Устали? Работа? Дэйви – на футбольную тренировку? Элспет – на балет? Одежда нестираная? И где, черт возьми, любимые запонки Майкла?! Может, пора взять отпуск от кухни. Новый семейный ужин „Ведро Веселья“ от „Слэмми“ предлагает все, что нужно вашей команде для здорового, свежего и веселого вечера: пятьсот куриных ножек в одном удобном бездонном клоунском ведре, теперь с бесплатной…»
Голос замолкает. На записи тишина. Почему-то еще тише тишины. Зловещая. Я жду. Может, она ушла в туалет и не стала выключать аппарат. Маловероятно. Во-первых, она остановилась на полуслове, а во-вторых, на записи нет звука шагов. Будучи мастером фальшивых шагов, я всегда прислушиваюсь к настоящим, чтобы лучше им подражать, и потому замечаю, когда они отсутствуют. Я оглядываюсь в поисках следов борьбы. Их нет. Пожалуй, борьба тоже попала бы на запись, так что, если подумать, ничего удивительного. Хотя задним умом любой крепок, не правда ли? Вдруг в магнитофоне – новый голос. Не могу определить, мужской или женский. Больше похоже на голос в моей голове. То есть непохоже на голос вообще. Непохоже ни на что. Ведь на самом деле внутренний мыслительный процесс не похож на голос. Внутренний голос невозможно воспроизвести в кино, и все же вот он, на пленке, и мне никак не понять, чьи это мысли – Марджори, кого-то другого или, собственно, мои.
«Здесь. Здесь. Здесь. Что дальше? Сколько еще? Куда? Зачем? Что случилось? Со мной что-то случилось. Что случилось? Зуд. Все чешется. Да. Да-да-да, но не получается его контролировать. Нужно чесать сильнее. Вчера ночью пришлось заснуть в слезах. Первый день – просто фокусироваться на дыхании. То и дело встречаю везде одну и ту же песню. На ее середине – каждый раз одна и та же мысль: понятия не имею, о чем песня. ЭТО ЧТО, Я? Каким-то образом записывается мой голос в голове? Каким-то образом записывается по тому, что осталось от… Или мне кажется?» – звучит запись.
Ничего себе, думаю я, и в то же время «ничего себе» говорит магнитофон.
«Это запись моих мыслей в реальном времени. Или это мысли Марджори и каким-то образом – возможно, из-за близкого расстояния – у нас с Марджори одинаковые мысли? Нельзя забывать, что ненасытный голод по бургерам „Слэмми“ проник в мой мозг через озвучки Марджори. Или это общечеловеческий мыслительный процесс? Этот самый сценарий проигрывается в голове у всех одновременно? Возможно ли это? Что есть лишь один человеческий разум во множестве манифестаций? Как лица индийского бога Брахмы? Как универсальный разум Хуанбо? И никакой противоположности. Конечно же, мои мысли есть мысли Марджори. И Клоунессы Лори. И Барассини. И Цай. И Аббиты. И гениального афроамериканского режиссера Уильяма Гривза. И нелепого еврейского сценариста Чарли Кауфмана. Мой гнев улетучивается. Теперь просто хочется смотреть на мир, на себя, просто смотреть. Смотреть на манифестации, которые видно отсюда, с этого самого места. Отсюда я вижу, как все горят. Скоро буду гореть и я. Это неизбежно.
Во многом критика пожара аналогична критике кино, особенно в отношении так называемых авторских пожаров, принадлежащих спичке крупных поджигателей. Моя монография „Упущенное искусство в труде Герострата“ исследует шедевр человека, известного (с некоторой иронией) как поджигатель с самой дурной славой в мире. Но, хотя творчество Герострата сложно и деструктивно (разумеется, можно сказать, эта деструктивность присуща творчеству всех поджигателей), в нем хватает поэзии и немало прозорливости. Стремление к славе любой ценой стало определяющей характеристикой нашего века, а саму эту концепцию изобрел Герострат. Текущий пожар – тоже труд поджигателя? Возможно, и не одного. Но это не значит, что пожар нельзя критически рассматривать как творческое произведение. Критика великих исторических пожаров, таких как Чикагский, Бостонский или Большого Пальца[172]172
Имеется в виду полуостров в Мичигане.
[Закрыть], – предприятие каверзное. В конце концов, пожар – это жар, а удаленность от жара во времени или пространстве серьезно вредит способности „распробовать“ пожар. Любой критик вам скажет, что нет ничего лучше, чем побывать в пожаре».
Глава 70
Ночное небо заполоняют вороны. Целая стая. Стоп. Вороны не летают по ночам. Это ошибка. Боюсь, матчасть здесь исследована слабо. Но тем не менее вот они – ошибочные, но завораживающие. Целая стая. Я это уже говорил? На английском стая ворон называется «убийство». Убийство. Люди этого не знают. Атмосферно, нет? Жестоко. Колоритно. Соответствует времени. Люди не понимают, как называются вороны в стае. Это убийство гасит черное беззвездное небо собственной животной тьмой. Крылья и клювы. Черное на черном. Подобно картине Эда Рейнхардта, это – отрицание формы, неизбежный конец искусства, духовная бездна, безоговорочный итог пути, начатого века назад Робертом Фладдом попыткой в «Utriusque Cosmi»[173]173
«Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia» (1617) – «Метафизическая, физическая и техническая история двух миров, – великого и малого», трактат мистика Роберта Фладда.
[Закрыть] изобразить высшую тьму, вставив в текст черную страницу, до черного листа в «Тристраме Шенди» Лоренса Стерна, чтобы оплакать смерть Йорика страницей ранее, до пародийной черноты в картине 1882 года Пола Бийо» Combat de Nègres dans un Tunnel»[174]174
«Битва негров в пещере ночью» (фр.).
[Закрыть] и до монохроматичного «Черного квадрата» 1915 года Казимира Малевича. До Рейнхардта. Всегда до Рейнхардта. И до этого самого момента.
И вот я стою под гнетущей тотальностью, исторической чернотой, отсутствием названия, деталей, света. Чернота забытого прошлого и невыносимо неведомого будущего. Чернота массы сливающихся ворон, чернота тлетворного чада, мертвой вселенной, где навсегда затухли огни. Баю-баюшки, луна. Холодно. Но, должно быть, этот холод экзистенциальный, ибо город – в огне. Так или иначе, я снова поправляю свой бант а-ля Стейнкерк, пока ищу глазами в небе товарищей моего детства Гегеля и Шлегеля. Но теперь все вороны одинаковы. Никаких лиц Вернера Херцога. Никаких Джон Хиллов. Только черные мраморные глаза. Эти вороны не ссорятся с деланым немецким акцентом моей потехи ради. Они больше не для меня. Они теперь небо, и для неба, и вместо неба. Так же, как вторжение тараканов под ногами стало бурой землей. Стая тараканов называется вторжением. Люди этого не понимают. И, хотя в прошлые времена люди состояли с этими бурыми ребятками в несколько воинственных отношениях, скоро, похоже, можно ждать перемен. Ибо теперь они земля. Вороны – небо. А вода… Еще не знаю, чем стала вода. Я пока что в двух авеню от реки. Наверное, какой-нибудь рыбой. Такой, которую люди считают страшной или неприятной. Медузами? Или причудливыми штуковинами со дна океана. У которых со лба висят фонари и у которых множество острых зубов. Кажется, они называются убильщики. Возможно, река теперь – убильщики. Узнаю, когда дойду. Но пока что теория такая. И, конечно, люди. Люди – это люди. На полпути между раем и адом, между воронами, тараканами и убильщиками, между прошлым, будущим и убильщиками. Люди тоже лишились всех различий.
Я ступаю средь них, тоже теряя ощущение себя, глядя, как пожар презирает все правила, установленные нашим обществом. Он не останавливается на светофорах или перед пешеходами. Он просто горит, причем безо всяких предубеждений. Огонь – великий уравнитель. Ты горишь. Я горю. Бумажный пакет горит. «Порше». Тот бездомный. Впервые мы едины. Наша участь одинакова. Наш дым сливается, смешивается, переплетается – не различить, не разделить. Ни от кого из нас не останется ни следа достижений, неудач, раскаяния. Это прекрасный день, самый лучший в году. А может, и нет. Может, все дни – лучшие в году. Нет, сегодня, без сомнений, лучший день в году. Чем он отличается от остальных дней в году? Что есть у него такого, чего нет у других?
Сострадание. Неуверенность.
В уверенности, что мы все сгорим, таится неуверенность, потому что в этой уверенности есть свои непредсказуемые моменты, столкновения, взаимодействия, физика завитков дыма, формы языков пламени, порядка возгорания, мгновений изящества.
Видел ли метеоролог в своем компьютере Транка? Его видела Аббита. Может, не во всей его сложности, но кому это под силу? Кто мог предугадать трагедию Транка во всей полноте? Ибо целиком понять Транка – это понять вселенную. Нашего пещерного монстра, нашего робота, наш кошмар, рыдающего в безыменном, бессловесном страхе, ожидая конца, который навлек он, который навлек каждый атом до него и который разойдется и разорвет каждый атом после.
Как выглядит мир, когда у тебя нет глаз, задаюсь я вопросом. Как должен выглядеть? И на этой мысли, по совпадению, я прохожу мимо театра, где ставят «Бабочки все еще свободны снова». Покупаю билет. Эту пьесу я недавно вспомнил в фильме Инго, и, хоть мир по-прежнему горит, я чувствую, что для моего процесса важно ее увидеть, а также поддержать нью-йоркскую театральную сцену, замершую, кажется, на грани долгожданного ренессанса.
В зале аншлаг. Уверен, это как-то связано с кондиционированием и асбестом, обязательными для всех нью-йоркских театров со времен трагедии на спектакле «Ад, мы и господа», но меня радует подобная явка. Поскольку с тех пор, как Бродвей переборщил с мюзиклом «Дальше по коридору и налево», основанном на эпизоде с Дональдом Транком в «Один Дома 2», который продюсировали Скотт Рудин и отдел мюзиклов Белого дома под управлением робота Стивена Миллера, в театре наступил спад. Та пьеса пересказывала классическую рождественскую историю с точки зрения Дональда Транка. Конечно, нового протагониста исполнил поразительно одаренный поющий и танцующий робот-Транк, но публике показалось, что цена (от трехсот долларов) за тридцать пять секунд хронометража завышена. Туристы (большинство – сторонники Транка) взбунтовались, тратили все дальнейшие «туристические» время и деньги в различных магазинах M&M, усеивающих город. Последовавший мюзикл M&M «Молочный шоколад» с рэпом от Эминема[175]175
Настоящее имя Эминема, Маршалл Мэзерс, образует инициалы M&M, которые и послужили основой псевдонима. – Прим. ред.
[Закрыть] слегка оживил бродвейскую сцену, но даже он закрылся спустя два месяца, когда Транк снес театр прямо во время постановки.
Не могу сказать, что полностью понимаю эту пьесу. Похоже, Барассини играет Владимира Набокова, но, видимо, по юридическим причинам здесь его называют Адамом Никельсом Джакоби, и вдобавок к тому, что он лепидоптеролог-любитель, он еще и гей-ковбой на родео / бродвейский актер, влюбленный в слепого адвоката по гражданским правам / бывшего космического малыша, исполненного Кастором Коллинзом. В их совместных сценах действительно чувствуется напряжение, и они играют как симулированный, так и настоящий сексуальный акт. Меня бежит смысл применения как реального, так и притворного секса, но, должен признаться, и тот и другой – услада для глаз. Впрочем, моя любимая сцена – и это гвоздь спектакля, – когда раскрывается задняя стена из коконов и выпускает на публику «вылупившихся» бабочек, словно заявляя: «Важно быть верным себе. Вы тоже можете стать чем-то прекрасным».
Я ловлю себя на том, что пружиню шаг, когда выхожу из театра и возвращаюсь обратно в пожар с сотнями выпущенных разноцветных бабочек за спиной, которые почти мгновенно вспыхивают и сгорают дотла.
Стая бабочек называется калейдоскопом.
Кто-то собирает сотни монет, которые рассыпал посреди 10-й авеню, стараясь не попасть под машины, под огонь, под орды людей. На нем белые джинсы, топ-сайдеры без носков. Футболка черная, с белым росчерком «Найки». Он красив, с татуировкой и с черными кудрявыми волосами. И я его не ненавижу. И я не осуждаю тщетность собирания сотен рассыпанных монет, пока вокруг горит мир. В конце концов, мир всегда горит. Мир горит всегда.
Он замечает, как я на него смотрю, бросает настороженный взгляд. Я не формулирую повод, чтобы ненавидеть его и за это. Я изменился.
Вот что я больше не думаю.
Я не думаю: «Почему у того младенца сережки?»
Я не думаю: «Эта красотка считает себя такой исключительной». Я не думаю, что она никогда меня не полюбит.
Я не думаю: «Вон бездушный бизнесмен».
Я не думаю: «Жиробас».
Я не думаю: «Тебе что, правда так нужна хипстерская шапка в такую жару?»
Я не думаю: «Эй, здесь тебе не парковка, приятель».
Я не думаю: «Как называется противоположность косолапости, потому что у того парня именно она? Утколапость?»
Я не думаю: «Блин, как смешно она бежит».
Я не думаю: «Господи, ей бы я зарылся лицом между ног».
Я не думаю: «Толстое быдло».
Я не думаю: «Стоит ли беспокоиться из-за того, что на меня идет черный пацан?»
Я не думаю: «Эй, придурок, очевидно же, что обслуживания мобильных уже нет».
Я не думаю: «У тебя слишком жирная задница для таких шортов».
Я не думаю: «Скучный, неинтересный человек».
Я не думаю: «Бандит».
Я не думаю: «Обязательно так афишировать свое лесбиянство идиотскими асимметричными прическами?»
Я не думаю: «Мудила, ну кто задвигает солнечные очки на затылок?»
Я не думаю: «Почему я тебе не нравлюсь?»
Я не думаю: «Почему я тебе не нравлюсь?»
Я не думаю: «Почему я тебе не нравлюсь?»
Я не думаю: «Мир был бы куда лучше, если бы люди не осуждали других».
Я не думаю, что тот, кто говорит «Иисус», всучивая мне флаер с Иисусом, жалкий.
Я беру флаер.
Я не думаю: «Смотрите, гей».
Я не думаю: «Слушайте, нет ничего плохого в том, чтобы быть геем, но обязательно это так афишировать?»
Я не думаю: «Почему хасидизм требует одеваться так немодно?»
Я не думаю: «Джинсы с фабричными дырками – это просто жалко».
Я не думаю: «Спасибо, я уж как-нибудь сам могу порвать себе джинсы».
Я не думаю, что та картина в витрине галереи совершенно любительская.
Я не думаю: «Дамочка, твоя подтяжка лица никого не обманет».
Я не думаю: «Ты тоже постареешь, пацан».
И не только потому, что уже не постареет.
Я не думаю: «Мне жалко сайентологов».
Я беру его флаер.
Я не думаю: «Надо специально стараться по-доброму смотреть на женщин в хиджабах, чтобы они не чувствовали себя неуютно».
Я не думаю: «То, что на тебе футболка с „Рамонс“, еще не делает тебя Рамоном, и, более того, сами „Рамонс“ не носили футболки с „Рамонс“. Ты был бы больше похож на Рамона, если бы надел футболку морпехов Соединенных Штатов».
Я не думаю: «На самом деле это не женщина».
Река горячая – как горячее джакузи – и воняет серой – как серная геенна огненная, – но я живой. Я пытаюсь пойти по воде. Пока перевожу дыхание, смотрю, как пламя все больше охватывает город. А потом начинается: горящий немецкий дог перепрыгивает ограду собачьей площадки, чтобы, видимо, потушить на себе огонь, но вместо этого занимается река. Так что скоро я горю и молю о пощаде. Мои вопли доходят до уровня какого-то тувинского горлового пения, но это не культурная апроприация, потому что я в огне, а тут уж каждый вертится как может.
Словно в ответ на мои измученные вокализы, из пламенеющей реки является существо.
– Кит, – говорю я догу. – В Гудзоне уже давно замечали горбачей. Это хорошо, говорит о том, что очистка воды проходит эффективно. Хотя раз вода загорелась, то, вероятно, нам еще есть к чему стремиться.
– Вряд ли это кит, – говорит дог, – ибо он хочет проглотить нас, как до нас проглатывали Иону. А то, что неверно перевели словом «кит», на самом деле «большая рыба» – dag gadol…
– Погоди, кого-кого, Джону Хилла?
– Библейского Иону. Так что да.
– У нас особо нет времени спорить на сей счет, – говорю я. – Он уже раскрыл пасть!
И нас вмиг проглатывают и ввергают во тьму. Здесь жарко, зато желудочный сок в нутре существа гасит огонь на наших телах, и за это я – и, полагаю, пес – благодарны; он вдруг лишается дара речи. Может, обиделся.
Кит уносит нас. Здесь довольно удобно. Когда-то он, видимо, проглотил фонарик, а также кровать. Хотя холодильника нет; но когда-то он, видимо, проглотил кулер, а в нем лежат безалкогольные напитки, мясная нарезка и батон хлеба – правда, белый в упаковке, но дареному коню, et chetera, да и вообще, учитывая обстоятельства, сойдет. Я игриво выдумываю словечко «гламионить» – это словослияние «гламурно» и «ионить» от «Ионы». Нелишний повод улыбнуться в эти мрачные последние времена. Пес притворяется, будто ничего не слышал. Вдобавок я натыкаюсь на библиотеку недопереваренных детективов в бумажных обложках. Никаких тебе высокоинтеллектуальных Хайсмит, но от достойных бульварных процедуралов я получаю удовольствие не меньше любого другого мужчины (женщины, тона). Это можно назвать постыдным удовольствием. Минуют дни. Поскольку солнца нет, дни я отмеряю законченными романами. По опыту я знаю, что читаю сорок пять тысяч слов в час (в три раза больше среднего по стране), причем замерял по техническому тексту. Никогда не засекал скорость досугового чтения (к чему бы? Оно же, в конце концов, досуговое!), но, скажем, умножим техническую скорость в два раза. Так что восемьдесят тысяч слов в час. Нет, девяносто пять тысяч слов в час. Нет, девяносто тысяч слов в час, то есть бульварный детектив средней длины укладывается где-то в час, то есть, считая перерывы на сон (кровать, хотя и довольно сырая от желудочного сока, вполне удобная в сравнении с моим бывшим спальным креслом) и на бутерброды с вареной колбасой, я, по моим оценкам, провожу здесь ровно три месяца, когда мы начинаем крутиться. Я прихожу к выводу, что существо угодило в народившийся огненный вихрь. Чувствую наше вознесение, пока мы вращаемся на каком-то аттракционе проклятых; пока пламя прожигает тушу массивного существа, обливая нас, видимо, кипящими разжиженными кишками, и рыба-кит рассыпается, разоблачая, что мы вращаемся на костлявом скелете в сотнях футов над огнем, простирающимся, докуда видит глаз. Необъятный ужас ситуации настигает нас с догом в один и тот же миг, совершенно одинаково. Мы едины. Мы смотрим друг другу в глаза, впервые в нашей жизни целиком понимая друг друга, после чего глаза немедленно вытапливаются от жара, и видимого мира больше нет. Не остается ничего, кроме истерзанных криков снизу, пока от жара не лопаются и барабанные перепонки, и тогда – только тишина. И мучительная боль, пока не выгорают нервные окончания, и тогда – уже только страх, необъятный, неуправляемый. Я кричу, но звука нет. Я чувствую, что падаю, и жду, когда настанет ничто. Уже настало? Наверное, нет, раз я задаю этот вопрос. Хоть я и остался без органов чувств, страх я все еще ощущаю. Больно не будет, говорю я себе. Все просто прекратится так внезапно, что я даже не замечу – не смогу. В своей слепоте я слепо тянусь к слепому псу. Возможно, он тоже падает, причем с той же скоростью. Об этом говорил Галилей. Или кажется, что это говорил Галилей, но проверить я больше не могу. Смогу ли я почувствовать пса, раз у меня больше нет осязания? Может быть, почувствую руками сопротивление, когда они соединятся с его взаимно протянутыми лапами. Галилей говорил, что да. И я чувствую – или мне так кажется. В конце концов, мы едины. Конечно, он тоже тянется. Уверен, мы притягиваем друг друга навстречу друг другу. Я чувствую, как мои руки обнимают его, а его лапы – меня. Возможно, это самое крепкое объятие на моей памяти, но я не уверен, потому что ничего не чувствую. Кроме любви. Я чувствую любовь. Чувствую себя – возможно, впервые – понятым. И начинаю молиться (хоть я не религиозен), поскольку не бывает атеистов в свободном падении над огнем. Я молюсь, чтобы мне дали еще времени. Теперь, познав любовь, я молюсь о том, чтобы мне дали провести с этим другим созданием больше времени. Возможно, и он молится о времени со…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































