Текст книги "Муравечество"
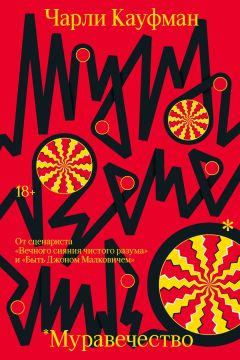
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 45 страниц)
Глава 48
Барассини меня переключает.
В тюремной камере Гитлера в Ландсберге с хлопком волшебным образом появляются Мутт и Мале, два младенца. Скоро они прославятся по всему миру как die magischen kinder von Hitler[126]126
Волшебные дети Гитлера (нем.).
[Закрыть] и источник утешения Адольфа в заключении (более того, он посвящает «Майн Кампф» «моим маленьким фрикаделькам»). На то время закон в Германии дозволяет заключенным «оставлять себе все, что падает на пол их камеры и находится там по меньшей мере пять секунд», – так называемое fünf-sekunden regel. Хотя Гитлер обожает мальчишек, с ними хватает забот, так что после выхода из тюрьмы их воспитание перекладывается на домохозяйку Гитлера, Анни Винтер.
– Мои маленькие смешные jugend, – говорит она, – вечно паясничаете. Может, отдать вас в ученики великому немецкому комику Людвигу Шмитцу. Что, хотите?
– Кто такой Людвиг Шмитц? – спрашивает Мутт.
– Вы же помните персонаж онкеля Эйтерна[127]127
«Дядя Нарыв» – отсылка к персонажу дяди Фестера (букв. «нарыв») из «Семейки Адамсов».
[Закрыть] из Die Addams Familie в «Европахаус»?
– Ой, он такой смешной! – говорит Мале.
– Glatze![128]128
Лысый!
[Закрыть] – добавляет Мутт.
Шмитц соглашается взять мальчуганов под крыло. Придумывает для них дуэт в стиле его собственных пропагандистских нацистских комедий от Tran und Helle[129]129
Тран и Хелле, дуэт Людвига Шмитца и Йозефа Хюссельса, работавший с 1939 по 1940 год. – Прим. ред.
[Закрыть], и у мальчишек проявляется талант; они как будто рождены для выступлений. Сам фюрер, давно надеявшийся самолично совершить вылазку на территорию нацистской комедии, прозвал их дуэт Blut und Boden[130]130
Кровь и Почва (нем.).
[Закрыть].
– Смех – лучшее лекарство, – часто говаривал он.
Но Blut und Boden показали плохие результаты на своей целевой аудитории – гитлеровской молодежи от двенадцати до восемнадцати лет, чью реакцию на мальчишек один подросток резюмировал так: «В том, что ты юный нацист, нет ничего смешного, и уж точно нет ничего смешного, если ты не юный нацист. Ergo[131]131
Следовательно (лат.).
[Закрыть], в нашем тысячелетнем рейхе нет места юмору. Возможно, через тысячу лет – да, мы сможем слегка расслабиться, попеть песенки, иногда посмеяться от души. По крайней мере, я надеюсь. А пока что нам, нацистам, не до шуток. Так что, хоть мы и ценим благие намерения фюрера, хотелось бы ответить: нет уж, спасибо, майн фюрер. Просто дайте нам шлемы со светловолосыми париками и шейные платки и пошлите сражаться за фатерлянд».
Возможно, дым и есть фильм, размышляю я. Он лезет в глаза и туманит взор, прямо как фильм, но теперь в другой форме – как раздражитель, заволакивающий мир. Может, это и есть кино. Может, дым все это время и был фильмом Инго.
Осматривая себя на предмет клещей, нахожу в спине нож. Совсем неглубоко, как бы болтается, будто меня ударил очень слабый или рассеянный человек. Даже не чувствую. Выдергиваю, чтобы изучить. Стилет. Хм-м. Кто же… ну конечно, Генриетта. Кому еще покажется смешным этот обувной каламбур.
В полицейском участке мою спину осматривает дежурный сержант.
– Да ведь практически незаметно, – говорит он.
– И все-таки. Наверняка считается за преступление.
– Вообще-то нет. Колотая рана меньше трех миллиметров глубиной совершенно законна и даже поощряется. Мы не можем вам помочь, если не совершено преступление. Четырнадцать миллиметров или глубже.
– После чего я умру.
– Необязательно. Но возможно.
– Мало мне от этого пользы.
– Обвиняемый невиновен, пока не доказано обратное.
– Разве здесь это подходит?
– Сэр, за вами в очереди ждет человек. Проходите, пожалуйста.
Я оборачиваюсь и вижу Генриетту с натянутой струной от пианино в руках.
– Это она!
– Да, мэм? Чем могу помочь? – спрашивает коп.
Застигнутая врасплох, Генриетта мямлит в ответ:
– Ой… Мне нужна новая струна «ре» для клавикорда.
– Это полицейский участок, мэм. Музыкальный магазин дальше по улице.
– А! Прошу прощения, – отвечает Генриетта.
Бросает на меня взгляд, потом разворачивается к выходу.
– Это она! Вы что, не видите?
– Я вижу любительницу музыки, – говорит дежурный сержант.
– Я требую встречи с комиссаром Раппапортом.
– Ага, а я Мэрилин Монро, – говорит коп.
– В данной ситуации это звучит бессмысленно.
– Это такое выражение, сэр, – говорит он.
Я ухожу во гневе. Генриетта и в самом деле в салоне «Стейнвея» по соседству, консультируется с продавцом. Возможно, я в ней ошибался. Она бросает на меня взгляд и улыбается.
– Рассказывай.
Мадд и Моллой – на маленькой сцене где-то на Среднем Западе, в тени Олеары Деборд – массивного горного хребта посреди страны, такого большого, что его видно с обоих побережий. Олеару Деборд не только легко заметить из космоса – в космосе на ней можно постоять.
– Как ни странно, – начинает Мадд, – в наши дни бейсболистам дают весьма необычные имена.
– Забавные?
– Клички. Вот в команде Сент-Луиса: Кто на первой базе, Что на второй, Не знаю на третьей[132]132
«Кто на первой базе?» – классический скетч Эбботта и Костелло. – Прим. ред.
[Закрыть].
– Необычные.
– Что?
– Эти имена бейсболистов.
– Знаешь, кто на первой?
– Я знаю. Ты же только что сказал. Кто.
– Э-э, точно.
– Необычное имя. Китайское?
– Не знаю.
– Это же третий бейсмен.
– И ты не путаешься?
– Конечно. Надо признать, никогда не слышал имени Не Знаю. Похоже на старые британские имена. Например, Междутем.
– Это такое имя?
– Да. Ну, раньше было. Между прочим, сейчас Междутем уже не осталось.
– Интересно.
– Согласен.
– Эм-м, но, в общем, Что – на второй.
– Это ты уже говорил.
– И тебя это не сбивает с толку?
– Ну, знаешь, это неправдоподобно. Неправдоподобное имя. Я бы даже подумал, что вымышленное – что, полагаю, можно сказать о большинстве прозвищ, – но я все еще не потерял из виду, что это имя второго бейсмена.
– Понятно.
– Я еще слышал, допустим, имя Шо. Почти как Что, но пишется, понятно, Ш-О.
– Ну да. В общем, эм-м, а интересно, кто получает деньги, когда каждый месяц платят первому бейсмену?
– Полагаю, получает Кто.
– Да. Правильно.
– Или его жена миссис Кто, если это она ведет семейный бюджет.
– Угу.
– А что там левый филдер?
– Нет, это второй бейсмен.
– Конечно. Понимаю. Уточню: можешь назвать имя левого филдера?
– Зачем?
– Хм-м. По-моему, похоже на корейское имя. Пишется, конечно же, За Чем.
Позже в гримерке.
– Реприза не работает, если ты понимаешь, что это имена, – говорит Мадд.
– По-моему, работает.
– Мы не пользуемся путаницей ради юмора.
– Это нереалистичные имена. Люди не погрузятся в сюжет.
– Этот номер проверен временем. Публика его обожает.
– Лично мне кажется, что смешнее, если я полностью понимаю состав команды.
– Но в чем тогда шутка?
– Юмор – в беседе двух равных, – отвечает Моллой.
– Это не смешно. По-моему, публике хочется видеть, как ты бесишься.
– Подозреваю, что у нас номер получается намного тоньше.
– Наверное, для меня уж слишком тонко, потому что я не въезжаю, – говорит Мадд.
– Это же смешно, когда люди понимают друг друга.
– Чем?
– На какой позиции он играет?
– Нет, где нелепость?
– Правда? Не помню, чтобы в репризе был Где. Должно быть, из-за своей контузии. Прошу прощения.
– Там нет и не было Где!
– А, значит, там Нет? Как много я забыл. Я вызубрю; в следующий раз выступлю идеально. Обещаю.
– Один из нас должен не понимать, что имеет в виду второй.
– Идеально. На данный момент это, очевидно, ты.
– Но это же не смешно, если мы просто болтаем.
– Если я не понимаю, о чем ты говоришь, – это ерунда. Главное здесь – странные имена. Что – смешно.
– Раньше было смешно.
– Нет, ты недопонял. Имя Что смешное само по себе. Задумайся. Что за смешное имя Что. Одновременно и имя, и вопрос. Как и Кто.
– Да, это основа репризы.
– Все остальное – лишь приукрашивание идеала.
– Но…
– И еще я думаю, возможно, насмехаться над людьми с ограничениями в развитии – этически сомнительно.
– Я тебя понимаю, но…
– Как человек, пострадавший от серьезной травмы головы, я открыл в себе новое сочувствие к людям, пострадавшим от серьезной травмы головы…
– Но ты ведь, похоже, стал только умнее.
– Мне повезло, верно? Кто-то более интеллектуален после повреждения мозга, кто-то менее.
– А так бывает? Чтобы люди умнели от повреждения мозга?
– Так стоит ли более везучим возвеличивать себя над менее везучими? И даже одно предположение, будто я везуч, раз приобрел более высокий интеллект, попахивает элитизмом, когда сам от себя об этом слышу. Нам следует равно относиться ко всем уровням способностей.
– Ну тогда я не знаю, как нам придумывать шутки.
– Может, шутка в том, что шуток нет.
– И что это значит?
– Друзья на сцене. Вот и все. Вот наш посыл.
– Наш посыл?
– Разве теперь мы не похожи друг на друга?
– Да. Как бы. Но не совсем.
– Эта общность смешнее, чем любые наши недопонимания на сцене.
– Но чем? В смысле ты это твердишь и твердишь, но шутки я так и не вижу.
– Глядя на тебя теперь, я словно смотрюсь в зеркало.
– Ладно, тогда, может, поставить вариацию репризы с зеркалом от Граучо и Харпо.
– Или еще лучше – воспользуемся отзеркаливанием, чтобы представить во всех красках нашу общность: кто в этом номере ведет? Публике невозможно понять. Возможно, и для нас невозможно. Вот упражнение для того, чтобы по-настоящему работать вместе, как один.
– А что тут смешного?
– Ты знаком с учениями Вайолы Сполин?
– Нет, – говорит Мадд.
– Она театроведка, разработавшая серию игр для обучения актеров искусству театральной импровизации. Некоторые из импровизаций в самом деле выходят юмористическими, однако юмор органически возникает из преданности общей цели и развитию персонажа. Уверен, зеркальная игра стала бы чудесным дополнением к нашему представлению. Наше физическое сходство послужит лишь к усилению эффекта.
– Ладно, – вздыхает Мадд.
Мадд и Моллой начинают упражнение. Сперва кажется, что Мадд играет или с неохотой, или как минимум неумело. Но по мере того как продолжает Моллой – терпеливо, медленно, не отводя мягкого взгляда от Мадда, – происходит преображение. Их движения совпадают. Эпизод длится как будто часами. Гипнотический, трансцендентный. Затем, все еще двигаясь на манер тайчи, они начинают говорить в унисон, сперва медленно, но затем разгоняясь до разговорной скорости.
– Добрый вечер, дамы и господа, мы Мадд и Моллой. Очень рады вас сегодня видеть. Как некоторые из вас уже поняли, сейчас мы участвуем в так называемой зеркальной игре. Ее изобрела в 1946 году театроведка Вайола Сполин. Надеемся, вам она покажется столь же смешной, как и нам. Разве не смешно думать, что все мы одинаковы? При всех своих различиях мы все же разделяем общую человечность. И наша игра отражает эту забавную истину.
На этом Мадд и Моллой одновременно отворачиваются друг от друга и оба смотрят на четвертую стену, камеру, воображаемую публику (но и, конечно, настоящую публику в кинотеатре). Они продолжают, хотя уже не глядя друг на друга, идентичные движения тайчи. Это необычно и потому пугает. Они похожи на автоматонов, на одержимых. Похожи на марионеток. Они произносят:
– Кто управляет нашими движениями, нашими мыслями, нашими словами? Быть может, мы муравьи в колонии, винтики в механизме, которым суждено во веки веков исполнять волю неведомого хозяина?
Они кланяются.
Потом Мадд выпивает, чтобы успокоить нервы. Моллой гуляет по тропинке на Олеаре Деборд – великолепном горном хребте точно посередке страны. Олеара прекрасна и вечна. Некоторые из нас ее любят и почитают. Другие ненавидят, но почти все каждый день следят, что она выкинет дальше: с кем переспит, в какой фильм попадет (и получит ли за него очередной «Оскар»?), что за скандальную фразу обронит и на каком благотворительном мероприятии, протрезвела она наконец или нет, работает ли вообще или нет. Прямо сейчас СМИ упоминают ее в паре с Лэнсом Фармером, торнадо из Канзаса. Может, его слава – только буря в стакане, как часто и бывает с торнадо, но он роскошен и смертоносен, настоящий плохой парень, за что мы его и любим, и ненавидим. По слухам, он убил уже свыше тысячи человек, только чтобы посмотреть, как они умирают, а его исполнение роли Бобби Резни в фильме «Пресловутые повелители преступности» критик в «Нью-Йорк Таймс» превозносил как «завораживающий тур-де-форс». Поговаривают, уже так и слышно свадебные колокола, и многие – в основном женщины и мужчины-геи – на это надеются. Кто-то – чтобы опосредованно пережить свои фантазии о ком-нибудь из двоицы, кто-то – потому что их так весело прилюдно поносить, подхватывать друг за другом, какие они ужасные, какие безвкусные, как сложно поверить, что они вообще знаменитости.
Высоко Моллой не поднимается. Он не великий спортсмен, да и, сказать по правде, путь на вершину кряжа наверняка займет недели, если не месяцы. Гуляя по ее тропинкам, он влюбляется в Олеару Деборд, как и все мужчины, но она остается безмолвной. Местные поговаривают, что, возможно, сейчас ее сердце все еще принадлежит Лэнсу или что она сосредоточилась на следующей роли и не хочет отвлекаться.
Глава 49
Костелло останавливает машину на холме Лос-Фелис и присоединяется к Эбботту, который сидит на камне и курит. Висит тишина. Наконец Эбботт открывает рот.
– Зачем ты хотел со мной тут встретиться, Лу?
– Руни и Дудл.
– Бывшие сироты, ставшие комедийным дуэтом?
– Они самые.
– Слыхал, они смешные дебютанты.
– В этом и беда, Бад.
– В чем беда?
– На кону наша карьера.
– На каком кону?
– Я говорю, что если они преуспеют, то мы проиграем.
– Не понимаю.
– Ладно, скажем, в прокате идут два фильма…
– Их намного больше.
– Я пытаюсь упростить ради примера.
– Ладно. Я готов.
– Ладно, в прокате идут два фильма, и один – наш…
– Какой?
– Неважно.
– Я так лучше представлю. У меня образное мышление.
– «Пардон за саронг».
– Понял.
– Итак, в то же время Руни и Дудл выпускают свой фильм.
– Какой?
– У них пока нет фильмов, так что не знаю.
– Можешь придумать? Просто чтобы я почувствовал, будто всё по-настоящему?
– Эм-м… «Как делишки, братишка?»
– О, неплохо звучит, Лу. Мне нравится.
– И вот в каком-нибудь городе фильмы идут в одно время. Скажем, в этом городе живет десять человек…
– Что-то очень маленький…
– Знаю. Но это просто для примера.
– Понял.
– И вот вечер пятницы, все хотят посмотреть комедию.
– Потому что была тяжелая неделя?
– Ну да. Итак, если в прокате две комедии кто-то из десяти человек пойдет на наш фильм, а кто-то может пойти на другой.
– Пожалуй, я бы сходил на «Как делишки, братишка?». Отличное название. И я обожаю Кэба Кэллоуэя[133]133
Кэбелл Кэллуэй – джазовый певец, исполнитель песни «What’s Buzzin’, Cousin?» («Как делишки, братишка?»).
[Закрыть].
– Тебя там нет.
– Где?
– В этом городе.
– А где я?
– Не знаю. Это к делу не относится.
– Ладно. Просто…
– Итак, идут два фильма…
– Просто скажи, где я, чтобы я лучше представил.
– Во Фриско.
– Понял.
– Ладно. Хорошо, – говорит Костелло.
– Как обидно-то, что Руни и Дудл первыми перехватили это название. Если мы хотим с ними конкурировать, можно снять фильм под названием «Что почем, старичок?». Конечно, покажется, будто мы передираем, потому что это строчка из той же песни, но ты же сам сказал: у нас конкуренция и…
– «Как делишки, братишка?» – не фильм.
– Слушай, нехорошо так говорить, Лу. Уверен, они над ним немало потрудились.
– Это не фильм. Забыл? Я его придумал не больше трех минут назад.
– Тогда и волноваться не о чем. Все пойдут на наш фильм. Это единственный настоящий фильм в городе.
– Хватит.
– Чего.
– Просто хватит.
– Ладно, Лу.
– Суть в том, Бад, что скоро эти олухи исчезнут со сцены.
– Фокусы настолько отличаются от нашего жанра, что, по-моему, переживать не о чем и…
– Не так исчезнут.
– А как?
– Это будет смертельный номер.
– То есть уб-б-б-б-бийство?
– А нам что, впервой? Ты забыл?
– Всё как в тумане.
– Это ты как в тумане. Мадд и Моллой.
– Точно! Эм-м… Ну не знаю, Лу. Ты говоришь об убийстве. Это преступление. Одно из самых серьезных.
– Я это делаю ради нас, Бад.
– Ну да, пожалуй.
– В общем, у меня есть приятель, который строит декорации. Он мне должен. Руни и Дудл готовятся снять свой первый фильм, где они, судя по всему, играют плотников-неудачников. Когда Руни забьет первый гвоздь, оба погибнут. Никто не сбежит. Проблема решена.
– А как же их семьи?
– Оба – сироты, из известного во всем мире Актерната. Никто не расстроится.
Вы спросите, кто такие Эбботт и Костелло? Представьте себе экструдер в форме Эбботта. Результирующий Эбботт – это экструзия материала Эбботта, прошедшего через экструдер, что-то вроде пластилина. Причем экструзия в форме Эбботта – впрочем, скорее в форме эбботтоподобного тубуса или червяка, но раз мы способны видеть только «срезы» Эбботта во времени, а не эбботтовский тубус во всей его полноте, то в нашем восприятии этот Эбботт движется во времени. То же относится к Костелло. Таким образом, их «понимание времени и ритма комедии» – иллюзия, поскольку само время – это иллюзия.
В действительности же они не смешнее неподвижных тубусов. – Дебекка Демаркус, «Экструзия/Интрузия на Хребте Путаницы в штате Юта и геология желания».
Мадд и Моллой попивают пиво в баре маленького городишки.
– Как там Олеара Деборд? – спрашивает Мадд.
– Величественная, но холодная и неприступная.
– Ну, я слышал, она очень занята. Причем, возможно, кем-то. Так уж говорят орогенические складки.
– Слушай, у меня есть идея для фильма. Помнишь, Эбботт и Костелло как-то раз встречались с Невидимкой?
– Ага.
– Ну, это сделать мы уже не можем.
– Знаю.
– Не можем получить права у «Юниверсал», чтобы снять собственную версию Невидимки, потому что «Юниверсал» принадлежит то самое «ничто», которое они называют Невидимкой.
– Угу.
– Тогда мы придумаем собственного монстра. Назовем его как-нибудь иначе, – говорит Моллой.
– Угу, – говорит Мадд.
– Незримка.
– Угу.
– «Мадд и Моллой встречают Незримку».
– Ладно.
– И вот самое гениальное: бюджет нулевой, потому что Незримки не существует. На самом деле можно набрать столько незримых монстров, сколько захотим, хоть целую армию. За нами гоняется миллион незримых монстров, и это не стоит ни гроша. Знаешь почему?
– Потому что они все незримые.
– Именно.
– Ну, не знаю, Чик. Не представляю, как мы это снимем.
– А знаешь, кто еще невидимый?
– Нет.
– Монотеистический авраамический бог. Может, в этом фильме за нами гоняется бог. Миллион монотеистических авраамических богов. Вот что я задумал. Этакий еврейско-лавкрафтовский кошмар.
– А чего они хотят-то, эти боги?
– Мучить нас.
– Это точно комедия?
– Я уже смеюсь, – говорит Моллой.
– Только на самом деле нет. В этом-то и штука, – говорит Мадд.
– Значит, я скоро буду уже смеяться.
– Я не видел, как ты смеешься, с самой комы, не считая этого пронзительного вопля, который ты нас заставляешь изображать в представлениях.
– Может, мы тоже выпьем зелье невидимости. В фильме.
– А, еще и зелье.
– Определенно. И если мы его тоже выпьем в фильме, фильм станет только дешевле. Пустые улицы со звуками наших шагов и непрестанной комедийной болтовни. Назовем это «Мадд и Моллой встречают Незримых людей». Или «Авраамических богов».
– «И тоже становятся Незримыми людьми?»
– Именно! «И тоже становятся Незримыми людьми!» Гениально! Длинное, а следовательно, гениальное название.
– Ну, не знаю, Чик.
Забавная штука память. И не в комедийном смысле забавная, хотя иногда да, и это тоже. Если, например, мы что-то вспоминаем неправильно – скажем, вспоминаем утку в ковбойской шляпе, что наверняка неправильно, если только эта утка не в цирке, или еще в каком представлении, или, возможно, в юмористической рекламе, – тогда это забавно во всех смыслах слова. Ковбойская утка. Уверен, недавно видел, как такая шла по улице. Но я явно ошибаюсь.
* * *
Мутт и Мале, так и не добившись успеха в нацистской комедии, перепробовали различные конторские нацистские профессии и на протяжении комедийной монтажной нарезки забираются все выше, несмотря на свою никчемность, пока не попадают под начало Альфреда Розенберга, руководителя по вопросам идеологии и воспитания НСДАП, в качестве неуклюжих слуг.
Однажды, убираясь в ванной Розенберга, они обнаруживают на раковине здоровый кусок его губы, который он, можно предположить, нечаянно отрезал, пока брился.
– Вам не нужен кусочек губы, сэр? – окликает Мале.
– Нет. Уберите! Черт бы вас побрал.
– Может пригодиться, – говорит Мале Мутту, запихивая губу в карман для часов.
– Для чего? – спрашивает Мутт. – По-моему, ты барахольщик, Мале. Все-таки уже не первую губу прибираешь. Сколько губ может понадобиться одному человеку?
– На сей раз это губа герра Розенберга, друг мой. Губа герра Розенберга. Губа великого человека – ergo, это великая губа.
На компьютере со зловещим и задорным звуком «динь» появляется блог моей дочери «Корни Фэрроу», на который я подписался вопреки здравому смыслу.
БРР! Нескончаемая холодная война
Между мой и моим хол-отцом
Вы же слышали про ледяных королев и фригидных женщин? Конечно, слышали, потому что мы живем в патриархальном обществе, где на женщин вешают ярлык Других, чтобы списать их возмущение на невроз (истерию!), живем в культуре, которая никак не может понять, почему она не хочет ебаться с тобой. Знаешь, что? Ебись ты сам. Как тебе такое? Но для чего мы еще не придумали ярлыка, так это для Холодного Отца. Большинству они знакомы. У некоторых они даже были. У меня был. Его инициалы – БРР, и они ему впору, как перчатка на улице в гребаный дубак. Мой отец – мужчина. Это его первое и главное оскорбление. Как почти все мужчины, мой отец всегда прав. Поразительно, сколько знаний мужчины могут впихнуть в свою плешивую и стремную мозговую емкость. Менсплейнинг – это одно, но он в подметки не годится папсплейнингу, особенно возмутительному тем, что, когда тебе что-нибудь объясняет папа, он, черт возьми, раздувает собственное эго за счет долбаного ребенка. А в ребенке из-за этого развивается всяческий пиздец, не в последнюю очередь – пожизненное ощущение, будто ее пол хуже. Понимаете, у дочери еще недостаточно опыта, чтобы понять, что отец ебокряк. Так что ей остается верить, будто этот мужчина знает все, верны все его мнения, а значит, и мнения всех мужчин. Это может и обязательно доведет девочку до эмоционально опасного дерьма.
Если бы отец хоть раз проявил уязвимость, у меня бы еще был шанс. Но что есть, то есть, и вот я в интернете матерю этого старого и холодного идиота. Вот моя жизнь. А теперь, когда я вооружилась до зубов психотерапией и водкой, любовью женщины и блестящей карьерой, когда я могу выступить против него, сказать, что он ошибается, он отвернулся от меня ледяной спиной. Не желает иметь ничего общего с новой, самосовершенствующейся, непочтительной женщиной. Больше того, он из шкуры вон лезет, чтобы в своем блоге саботировать мою жизнь! Господи, я же его родная дочь, а он хочет, чтобы я была его аудиторией. А я – не она и никогда больше ею не буду. Мой отец так слаб, так перепуган, так несчастен, такой неудачник в реальном мире, что на протяжении всего моего с сестрой детства пытался превратить энергичных, любопытных, растущих девочек в своих личных поклонниц. А теперь, когда мы покинули зал, когда нашли себе других исполнителей, даже сами начали выступать, ему больше нет от нас пользы. Если спросить, отец ответит, что мы перестали с ним разговаривать, но правда в том, что это он с нами никогда не разговаривал, а мы это осознали только совсем недавно. Если поинтересоваться у него о нас, о нашем детстве, он начнет селективно вспоминать, как все было хорошо да как мы любили его, а он любил нас. Порасскажет выборочную хрень про то, как мы ездили за щеночком, или про то, как он водил нас на фильмы братьев Маркс, как мы покатывались со смеху над смешными мужчинами на экране. Хотите начистоту? Ненавижу, блядь, братьев Маркс. Очередной пример инфантильных мужчин, насмехающихся над менее везучими – в данном случае…
Я бросаю читать. Я понял, Грейси: ты все еще на меня злишься. Тебе не нравятся братья Маркс. Ну, мир на грани коллапса, так что прости, что у тебя было не то детство, о котором ты мечтала. Я старался, правда старался дать тебе все. Но, может, пора тебе перестать канючить и найти силы самой справиться получше, а не постоянно подтачивать чужие старания, пусть даже безуспешные, привнести в наш мир что-то позитивное. Знаешь, штука в том, что…
Я набираю номер Грейс. Мне кажется, прямо сейчас у нас может состояться ценный разговор – сейчас, пока это еще свежо в мыслях. Она сменила номер, а новый не встречается в телефонных книгах. Не могу не почувствовать обиду. Не могу не воспринимать это как очередную пощечину, лично мне. Шлеп! Не остается ничего иного, кроме как ответить собственным постом.
ГРР! Бестиарий бесящих детенышей
До моего внимания дошли новые нападки на меня в печати (ладно, в пикселях) от другого человека. Будучи радикальным критиком культуры на общественном обозрении, я ожидаю и даже приветствую подобное внимание, но в этот раз нападки личные и исходят от моего потомства. Грейс Розенбергер Розенберг (Фэрроу) снова сочла уместной критику родителя ради оправдания собственной неуверенности в себе. Я понимаю, что ныне мы живем в культуре скандала, и не следует удивляться, что и Грейс причастилась ненависти, но не так я ее растил – или, по меньшей мере, не то самоощущение пытался привить, а пытался я привить ощущение личной ответственности. И поскольку Грейс сочла уместным совершенно отгородиться от меня и поскольку я все еще чувствую родительскую ответственность и желание помочь вопреки ее очевидному презрению, я воспользуюсь этим прискорбно публичным форумом, чтобы протянуть ей оливковую ветвь отцовского совета.
Грейс, ты всегда была трудной девочкой. Мы с твоей матерью понимали это с самого начала. Ты была капризным и несчастным ребенком. И если бы ты могла вернуться назад во времени и увидеть, какие терпение и любовь мы посвящали твоему утешению (в течение первых полутора лет твоей жизни мы с твоей матерью вообще не спали), ты бы осознала силу нашей любви и преданности твоему благополучию. К несчастью для всех, о подобном путешествии во времени не может быть и речи. Не суть, я все еще могу рассказать тебе, как тогда обстояли дела и что, по-моему, тебе стоит узнать о себе сейчас. Ты всегда была конфликтной и эгоистичной, и если тебе кажется, что ты не любима и не принята миром в должной степени, то в поисках объяснения не повредит заглянуть внутрь себя. Конечно, ты вольна осуждать меня и твою мать (впрочем, если задуматься, ее ты никогда не осуждаешь!), но что тебе это даст?
Пора взять быка за рога, перестать жировать на печали, сбросить вес, привести себя в порядок, поставить цель в жизни и двигаться к ней. В твоем возрасте я уже три года проработал кинокритиком в штате газеты «Барахолка Вичиты». Этим я сейчас делюсь не для того, чтобы похвастаться, а чтобы расшевелить тебя. Найди то, что любишь, и стремись, Грейс. Знаю, ты уже сняла два высоко оцененных (в некоторых кругах) фильма, но мне кажется, ты считаешь (и не без оснований), что к твоему начальному разгону имеет непосредственное отношение моя фамилия. Думаешь, имела бы Джойс Мэйнард нынешнюю карьеру, не будь Сэлинджера, которого можно прилюдно поносить? Я – твой Сэлинджер, и думаю, ты это сама осознаёшь и чувствуешь горький привкус от своих профессиональных побед. Мне никто не помогал получить работу в «Барахолке Вичиты». У меня не было известного отца в «шоу-бизе», чтобы поливать его грязью с выгодой для себя. Я полагался только на работу ногами и… как там это говорится?.. смекалку. Возьми свою жизнь в узду. Если ты перестанешь сама у себя путаться под ногами, возможно, тогда обретешь какое-то счастье. Действительно, ты сняла супергеройский фильм за сто миллионов долларов, но этого ли ты хочешь от жизни?
Я выкладываю это в своем блоге «Б. значит Блог» и жду. Сейчас на моем сайте низкая посещаемость. Последний текст, получивший хоть какие-то комментарии, назывался «Дурацкие сны Дурацкого мира 2010» – брутальный, но необходимый разгром «Начала» Кристофера Нолана, на который пользователь под ником «нюхнимоияйца» ответил: «Творюга и спермоглот», на что я написал: «Благодарю за интерес к моему творчеству. Обратите внимание, что я написал „творчество“, проверочное слово – „творить“. В вашем случае было бы правильно написать „тварюга“, проверочное слово – „тварь“. Но в любом случае я, безусловно, уловил подразумеваемое неодобрение. Позвольте ответить на каждый ваш яркий тезис. Первое: я никогда не функционировал в качестве спермоглота. Я – возможно, к своему несчастью, – исключительно гетеросексуален в своих отношениях и никогда не служил приемником спермы. Однако я не считаю это за оскорбление как таковое. Право, история полна блестящих и основополагающих „спермоглотов“ как вы их называете, и я бы почел за великую честь встать в их ряд. Желаю вам всего наилучшего в будущих интеллектуальных устремлениях». На что он ответил: «хахахахахахахахахахахахаха пидор». Я написал: «Возможно, я выразился недостаточно ясно, так что дайте мне возможность предпринять очередную попытку. Я не гей и сообщаю это только как факт, а не пытаюсь дистанцироваться от гей-сообщества, с которым нахожусь в чудесных отношениях. Многие величайшие поэты, артисты, мыслители и ученые мира были геями, и, как упомянуто выше, я бы почел за честь встать в их ряд». На что он ответил: «ты трубочист». В этот момент я подумывал было сдаться. Собеседник как будто оставался глух к тому, что я пытался донести. Но я не мог успокоиться без как минимум трех попыток достучаться.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































