Текст книги "Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях"
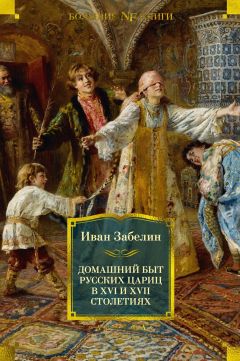
Автор книги: Иван Забелин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 41 страниц)
А женка Дунка в распросе сказала: «В нынешнем-де в 162 г., а в котором числе – того она не упомнит, приходил-де к ним в монастырь Ивашка Девуля и спрашивал ее, Дунку, где она живет, и ему-де, Ивашку, сказали, что живет она у старицы Александры Мещениновы; и он-де, Ивашка, к той келье пришел; и она-де, Дунка, к нему, Ивашку, вышла, и он, Ивашка, учал ее спрашивать про невесту, девку-сиротинку лет в сорок, а у него-де, Ивашка, жених есть, лет в сорок же, Фролом зовут Минин. И она, Дунка, сказала ему, Ивашку, про невесту – девку Макритку, что живет у старицы Офросиньи, а та-де старица Офросинья, неведомо отколь пришла к ним тут же, и она, Дунка, учала ей, Офросинье, говорить, чтоб она тое девку за Фрола выдала замуж. И та-де старица послала к нему, Ивашку, на двор того Фрола смотреть; и она-де, Дунка, у него, Ивашка, на дворе была и Фрола смотрела и про него той старице Офросинье сказала; и старица-де с тем Ивашком за того Фрола замуж тое девку и по рукам ударила; а она, Дунка, за тое девку замуж по рукам ни с кем не бивала. И на завтрее того дни была у них свадьба. А что-де в челобитной старицы Офросиньи написано, того она ничего от Ивашка и от женки Дашки таких речей не слыхала, и как она называлась наплечного мастера женою».
А женка Дашка, Сидорова дочь, в расспросе сказалась: «Портного мастера Ларкина жена Григорьева; была-де она, Дашка, по челобитью Фрола Минина у него, Фрола, на свадьбе в свахах и ходила в Вознесенской монастырь к невесте его, Фролове, с платьем свадебным; а были-де с нею в монастыре Ивашка Девуля да муж ее Ларка; а как-де она пришла в монастырь и ее-де спрошала Вознесенского монастыря игуменья, чья-де ты жена? И она-де, Дашка, игуменье сказала, что она гулящего человека Ларкина жена, портного мастера, а наплечного мастера женою она, Дашка, сама не называлась, и никто ее не научивал».
Челобитье на поругательницу жену
1670 г. в декабре царицы Марьи Ильичны чину сын боярской Никифор Скорятин бил челом на жену свою Пелагею, а в челобитной его написано: «Жалоба, государь, мне на поругательницу на жену свою Пелагею: в 176 г. кусала она, жена моя, тело мое на плечах зубом, и щипками на руках тело мое щипала и бороду драла; и я, холоп твой, бил челом тебе, великому государю, в Приказе Мастерские палаты и подал челобитную окольничему Василью Михайловичу Еропкину. И против моего челобитья меня, холопа твоего, дьяк Иван Взимков в Приказе Мастерской палаты поругательство жены моей и зубного яденья на теле моем досматривал, и в том ее поругательстве жене никакого указу не учинено. И в 178 г. она, жена моя Пелагея, хотя меня, холопа твоего, топором срубить, и я от ее топорового сеченья руками укрывался, и посекла у меня правую руку по запястью, и я от того ее топорового посечения с дворишка своего чуть жив ушел и бил челом в Приказ Мастерской палаты стольнику Федору Прокофьевичу Соковнину; и стольник Ф. П. Соковнин приказал посеченую мою рану записать; и от той посеченой моей руки я вовеки увечен. Да и впредь она, жена моя, хвалится на меня всяким дурным смертоубивством, и по твоему государеву указу посажена она, поругательница, жена моя, за приставы; и она, сидя за приставы, хвалится на меня и ныне всяким дурным смертным убивством. Милосердый государь! Пожалуй меня, вели в таком поругательстве и в похвальбе ее, жены моей, свой царской указ учинить и меня с нею развесть, чтоб мне от нее, жены своей, впредь напрасною смертью не умереть». «Помета: 179 дек. 19-го велеть противо челобитья на патриархов двор послать память и с памятью отослать Микифора Скорятина и с женою его с Полагеею». (Посланы с указом: учинить по правилом св. апостол и св. отец, чего доведется.)
Дело комнатной бабки, укравшей горсть соли
1671 г. августа в 13-й день по указу (великого государя царя) и великого князя Алексея Михайловича (титул) государыни царицы и великой княгини Наталии Кирилловны комнатная бабка Марфа Тимофеева «роспрашивана накрепко, а сказала: в нынешнем-де в 179 г. августа 11 дня пришла она к мыленке государыни царицы и перед мыленкою-де ходила и стряпала доктор Литовка, и принесла перед мыленкою на серебряном блюде грибы и поставила на том же серебряном блюде. А ей-де, Марфе, до того времени грибов печеных велми хотелось есть. И она-де украла перед мыленкою в сенях из стола соли из сковородки, из которой про государыню царицу в кушанье вынимает доктор. И она-де из той соли взяла в горсть тайно… к грибам и хотела с того серебряного блюда, которые принесены в стряпню про государыню царицу, украсть гриб и тою краденою солью тот краденый гриб осолить и испечь тут же в печи, где стряпают кушанье про государыню царицу. И в то-де время увидела дохтуриха, что она соль украла, стала ее в сенях спрашивать, что у ней в горсти? И она-де, Марфа, сказала ей, докторихе, что у ней в горсти ничего нет. И от той дохторихи пошла в мыленку для того, чтоб ей соль высыпать на землю, чтоб ее не увидели. И как-де она вошла в мыленку и увидела, что в мыленке сидит Анна Леонтьевна, испужалась ее, и тое соль подле ушата в мыленке у дверей из руки высыпала на землю. А в то-де время варили шти про государыню царицу. И, высыпав соль, пошла тотчас назад из мыленки, и докториха-де ее спросила, что она носила в мыленку? И она сказала, что ничего не носила. И пошла от мыленки к портомойне. И у портомойни-де варила грибы государыни царевны и великой княгини Евдокии Алексеевны комнатная ж Офросинья. И она-де, Марфа, взяла гриб и, испекши, съела, для того, что ей безмерно хотелось в то время грибов есть. И после-де того, на другой день в субботу в обед, пришли в казенную Матрена Блохина и Марина Киникина. И сказала ей, Марфе, Марина, что-де про ее Марфино дело государыне царице известно. И она-де учала бить челом Матрене Блохине, чтоб ее заступила. И Матрена-де на нее закричала и велела ей, Марфе, ехать к Москве. И она-де и поехала.
А нынешнего-де августа 13-го числа была она у обедни у себя в приходе, в Хамовниках, у церкви Николая чудотворца, и, идучи-де от обедни, сошлась с соседкою своею, государыни царевны и великой княгини Софии Алексеевны, с постельницею с Марфою Кузминой и говорила ей со слезами, что она без хитрости впала в беду. И Марфа-де спрашивала ее, в какую беду? И она-де ей рассказала, как она соль украла и как хотела гриб украсть и, испужався Анны Леонтьевны, тое соль высыпала на землю в мыленке подле кади, и чтоб она, Марфа, где ей мочно, заступила. И Марфа-де ей сказала, чтоб она уповала на Бога, и на их государскую милость, и на бесхитростные вины их государское милостивое рассмотренье. И пошла-де она, Марфа, к себе на двор, потому что она живет в Хамовной слободе, и муж у ней был тое слободы тяглец, а сын и ныне живет в той слободе, а торгует в серебряном ряду. А родом-де отец ее был сын боярский Карташовых, а которого городу – того не упомнит. А сестра ей родная в Верху у государыни царицы в портомоях, а муж у ней был Стретенской сотни тяглец, Гришкою звали. А иных никого в верховом чину и в государеве дворе сродников у ней нет.
Да она ж сказала, что хотела она бить челом великому государю, чтоб великий государь пожаловал велел ее отпустить в монастырь, что она в разуме проста, а ныне-де стало не по прежнему жестоко, никто-де ни о чем доложить не смеет, разве-де одна Матрена Блохина доложит о каком деле доведется. А она-де, Марфа, никуда в домы не вхожа и в деревнях у ней никого нигде сродников нет. А что-де она соли украла и гриб хотела украсть, и как ее спрашивали, что она в горсти несет и она запиралась, и то-де все учинила она без хитрости, для того, что-де ей и наперед сего грибы докториха давывала, и она-де в мыленке пекала. А она-де, Марфа, про государыню царицу делает всегда кислые шти, а хитрости никакие за нею нет и не было, работает им, государем, лет с тринадцать.
И для подлинного розыску допрашивана государыни царевны и великой княгини Софии Алексевны постельница Марфа Кузмина, что ей нынешнего числа говорила бабка Марфа? И постельница Марфа сказала против распросу комнатные бабки Марфы: а родом она сказалась вяземка, посадского человека жена, и родители все у ней и ныне в Вязме на посаде, а иных никого родителей нигде нет.
И бабка Марфа подымана на дыбу и висела, а сказала прежние свои речи. Она ж и к огню приношена и всячески страшена, а говорила то ж, что и в расспросе сказала. И после расспросу Марфа Кузмина освобождена, а Марфа Тимофеева посажена на Житном дворе в приказной избе за караул»[234]234
Сообщено П. П. Пекарским.
[Закрыть].
Царицыны дети боярские в провожатых за боярынею
1673 г. апреля 10-го в Приказе Мастерской палаты по случаю внезапной смерти одного из царицыных детей боярских, следовавших в проводах за боярынею, произведен был расспрос: отчего ему смерть приключилась? Тогда царицына чину сын боярский Иван Тавлеев в расспросе сказал: «Апреля в 6-й день ходили они, дети боярские, восемь человек с дворца на двор к окольничему к Ивану Михайловичу Милославскому, провожали боярыню Оксинью Мертвого да девку боярычню; а детей боярских было: Иван Кутузов, Илья Парской, Истома Брянцов, Иван Левашов, Григорий Мелехов, Яков Степанов да умерший Федор Аменев. И тот Федор с дворца шел за колымагою пьян, да и у Ивана Михайловича пил вино двойное, и пиво, и мед. И с двора окольничего Ивана Михайловича Милославского за тою колымагою пошли все; а как он, Федор, от колымаги отстал, и кто его бил ли, и как ему смерть случилась – того Иван Тавлеев не ведает, потому что все дети боярские были пьяны. Иван Кутузов сказал те ж речи, Истома Брянцев сказал те ж речи, Яков Степанов сказал те ж речи. А в том-де они все шлются на боярыню Оксинью Мертвого, и на девку боярычню, и на постельниц, которые за боярынею были, как они с двора окольничего И. М. Милославского подле той колымаги шли до самого дворца, а от колымаги ни на час не отставывали и ни с кем не бранивались. А приехала-де та боярыня на дворец, и они за нею пришли в четвертом часу ночи, и, проводя боярыню, пошли все семь человек в Кисловку вместе, а про него, Федора, чаяли, что он, отстав, пошел домов. После того осматривали умершего сына боярского Федора Аменина, а по осмотру половина лба и нос весь замерло багрово и на спине да на левом локте багрово ж».
Царевнина карлица в гостях
«1677 г. генваря 7-го царицы Наталии Кирилловны сенной сторож Федка Степанов, прозвище Бородавка, про приезд к нему в дом карлицы девки Овдотьи и про скорую смерть ее расспрашиван, отчего ей та скорая смерть учинилась; а в расспросе сказал: царевны Екатерины Алексеевны карлица девка Овдотья приехала к нему в полчаса ночи, да с нею ж приехали Володимерова приказу Воробина стрелец Андрюшка Левонтьев, да сестра ее родная Огашка, того ж приказу стрельца Васкина жена Рожи, а его-де, Федки, в то время дома не было, а была в то время дома жена его Окулка; а как он пришел домой в час ночи, и она, карлица Овдотья, с женою его Окулкою были в то время в вышке, и из вышки сошли с ним, Федкою, в избу, и он им поднес вина по достоканцу троецкому и ужинали вместе и, поужинав, легли спать часу в девятом ночи; и проснулися они часу в десятом ночи и увидели они тое карлицу: лежит лицом к подушке мертва, а отчего ей та смерть случилась – того он не ведает; а прежде сего в гостях она и сестра ее у него не бывали, а приехали они к нему впервые; да у него ж был в гостях и ночевал Стретенской сотни тяглец Ефремко Офонасьев, по знакомству. Федкина жена в расспросе сказала: приехала к ним карлица девка Овдотья за полчаса до ночи, да с нею же приехала сестра ее родная Огашка да стрелец Андрюшка Левонтьев; а приехали к ним они пьяны; а сказала она, карлица, что была она у сестры своей родной Огашки; а мужа ее, Окулкина, в то время дома не было, а где он был – того она не ведает. И она им поднесла по достоканцу троецкому вина, а в достоканце будет чарки две или три, и после того водила она, Окулка, ее, карлицу, из избы в вышку одное и там ей поднесла тот же достоканец вина ж; а муж ее пришел домой часы в отдачи и ужинали вместе, а за ужином поднесли им по два ж достоканца; и, отужинав, стала она, карлица, говорить, чтоб ей дали место, где ей спать. И они положили подушку на лавку, и она тут и легла спать в час ночи; а они сидели часу до пятого ночи и хотели ее разбудить, чтобы она с ними ж сидела, и стали ее будить, и она-де лежит мертва, лицом к подушке; а тоскованья у нее и иные болезни не видали; только у мертвой усмотрели, что изо рта у ней шла пена. Стретенской сотни тяглец Ефремко Афанасьев в расспросе сказал: был он в гостях у Федки Бородавки и к нему пришел стрелец Андрюшка Левонтьев и сказал ему, Федке, что будет к нему в гости карлица, и он, Федка, ходил для тое карлицы покупать вина. И без него, Федки, та карлица к нему приехала, да с нею сестра ее Огашка, да стрелец Андрюшка Левонтьев; а была-де в то время дома жена его, Федкина, Окулка; и поднесла им вина по достоканцу троецкому; а у Окулки в то время было подпито; и пошептала ей карлице она, Окулка, на ухо, и пошли из избы вон и, помешкав, пришли опять в избу; и Федка в то время пришел с ними ж в избу вместе, и сели ужинать; и та карлица ужинала и за ужином пила вино тем же достоканцом и после ужина легла она, карлица, спать, и они все полегли спать же. И часу в пятом ночи стали ее будить, и она, карлица, мертва и лежит лицом к подушке, и лицо у ней посинело. Володимерова приказу Воробина стрелец Андрюшка Левонтьев в расспросе сказал: карлицы Овдотьина сестра родная Огашка живет у отца его, у Левки, на дворе. И генваря в 1-й день в понедельник приехала к ней, Огашке, сестра ее, карлица Овдотья, и жила у них генваря до 6-го числа, а генваря в 6-м числе за два часа до вечера поехала от них та карлица с сестрою своею Огашкою да с ним, Андрюшкою, не пив ничего и не етчи, и приехала к Федке Бородавке в гости; а как они приехали и Федки в то время дома не было, а была жена его Окулка, и, знать, что у нее было подпито; и поднесла им по достоканцу вина и, поднесши им вина по достоканцу, и пошептала ей, карлице, в ухо, и карлица ей, Окулке, говорила, что-де мне с тобою делать? И она, Окулка, ей сказала: что-де заставят, то и делай! И взяла ее в вышку, и были в вышке с четь часа; и в то время Федка Бородавка пришел домой и прошел к ним же в вышку и, быв у них, Федка сошел в избу; после того вскоре и она, Окулка, и карлица сошли в избу ж и в избе сели на лавке; и в то время подносили им пасынок его, Федкин, и жена его Окулка и он, Федка, по достаканцу вина; и она, карлица, выпила у них только один достоканец, а двух достоканцев не пила, а говорила: полно-де пить вина, и так-де тошно; и объявилось, что хмель ее стал изнимать и стал язык мешаться; и сели они ужинать вместе, а как поставили студень, и она взяла кусок мяса и не донесла до рта, уронила и стала, сидечи, дремать и, дремав, храпела, и слины у ней изо рта текли; и подле ее положили подушку, и она на тое подушку повалилась беспамятно ничь; и, лежав, храпела, а после икала; а лежала она с четь часа, и стали ее будить, чтоб она, встав, с ними сидела, а она лежит мертва; а как ее подняли, и у ней лицо да правая рука посинели, а живот взнесло высок. Карлицына сестра Огашка в расспросе сказала те ж речи, что и Андрюшка, только в речах своих убавила, как-де ей, карлице, положили на лавку подушку и она, карлица, на тое подушку не сама повалилась беспамятно, а положила ее, карлицу, на тое подушку она, Огашка».
Пропавшая церковная чаша
1686 г. июля против 28 числа в церкви Пресвятой Богородицы Похвалы у всенощного пропала церковная чарка серебряная с житием Иосифа Прекрасного. 31 июля указано крестовых дьяков, и псаломщиков, и пономарей, которые тогда были на всенощной, расспросить подлинно. Указ о том был из хором царевны Екатерины Алексеевны. Одни сказали, что в церкви были, но в алтарь не входили и чарки не видали. Псаломщик Михаил Далматов сказал: «у всенощного в церкви он был, стоял на крылосе, и во всенощное пение из трапезы к крылосу вынесла девица Ирина щипцы медные, а велела вычистить пономарю, и он, Михайло, взяв те щипцы и вшед в алтарь, спросил пономаря, и в алтаре-де в то время пономаря не было; и он, вышед из алтаря, те щипцы сукном, которое прибито в приделе Алексея Человека Божия, вычистил и, вычистя, отдал той же девице Ирине; а чарки из алтаря он не имывал. Псаломщик Петр Борисов сказал, что он у всенощного был на левом крылосе, и в вечернее пение пришла к крылосу старица Афонасья Потемкина и велела ему послать пономаря Семена по священника по Дементиана, и он, Петр, того пономаря послал, а чарки из алтаря не имывал. Пономарь Иван Артемьев сказал: у всенощного пения в церкви был он в алтаре с товарищем своим, с пономарем же, с Семеном Тимофеевым, а седмица-де по очереди была его, Иванова; а пропавшая серебряная чарка стояла в приделе Алексея Человека Божия на горнем месте. Семен Тимофеев сказал: пришел он ко всенощному в то время, как почали говорить на вечерни кафизму, и, пришед в алтарь, чарки не видал. И того ж часа псаломщик Петр Борисов послал его по священника по Дементиана, и с тем священником пришел он в церковь на вечерни во время литии; и на стиховне он, Семен, вышел из церкви и стоял на паперти, и после того вышел к нему товарищ его Иван в кафизму, как учали говорить, на утренне; и сидели на паперти до второй кафизмы и пили кислые шти, и пошел с товарищем благовестить и звонить и, пришед в церковь после звону, той чарки он не хватился, а в соборном алтаре в то время были священник Дементиан да дьякон Борис; а как чарка пропала – того он не ведает; а хватился он той чарки того ж числа перед обеднею для изготовленья к службе священнику воды; а кто чарку взял, – того он не ведает».
«194 г. августа 3-го великие государи цари указали расспросить (их всех) в застенке с большим пристрастием накрепко, чтоб они сказали правду, кто из них чарку из церкви взял. Августа 4-го крестовые дьяки, и псаломщики, и пономари в Кадашеве на Хамовном дворе в застенке у пытки расспрашиваны с большим пристрастием накрепко и руки в хомут кладены. Все сказали прежние свои речи. Пономарь Иван Артемьев прибавил: августа 2-го приходил к ним в Истопничую палату поп Василий, который служил у церкви Похвалы июня в 28-го, и говорил ему, Ивану, и всем им: „За то-де вам, для чего мне заслуженых денег не дали, да и впредь-де мне заслуженые деньги платить станете“. И он, Иван, учал ему, попу, говорить, чтоб он чарку серебряную, которая пропала из церкви, отдал. И тот поп замолчал и молвил, что-де у него чарки никакой нет, и из палаты от них вышел вон».
194 г. августа 5-го великие государи указали: которые сидели в Кадашеве на большом Хамовном дворе в пропалой церковной чарке – свободить. Указ о том из хором царевны Екатерины Алексеевны сказала боярышня Марья Ивановна Шеина.
Глава VI
Царицыны наряды, уборы и одежда
Общий обзор. – Головной убор, девичий и женский. – Золотые уборы, или ларечная кузнь: золото, саженье, низанье. – Одежды. – Обувь. – Мастерская палата. – Светлица и ее рукоделья. – Белая казна.
Иностранцы, бывавшие в Москве в течение XVI и XVII столетий, единогласно восхваляют красоту русских женщин; иные (Лизек) присовокупляют, что красоте соответствовали и достоинства ума. Но зато все очень неодобрительно говорят о разных прикрасах женского лица, которые были в большом употреблении и, по их замечанию, только безобразили природную красоту. Один итальянец (Барберини), видевший наших прабабок в половине XVI столетия, отмечает вообще, что русские женщины чрезвычайно хороши собою, но употребляют белила и румяна и притом так неискусно, что стыд и срам! О том же свидетельствует Флетчер, говоря, что женщины, стараясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся так много, что каждому это заметно; что этого не стараются и скрывать, ибо таков обычай; мужчинам это очень нравится, и они радуются, когда их жены и дочери из дурных превращаются в красивые куклы. Из его слов можно заключать, что всякие притиранья в то время вовсе не имели значения искусственных средств подделывать природу, натуру лица или своей красоты, а были, так сказать, необходимою одеждою лица, без которой невозможно было появиться в обществе. «Что касается женщин,– говорит Петрей (нач. XVII столетия),– то они чрезвычайно красивы и белы лицом, очень стройны, имеют небольшие груди, большие черные глаза, нежные руки и тонкие пальцы, только безобразят себя часто тем, что не только лицо, но глаза, шею и руки красят разными красками – белою, красною, синею и темною: черные ресницы делают белыми, белые – опять черными или темными, и проводят их так грубо и толсто, что всякому это заметно. Так они украшаются особенно в то время, когда ходят в гости или в церковь», т.е. вообще, когда появляются в общество. Олеарий в половине XVII столетия пишет между прочим: «Русские женщины вообще среднего роста, стройны, нежного телосложения, красивы, но в городах все почти румянятся, притом чрезвычайно грубо и неискусно; при взгляде на них можно подумать, что они намазали себе лицо мукой и потом кисточкой накрасили себе щеки. Оне красят себе также брови и ресницы черною, а иногда и коричневою краскою». Дальше он говорит, подтверждая Флетчера, что это был неизменный обычай, которому противиться не было никакой возможности. «Посещая своих близких или являясь в общество, женщины непременно должны быть нарумянены, несмотря на то что от природы они гораздо красивее, чем в румянах». Это исполняется ими для того, объясняет автор, чтобы природная красота не брала перевеса над искусственным украшением. Стало быть, прибавим мы, это исполнялось для того, чтобы одеть лицо в известный образ красоты, возможно ближе стать под известный, господствовавший в то время ее тип и идеал, как в действительности и было, о чем скажем ниже. В доказательство своего заключения автор приводит пример. «Так,– говорит он,– во время нашего пребывания в Москве, когда жена знатного вельможи князя Ивана Борисовича Черкасского, женщина прекрасной наружности, не хотела сначала румяниться, то тотчас же оговорена была прочими женами бояр: зачем-де она презирает обычаи своей земли, что хочет, видно, опозорить прочих подобных ей! И чрез мужей своих они до того довели дело, что от природы прекрасная женщина должна была румяниться и, так сказать, уподобиться свечке, зажженной при светлом солнечном сиянии». Такова была власть обычая, власть общественного мнения, прибегавшего, по характеру века, к самым предосудительным способам, чтобы заставить противника повиноваться. Очень вероятно, что дело о белилах и румянах Черкасской доходило до царя и что из хором царицы ей указано строго держаться в этом отношении общего уровня. Англичанин Коллинс, описывая такие обычаи русских женщин, замечает, что «румяны их похожи на те краски, которыми мы (англичане) украшаем летом трубы наших домов и которые состоят из красной вохры и испанских белил (из висмута). Они чернят свои зубы с тем же намерением, с которым наши женщины носят черные мушки на лице (т. е. для придания лицу большей белизны или белизне лица большей выразительности). Зубы их портятся от меркуриальных белил, и потому они превращают необходимость в украшение и называют красотою сущее безобразие. Здесь любят низкие лбы и продолговатые глаза, и для того стягивают головные уборы так крепко, что после не могут закрыть глаз, так же как наши женщины не могут поднять рук и головы. Русские знают тайну чернить самые белки глаз. Маленькие ножки и стройный стан почитаются безобразием. Красотою женщин они считают толстоту. Худощавые женщины почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не склонны к толстоте, предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть: лежат целый день в постеле, пьют русскую водку, очень способствующую толстоте, потом спят, а потом опять пьют». «Женщины в Московии, – прибавляет Корб (кон. XVII столетия), – имеют рост стройный и лицо красивое, но врожденную красоту свою искажают излишними румянами; стан у них также не всегда так соразмерен и хорош, как у прочих европеянок, потому что женщины московские носят широкое платье, и их тело, нигде не стесняясь убором, разрастается, как попало». Путешественникам с европейского Запада наша старая жизнь казалась вообще до чрезвычайности странною, нелепою, чудовищною, и они, как видим, каждый по своему старались объяснить себе ту или другую сторону наших бытовых порядков. Относительно женских прикрас иностранцев главным образом поражало, как нельзя не заметить, полнейшее отсутствие и малейшего даже искусства, малейшей утонченности в употреблении таких прикрас; их поражала эта необыкновенная грубость мазанья и без того красивого лица. Но существовали же какие-либо причины, достаточные для того, чтобы крепко держался подобный нелепый обычай. Нам кажется, что первою из таких причин был своеобразный русский идеал женской красоты, а второю – недостаток лучших средств в самих материалах, ибо краски для притиранья употреблялись простые и грубые, особенно в среднем городском быту, какой больше всего и наблюдали заезжие иноземцы. У русской красоты было
Белое лицо, как бы белой снег,
Ягодицы (на щеках), как бы маков цвет,
Черные брови, как соболи,
Будто колесом брови проведены;
Ясные очи, как бы у сокола…
Она ростом-то высокая,
У ней кровь-то в лице, словно белого заяца,
А и ручки беленьки, пальчики тоненьки…
Ходит она, словно лебедушка,
Глазом глянет, словно светлый день…
Несмотря на то что эта последняя черта русской красоты – «ее взгляд, словно светлый день» – переносит представления о ней в область идеалов поэтических или романтических, однако в общем ее типе, как видим, господствуют представления самые материальные, господствуют сильные, резко определенные краски без всякой поэтической, т. е. романтической, отживки, а так, как ими расписывались старинные эстампы деревянной лубочной печати.
В приведенном изображении идеала женской красоты материально обрисовываются и самые средства, какими обыкновенное лицо могло достигать этого идеала. Белизна лица уподоблялась белому снегу – естественно было украшать его белилами в такой степени, что в цвете кожи не оставалось уже ничего живого, ибо и самый первообраз не указывал ничего живого или поэтически и эстетически жизненного. Само сравнение «кровь-то в лице, словно белого заяца» еще сильнее обозначает то же представление о снегоподобной белизне лица. «Щеки – маков цвет» или «щечки – аленький цветок» точно так же свое идеальное низводили слишком прямо и непосредственно к простому материальному уподоблению красному цветку мака. Маков цвет должен был покрывать, как бы цветок на самом деле, только ягодицы щек; таким образом, снегоподобная белизна должна была довольно резко освещаться ярким алым румянцем, который не разливался по всему лицу, а горел лишь на ягодицах. Очень понятно, что при таком сочетании на лице белого и красного цвета требовался и цвет волос на бровях и ресницах наиболее определенный, который бы как можно сильнее выделял эту писаную красоту всего лица. Конечно, для такой цели ничего не могло быть красивее черных волос соболя – тонких, мягких, нежных, блестящих. Оттого соболь становится исключительным идеалом для характеристики бровей, и черная соболиная бровь, проведенная колесом, является необходимым символом красоты. Все это вместе служило самою выгодною обстановкою именно для светлости и ясности глаз. Ясные очи своим блеском, а вместе и взглядом, указывали идеал ясного сокола, который, по всему вероятию, и ясным обозначался тоже за особую светлость своих глаз. Однако ж для того, чтобы еще больше возвысить ясность, светлость и блеск очей, подкрашивали не только ресницы под стать бровям тоже черною краскою, сурьмою, но пускали черную краску и в самые глаза особым составом из металлической сажи с гуляфною водкою или розовою водою.
Таким образом, Петрей мог справедливо говорить, что у русских женщин глаза черные, чего, конечно, в действительности не было, но выходило так по украшениям бровей, ресниц и самых белков.
Черные брови и ресницы, как и черные глаза, служили типом желаемой красоты, а потому и господствовали в уборе красавиц, и тем более что сурмление доставляло более легкую возможность уподобить прикрасу самой природе. Другое дело было, когда желали украсить волосы под цвет русых или темно-русых. Недостаток доброго материала или же неискусство в составлении краски тотчас обнаруживалось, и волосы выходили коричневыми, как замечает Олеарий. Что же касается украшения ресниц белою краскою, о котором говорит Петрей, то, вероятнее всего, здесь лишь неискусно употреблялись белила или какая-либо пудра собственно для украшения лица. То же должно сказать и о синем цвете, который на лице, на шее и на руках мог происходить от плохих белил или румян, оставлявших по себе синеватые следы. Как бы ни было, но эпический идеал красоты, живший с незапамятных времен в воображении народа, заставлял своими указаниями приближать к нему всякий образ красивого лица. Он должен был подчинять своему образу все другие представления о красоте, уравнивать их по своим чертам.
Однако ж, в сущности, основным понятием, или основным представлением, о красоте женского лица в допетровской Руси было простое представление о физическом цветущем здоровье. Это, конечно, самая коренная идея красоты. Старина не только не уважала бледной и изнеженно-слабой красоты, но почитала ту и другую болезненным состоянием здоровья, если так бывало на самом деле, или же относила эти болезненные по ее понятиям признаки прямо к худому поведению, к разврату, которому и самое имя выводила из одного корня со словом «бледный». В этом она совершенно расходилась с понятиями красавиц кон. XVIII столетия, а отчасти и нашей памяти, которые употребляли всевозможные способы, чтоб побледнеть. Рассказывают, что некоторые из них всякое утро принимали по восемь катышков белой почтовой бумаги и беспрестанно носили под мышками камфору; также кушали мел, пили уксус и т.п.[235]235
Магазин общеполезных знаний с присовокуплением модного журнала. Ч. II. СПб., 1795. С. 271.
[Закрыть], стараясь достигнуть этой желанной цели. Старинные допетровские красавицы, напротив, употребляли все усилия, чтобы казаться в полном смысле девицами красными, и расцвечивали себя, как маков цвет. Идея романтической, сентиментальной красоты не была им известна; они еще были очень близки к самым реальным представлениям по этому предмету, к древнейшему коренному значению самого слова «красота». Они еще переживали эпический возраст русского развития, а потому и были так материальны в своих понятиях о красивом лице.
Само собою разумеется, что и в их время, как и во всякое время, уборы и наряды должны были служить тому же господствовавшему идеалу красоты. Головной убор, как и убор одежды, точно так же ставил себе целью придать лицу еще большую цветность и вообще возвысить описанную красоту в большей степени. Неизменные части такого убора всегда стремились произвести необходимую гармонию и с белизною лица, с алыми щеками и черными бровями, для чего в головном уборе одно из видных мест занимал убрус – повязка из тонкого белого полотна с золотым шитьем и низаньем из жемчуга; золотные кики украшались жемчугом в таком виде, что жемчужные нити окаймляли белое лицо со всех сторон: лоб украшала жемчужная кичная поднизь, стороны у щек – жемчужные нити ряс, шея красилась жемчужным стоячим ожерельем или же жемчужною нитью, которая называлась перлом. Припомним, что и самое достоинство жемчуга заключалось в особенной белизне и чистоте его блеска; желтого жемчуга, по свидетельству торговой книги XVI столетия, никто не покупал на Руси. Среди жемчуга иногда блистали дорогие каменья, большею частью лалы (алые, малиновые) и изумруды, цвет которых подбирался с тою же главною целью придать лицу и глазам наибольшую цветность, светлость и выразительность. Само собою разумеется, что общим фоном для всех таких уборов служило непременно золото, т.е. золотное тканье, шитье, плетенье, а также и золотая кузнь, кованье в различных видах. Без золота невозможно было устроить никакого убора; это был самый обычный, общеупотребительный материал для всяких уборов, как и для убора самого платья. Для алых щек являлся господствующим особый цвет материй, атласов, бархатов, камок и т.п., именно червчатый и алый. На шапках этот цвет красился также жемчугом, что придавало немало блеску притиранью лица, румянам и белилам. В отношении бровей и ресниц их цветность усиливалась еще в большей степени меховою, обыкновенно черною бобровою или соболиною опушкою шапки. Мех, особенно соболий и бобровый, принадлежал к самым любимым и неизменным уборам в одежде, и нет сомнения по той именно причине, что вполне отвечал тогдашним идеальным представлениям вообще о женской красоте, служил самою изящною для нее и наиболее выразительною рамкою. Почти все одежды, особенно выходные, парадные – как зимние, так отчасти и летние,– окаймлялись бобровым пухом; а накладное бобровое ожерелье – род пелерины – составляло самую видную часть женской одежды в торжественных случаях и принадлежало к царственным уборам цариц и зимою, и летом. При этом должно заметить, что бобровый мех для таких уборов всегда подкрашивался черненьем. Словом сказать, русские красавицы XVI и XVII столетий вовсе не были безучастны к красоте своего наряда; они вовсе не были такими, какими их рисуют некоторые наши исследователи, говоря вообще, что русские женщины допетровского века «не заботились ни об изяществе формы, ни о вкусе, ни о согласии цветов, лишь бы блестело и пестрело!.. Не имели понятия о том, чтоб платье сидело хорошо» и т.д. Русские красавицы, как и красавицы всех времен и народов, точно так же очень много заботились о том, чтобы нарядиться к лицу, и нарядиться со вкусом и изяществом, как этот вкус и изящество сознавались в их время. Вкус и понятия изящного и красивого по отношению к одежде – вопрос весьма сложный и весьма спорный, так что, не разобравшись в подробностях всего дела, едва ли можно выводить решительные заключения. Необходимо прежде всего раскрыть основы и все условия, какие способствовали в известное время образованию того или другого вида эстетических представлений и вкусов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































