Текст книги "Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях"
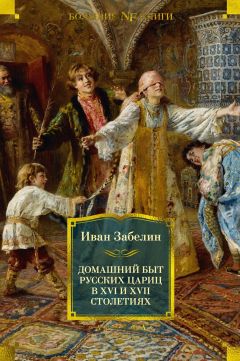
Автор книги: Иван Забелин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 41 страниц)
Однако ж не все из имения подверглось опальному расточению. Один верный раб Морозовой – Иван – по ее повелению припрятал некие дорогие вещи у верного человека, но был предан своею женою, был пытан и мучен, огнем жжен шесть раз, но все перетерпел и наконец был сожжен в Боровске с другими ревнителями древнего благочестия.
После того царь как бы сжалился над заключенною и повелел отдать ей двух рабынь, чтобы послужили ей в заключении, Анну Амосову, а другую Стефаниду, прозываемую Гнева, которые с великою радостью пошли служить боярыне, потому что были ее единомышленницы. Княгиня, сестра Морозовой, не получила подобного облегчения в своей участи, но зато Бог послал ей честнейшую от рабынь – боярскую дочь Акулину, которая сама наложила на себя этот подвиг, пожелав служить ей, приходя и отходя, а впоследствии постриглась и наречена Анисия. Она тоже находилась под началом матери Мелании и твердо укреплялась в своих мыслях писаниями Аввакума, который умел ценить в ней боярское происхождение как важную авторитетную общественную опору для большего утверждения и распространения своих учений.
Несчастные ревнительницы древнего благочестия из такой знатной и высокой среды, конечно, обращали на себя общее внимание. Особенно важно и дорого было их ревнование для их единомышленников, которые находили в их подвиге сильную точку опоры, сильный и яркий пример при распространении своих заблуждений в народе, и потому, естественно, должны были всеми средствами помогать их подвигу, бодрствовать над ними со всех сторон. Видимо, что посредством стариц и служанок несчастные жертвы находились в постоянных сношениях с этим темным миром и получали оттуда непрестанные «укрепления» стоять и страдать за правду, за старое предание отеческое до конца. Этими-то путями Морозова успела в своем заточении причаститься от странствующего попа – инока Иова Льговского.
Этот Иов происхождением был из Литвы, от родителей шляхетских рожден. В 1611г., когда Филарет Никитич, отец царя Михаила, тогда митрополит Ростовский, находился в польском плену, Иов, еще юноша, был им приобретен, жил ботом при его келье, облечен в иноческий образ и посвящен во иерея во время уже патриаршества Филарета. Потом он был отпущен на собственное жительство: где похочет, да соберет себе духовные чада и научит иноческой философии. С тех пор Иов сделался скитальцем, основывая по временам монастыри, и в том числе Льгов (1669г.). Преходя, крыяся по местам во время гонений на староверство, он под конец удалился к Дону и при реке Чире основал новый монастырь, поставление которого запечатлел своею смертию, прожив больше 100 лет[59]59
Описание некоторых сочинений в пользу раскола. Т. I. С. 269.
[Закрыть]. Этот-то скиталец, находясь тогда в Москве, и был проведен к Морозовой.
Очень милостив был к ней карауливший ее стрелецкий голова. Она умолила его пустить к ней старца, сказав так: «Был в дому моеви, в одном из наших сел, некий священник; была милость наша к нему. Теперь, я слышала, он здесь; жаль мне его, старика, позволь повидаться с ним, если будет твоя милость к нашему убожеству». И вот пришел старец белецким образом, т. е. переодевшись, подать ей бесценный бисер. Иов так был умилен ее страданием, что после не мог без слез вспоминать об этом.
Теми же путями Морозовой представился случай повидаться и с сестрою. Однажды, когда, разумеется, предварительно все было улажено, Урусова сказала своей начальнице, у которой жила в келье: «Госпожа! Ты знаешь, как болит сердце матери о детях; знаешь и то, что я оставила их Христа ради. Пусти меня в дом мой; поцелую я их и утешу и сама утешусь, и еще до вечера возвращусь сюда; никто не будет знать об этом, только ты да я… Теперь полдень, а игуменья в гостях и старицы разошлись, и людей на монастыре мало; а я, фатою покрывшись, пройду, и никто не узнает меня». Сверх чаяния начальница отпустила ее. Велела ей только оставить образ Богородицы, как бы в залог того, что она воротится: «Знаю, как ты любишь образ Владычицы нашея, оставь мне его здесь и иди с миром: Она, Помощница, возвратит тебя сюда». Княгиня вышла. На дороге – навади бес неких злых человек – ее сочли за беглую и хотели было взять. Она смело защитилась. Потом встретилась (без сомнения, по уговору) с Еленою, которая, вероятно, все это и устроила, и вместе пошли на Печерское подворье. Дворница дала знать Морозовой об их приходе; та выслала рабу свою Анну, вместо которой в обмен возвратилась к ней уже сестра – Урусова. На крыльце мимо ног караульщика прошла, который подумал, что та же Анна идет. «И беседоваша любезно мученица со исповедницею». Но позавидовал дьявол; у караульных стрельцов сделалась тревога. Они догадывались, что дело неладно. Голова, упрошенный Морозовою, успокоил их и велел только гостье ночевать: «Я ночью выпущу ее тихонько», – объяснил заступник. Таким образом, тревога послужила к еще большей радости сестер. Всю ночь они ликовали, беседуючи. К свету Урусова ушла, а Елена опять проводила ее до монастыря.
Но гораздо важнее было то, что страдалиц не оставлял своими поучениями и ободрениями их духовный отец – Аввакум. Время от времени из своего далекого заточения он присылал им послания и всегда возвышал их подвиг в превыспренних изречениях. Так, проведав о рассказанных уже нами событиях, он шлет к ним письмо, в котором спрашивает Феодосию, жива ли она: «Еще ли ты дышешь, или сожгли, или удавили тебя?» – и затем восторгается их подвигом, называет их супругами нерасторженными, ластовицами сладкоглаголивыми, маслинами, светильниками пред Богом на земли стояще, подобными Еноху и Илии: «женскую немощь отложивше и мужескую мудрость восприявше, диявола победиша, мучителей посрамиша»; именует их светилами великими, солнцем и луною Русской земли, двумя зарями, освещающими весь мир на поднебесней, красотою церкви, похвалою мучеников, радостью праведных, веселием святителей, вертоградом эдемским и тому подобными вычурными и выспренними именами. «Не ведаю, как назвать! – восклицает он в заключение. – Ум мой не обымет подвига вашего и страдания. Подумаю, да лише руками возмахну. Как так, государыни, изволили с такие высокий степени сступить и в бесчестие вринутися? Воистину подобно сыну Божию: от небес сступил в нищету нашу облечеся и волею пострадал». Затем он уничижает себя, дабы еще сильнее выставить высоту подвига боярынь; вспоминает о великой чести Морозовых, печалится о смерти ее сына Ивана, утешает ее, что так Богу надобно, а потом, напоминая о Федоре юродивом, делает ей приведенное нами выше замечание о бабьем уме. «Мучьтеся за Христа хорошенько, не оглядывайся назад; спаси Бог… не стужите о безделицах века сего. И тово полно: побоярила, надобе попасть в небесное боярство…»
В этом же самом письме делает особую приписку Федосье Прокопьевне другой ревнитель старого благочестия – пустынник обители Соловецкой Епифаний, который, по всему вероятию, также был ее наставником во время пребывания своего в Москве.
«О светы мои, новые исповедницы Христовы!– восклицает он к ним.– Потерпим мало, да великая восприимем… Свет моя государыня! Люблю я правило нощное и старое пение. А буде обленишься на нощное правило, тот день окаянной плоти и есть не давай: не игрушка душа, что плотским покоем ее подавлять. Да переставай ты и медок попивать; нам иногда случается и воды в честь, да живем же. Али ты нас тем лучше, что боярыня? Да единако нам Бог распростре небо, еще же луна и солнце всем сияют, такожде и вся прозябающая по повелению владычню служат, тебе не больши и мне не меньши; а честь предстает. Един честен тот, кто ночью восстает на молитву, да медок перестанет, в квас примешивая, пить… Мне мнится, обленилася ты на ночную молитву, того ради тебе так говорю с веселием (т.е. шутя) о медке… Дние наши не радости, но плача суть… и ты, государыня, плачи суетного жития своего и грехов своих, понеже призвал тя Бог в домовое строение и рассуждение; но и возвеселися, егда в нощи, восстав, совершиши 300 поклонов и 700 молитв, веселием и радости духовные и меня грешного помяни тут… Еще же глаголю: аще и вси добродетели сотворишь, рцы душе своей: „Ни что же благо сотворих, ниже начах добро творити“. Нощию восставай: не людем приказуий будить, но сама воспряни от сна без лености и припади и поклонися сотворшему тя. А ввечеру меру помни сидеть; поклоны, егда метание на колену твориши, тогда главу в прямь держи; егда же великий (поклон) прилучится, тогда главою до земли; а нощию триста метаний на колену твори. Егда совершиши 100 молитв, стоя, тогда: „Слава и ныне, аллилуйя“, и тут три поклоны великие бывают…» Дальше следуют наставления также о поклонах[60]60
Письма напечатаны в приложениях к ст. «Боярыня Морозова» г. Тихонравова // Русский вестник. 1865. № 9.
[Закрыть].
Такими-то поучениями и аввакумовскими льстивыми восхвалениями постоянно ободрялись и укреплялись эти бедные женщины. С авторитетом духовного отца и его сподвижников, конечно, ничто не могло соперничать в их убеждении.
Общество тогдашней Москвы также не могло оставить этой любопытной истории без внимания. Многие соболезновали несчастной судьбе сестер. Тот же Михаил Алексеевич Ртищев[61]61
В статье г. Тихонравова сказано, что это был сын царя – Михаил Алексеевич (с. 30, 35); но у царя Алексея не было сына Михаила. Биограф Морозовой именует здесь Ртищева, не обозначая фамилии.
[Закрыть], уговаривавший прежде Морозову, приехал однажды к княгине Урусовой и, стоя у ее окна, с умилением сказал: «Удивляет меня ваше страдание; лишь одно смущает меня: не ведаю, что за истину ли терпите». Этими словами вполне обрисовывается колебание тогдашних умов, которым на самом деле трудно было выяснить себе настоящий смысл дела. Особенно же город был взволнован именно деяниями княгини Урусовой, о которых говорено выше. На наш теперешний взгляд, все эти сцены, конечно, по меньшей мере достойны сожаления. Но в век всеобщего суеверия и всяческого суесвятства дело это казалось весьма серьезным. Это была одна из форм юродства, пред которым тогдашние умы останавливались с уважением и даже с благоговейным почтением, невзирая на вопиющие несообразности подобных подвигов вообще с нравственным достоинством человека. У того века было всемогущее слово: «Христа ради», которое, хотя и понятое самым материальным смыслом, всегда освящало и покрывало эти младенчествующие представления о святости нравственных подвигов человека. Терпеть, страдать, быть гониму, уничижать себя Христа ради, в каких бы формах такие деяния ни обнаруживались, но если они почему-либо освящались великою святынею этого слова – они всегда привлекали к себе и ум, и сердце народа, воспитанного в духовной своей сфере аскетическими идеалами, вообще идеалами мученичества.
Множество вельможных жен и простых людей стекалось в Алексеевский монастырь смотреть, «како влачаху княгиню на носиле». Особенно вельможные удивлялись ей и соболезновали о ней, как о своей сроднице. Видя все это, склоняясь жалостью о страдании такой вельможной женщины, а вместе с тем смущаясь, что «сие влачение» служит еще более к прославлению ее терпения, умная игуменья монастыря обратилась к патриарху Питириму и рассказала, что у них в монастыре делается, и какова княгиня, и за какую вину сидит. С именем княгини неразлучно припомнилось и имя Морозовой. «Я вспомяну об этом царю»,– ответил патриарх. «Великий государь!– говорил он потом царю.– Советую тебе боярыню ту, Морозову, вдовицу – кабы ты изволил опять дом ее отдать и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал, а княгиню тоже бы князю отдал; так бы дело-то приличнее было; потому что женское их дело: много они смыслят». «Я бы давно это сделал,– ответил государь.– Но не знаешь ты лютости этой жены. Нельзя тебе и рассказать, сколько она мне наругалась и теперь ругается. Кто мне столько зла и великого неудобства показал? Если не веришь моим словам, сам испытай; призови и вопроси, тогда узнаешь ее крепость. Как начнешь ее испытывать, тогда вкусишь ее прясности. А потом я исполню все, что повелит твое владычество: не ослушаюсь твоего слова».
Видимо, патриарх, а вместе и царь желали покончить это дело, смущавшее всю Москву. Опять в два часа ночи взяли Морозову и с юзами и, посадив на дровни, повезли в Чудов монастырь под охраной стрелецкого сотника. В соборной палате были патриарх, митрополит Павел и иные власти и «от градских начальник не мало». Предстала Морозова, нося на выи оковы железны. «Дивлюсь я, как ты возлюбила эту цепь и не хочешь с нею разлучиться», – сказал ей патриарх. Обрадованным лицом и веселящимся сердцем ответила она: «Воистину возлюбила, и не только просто люблю, но еще и не довольно насладилась вожделенного зрения сих оков. Как могу не возлюбить их! Такая я грешница и для Божией благодати сподобилась видеть на себе, а вместе и носить Павловы узы, да еще за любовь Единородного Сына Божия». Патриарх стал увещевать ее, говоря, чтобы оставила свое безумие и нелепое начинание, пожалела бы себя, не возмущала бы своим противлением царскую душу и присоединилась бы к Церкви, исповедавшись и причастясь Св. Тайн. «Некому исповедаться и не от кого причаститься», – отвечала Морозова. «Попов много на Москве», – сказал патриарх. «Много попов, но истинного нет», – возразила Морозова. «Я сам на старости потружусь о тебе, сам тебя исповедаю и причащу», – продолжал патриарх. Морозова отреклась и от этой высокой чести, сказав: «Ты мне говоришь: сам, но я не понимаю, что ты говоришь. Чем ты от них отличен, если творишь то же, что и они. Когда ты был Крутицким митрополитом, жил заодно с отцами предания нашей Русской земли и носил клобучек старый, тогда ты был нам отчасти любезен; а теперь ты восхотел волю земного царя творить, а Небесного Царя и Создателя своего презрел и возложил на себя рогатый клобук римского папы; и потому мы отвращаемся от тебя. И не утешай меня тем словом: „я сам“! Я не требую твоей службы».
Во все время этой беседы Морозова не хотела стоять пред властями; ее поддерживали сотник стрелецкий и стрельцы; она висла у них на руках и в таком положении говорила с патриархом.
Все обнаруживало болезненное расстройство ее ума, – так, по крайней мере, это понял патриарх и решился в исцеление помазать ее священным маслом, «да прийдет в разум, се бо, якоже видим, ум погубила». Патриарх облачился и готовился совершить помазание. Но Морозова, увидав его намерение, встала на ноги и приготовилась, «яко борец». Митрополит хотел приподнять треух на ее голове, дабы удобнее было намазать, но она отринула его руку и воскликнула: «Отойди, зачем дерзаешь неискусно, хочешь коснуться нашему лицу? Наш чин можно тебе разуметь». Отринув помазание, она вопила к патриарху: «Не губи меня, грешницу, отступным своим маслом! – и, позвяцав цепями, продолжала: – Для чего эти оковы? Я, грешница, целый год их ношу именно потому, что не повинуюсь, не хочу присоединиться ни к чему к вашему. А ты весь мой недостойный труд одним часом хочешь погубить. Отступи, удались; не требую вашей святыни никогда».
Биограф рассказывает и, конечно, баснословит, что после того ее назвали исчадием ехидниным, вражьею дочерью, страдницею, что не для чего ей больше жить, наутро страдницу в сруб… Будто бы затем повергли ее на землю, так что, казалось, «голова ее раскочится; что поволокли ее по полате, чаять, что железным ошейником шею ей надвое перервут и главу ей с плеч сорвут; что по лествице все ступеньки она главою своею сочла». На тех же дровнях ее привезли обратно на подворье в девятом часу ночи.
В ту же ночь и тем же порядком происходило увещание княгини Урусовой и Марьи Даниловой, причем, по рассказу биографа, «трихраборница княгиня, отрицаясь помазания маслом, еще дивнейши сотвори». Увидя патриарха, идущего к ней с масляною спицею, она мгновенно сняла со своей головы покрывало, опростоволосилась и воскликнула: «О бесстуднии и безумнии! Что вы делаете? Не видите разве, какова я есть?», т. е. в каком срамном виде, и тем устыдила властей и миновала помазания.
На другой день, в два часа ночи, они все три, вероятно, порознь, были перевезены на Ямской двор. На том дворе было собрано множество людей. Посадили их в избе темной и тесной, так что сначала, сидя по углам в темноте между множеством народа, они и не знали, что находятся вместе в одной избе. Они догадывались, что привезли их на пытку, но думали также, что, может быть, хотят послать их куда-нибудь в заточенье. Под конец Морозова поняла, что их ожидает непременно пытка и, проведав, что и родная ее двоица находится тут же, а между тем невозможно беседовать с ними и укрепять их на терпение, подала им знак, позвяцав оковами и сказав мысленно: «Любезные мои сострадальницы! Вот и я тут с вами. Терпите, светы мои, мужески и обо мне молитесь». Княгине она смогла даже и руку протянуть сквозь утеснение людское и сжала ее руку весьма крепко, говоря: «Терпи, мать моя, терпи».
Их начали пытать. У пытки присутствовали князь Иван Воротынский, князь Яков Одоевский, Василий Волынский. В первых была приведена к огню Марья Данилова: обнажили ее до пояса, руки назад завязали и подняли на стряску и, снем с дыбы, бросили на земле. Потом повели княгиню. Увидав, что треух ее покрыт цветною тканью, крикнули ей: «Зачем так делаешь? Ты в опале царской, а носишь цветное!» – «Я пред царем не согрешила», – отвечала княгиня. Покров с треуха содрали и бросили ей один испод (подкладку). Точно так же и ее обнажили до пояса, подняли на стряску с завязанными назад руками и, сняв с древа, вергоша на землю тут же, подле Даниловой. Напоследок привели к огню и Морозову. Начал говорить ей князь Воротынский многая словеса: «Что это ты делаешь: от славы в бесславие пришла? Подумай, кто ты и от какого рода! Все это приключилась тебе от того, что принимала в дом Киприана и Федора юродивых и прочих таковых; их учения держалась, потому и царя прогневала».
Отвечала Морозова: «Невелико наше благородие телесное и слава человеческая суетна на земле; и все, о чем ты говорил, все это тленно и мимоходяще. Послушай, что я скажу тебе: помысли о Христе, кто Он и чей Сын и что сотвори; если не знаешь, я расскажу тебе: Он Господь наш, Сын Божий, оставивший небеса для нашего спасения и живший во плоти на земле всегда в убожестве; после распят был от жидов; так и мы все от вас мучимы. Тому ты не удивляешься; а наше мученье есть уже ничто».
Тогда власти повелели ее связать: «рукавами срачицы ее увиша поконец сосец и руки на опако завязав», повесили на стряску. Она не умолкла и укоряла «лукавое их отступление». За то держали ее на стряске долго, и висла с полчаса, и ремнем руки до жил протерли. После сняли ее и положили рядом с сестрами. На снегу нагими спинами с выломанными назад руками лежали они часа три. И иные казни им творили: «плаху мерзлую на перси клали и, устрашая, к огню приносили, хотя жечь». Данилову, кроме того, положили при ногах Морозовой и Урусовой, били в пять плетей немилостиво, в две перемены, первое – по хребту, второе – по чреву. Думный дьяк примолвил при этом боярыням: «Если и вы не покаетесь, и вам то же будет». Морозова, видя бесчеловечие, и многие раны на Марии, и кровь текущую, прослезилась и сказала дьяку: «Это ли Христианство, чтобы так человека мучить!»[62]62
Сказатель жития между прочим присовокупляет: «Мария же по престатии биения, полотенцо, водя по спине своей, все смочила кровию и посла Иоакинфу своему (мужу). В третий же день со спины струпие велие спадоша, яко чешуя, и просиша у нее мученицы и не хоте дати за смирение; последиж, принуждена, даде им и прочим…»
[Закрыть] Наконец, в десятом часу ночи, развели их по своим местам.
Наутро «сотвори царь сидение думати о них», а на Болоте сруб поставили, потому что в Думе предлагали Морозову предать сожжению, да бояре не потянули; а Долгорукий малыми словами да многое у них пресек. Между тем боярыня готовилась уже к смерти: три дня не ела хлеба и воды не пила. А мати Мелания на Болоте у сруба была и, пришед в тот же день к боярыне, целовала язвы рук ее и говорила: «Уже и дом тебе готов, вельми добре и чинно устроен и соломою целыми снопами уставлен; уже отходишь ты к желаемому Христу, а нас сиротами оставляешь!» Морозова благословилась у ней. Мать с рыданиями ушла от нее и направилась к Урусовой. Там, у окна стоя, смотря на княгиню и обливаясь слезами, она причитала: «Гостьи вы у нас любезные! Нынче или завтра вы пойдете ко Владычице; но обаче идите сим путем, не сомневаясь. Когда предстанете престолу Вседержителя, не забудьте и о нас в скорбях наших». Но мы видели, что сожжение, если оно и в действительности предполагалось, не должно было совершиться, потому что бояре не потянули.
Через три дня после пытки царь присылал будто бы к Морозовой стрелецкого голову с такими словами: «Мати праведная Федосья Прокопьевна, вторая ты, Екатерина мученица! Прошу тебя я сам, послушай совета моего, хочу я тебя в прежнюю твою честь возвести; дай мне такое приличие, ради людей; чтоб видели, что недаром тебя взял: не крестися тремя персты, но только, руку показав, поднеси на три те перста. Мати праведная Федосья Прокопьевна, вторая ты, Екатерина мученица! Послушай, я пришлю за тобою каптану свою царскую (возок) и с аргамаками своими, и придут многие бояре и понесут тебя на головах своих. Послушай, мати праведная! Я, сам царь, кланяюся главою моею, сделай это».
Конечно, такое посольство есть чистая выдумка, но оно-то и показывает, что со стороны государя и властей употреблены были на самом деле все мягкие и кроткие меры, чтобы убедить Морозову и вывести ее из заблуждения. Однако ж ничто не действовало и она постоянно отвергала все предложения покинуть свое безумие. Насчет каптаны и аргамаков она ответила: «Поистине эта честь мне не невелика. Было все это и мимо прошло, езживала в каптанах и в каретах, на аргамаках и бахматах… Вот, что для меня велико и поистине дивно – если сподоблюсь огнем сожжения в приготовленном вами срубе на Болоте. Это мне преславно, ибо этой чести никогда еще не испытала…»
Ее перевезли в Новодевич монастырь, подальше от города, чтобы отлучить ее от своих, и велели держать под крепким началом и влачить к церковным службам. В этом случае, подобно Урусовой, и боярыня велие мужество показала и привлекала многих к зрелищу своего терпения.
В Новодевичьем монастыре повторились те же сцены, что и в Алексеевском. И сюда приезжали любопытствовать под видом мольбы такое множество вельможных жен, что монастырь бывал заставлен рыдванами и каретами. А кто был надобен и любезен Морозовой из своих, и здесь нашел к ней прямую свободную дорогу: «прихождаху к ней и утешаху страдальческое ее сердце».
Вскоре, однако ж, чтобы и здесь прекратить вельможные приезды, царь повелел перевезти ее снова в Москву, в слободу Хамовники, к старосте на двор; а тот ей обрадовался радостью великою, потому что, вероятно, был такой же ревнитель древнего благочестия. И наставница Мелания, и служительница Елена сюда ходили еще свободнее и ликовали сообща, со многими слезами.
Нет никакого сомнения, что единомышленники Морозовой не переставали действовать за нее и во дворце. Для них очень важно было, если она, такая сановитая и известная особа, запечатлеет мученическою публичной смертию, каково, например, сожжение в срубе, свою преданность «старому православию», древнему благочестью; не менее важно было и то, если она останется хотя бы и опальною, но все-таки знатною боярынею, которая так твердо стоит за это благочестие. Тогда в ее лице и ее связями они всегда находили бы себе необходимую поддержку. Возвратить Морозовой ее старое положение, при дворце и в обществе, с сохранением всего смысла ее новой роли, было, как можно полагать, немалою заботою всех ревнителей упомянутого благочестия. Их ходатайства проникли наконец в терем царевен. Старшая сестра царя Алексея, царевна Ирина Михайловна, начала по праву старшей сестры дятьчить царю о Морозовой: «Зачем, братец, не в лепоту творишь, – говорила она, – и вдову эту бедную помыкаешь с места на место. Нехорошо, братец. Достойно было попомнить службу Борисову и брата его Глеба (бояр Морозовых)». Он же, зарыча гневом великим, ответил: «Добро, сестрица, добро. Коли ты дятьчишь об ней, тотчас, тотчас готово у меня ей место». Хорошо понимая, вероятно, в чем дело, он повелел перевести страдалицу в Боровск в жестокое заточенье. Ее посадили там в острог, в земляную тюрьму. Но и здесь она встретила одну из своих, инокиню Иустину, за то же страдавшую. Вскоре потом в эту же тюрьму перевели и княгиню Урусову и Марью Данилову – и бысть им всем совершенная радость, которая могла поддерживаться еще и тем, что и в этом жестоком заключении они все-таки постоянно сообщались со своими. Муж Даниловой, Акинф, помогал им тем, что стрелецких сотников, которые отправлялись из Москвы их караулить, он зазывал прежде в свой дом и ухлебливал (и угощением, и дарами), чтобы не свирепы были; кроме того, он посылывал в Боровск своего племянника Родиона, который в темнице бывал множицею. И другие многие там бывали, как, например, Елена. И наставница Мелания не однажды посетила заключенных. Сюда явилось к ним и новое послание Аввакума, написанное даже по образцу посланий апостольских. Изобразив преждебывшее красное, но тленное житие боярыни, он останавливается с новыми восхвалениями на настоящем ее подвиге, превозносит их терпение на пытке: «Что воздам вам, земнии ангели, небеснии человецы?», снова называет их выспренними именами, святыми, блаженными, мученицами, исповедницами, столпами непоколебимыми, камениями драгими: акинфом, измарагдом, асписом; трисиятельным солнцем, немерцающими звездами и т. п. и заключает: «Ну, госпожи мои, светы! Запечатлеем мы кровию своею нашу православную христианскую веру со Христом Богом нашим, Ему же слава во веки. Аминь».
Вскоре лукавый позавидовал; начальники узнали обо всем и прислали указ разыскать: кто к ним ходит и как доходят. Памфила некоего, боровитина, пытали, спрашивали, где Родион, а Памфил ничего не открыл. Однажды, лежа в крови его текущей, он говорил своей жене: «Агрипина! Теперь хорошо стало, свободно, отнеси светам тем поскорее луку печеного решето». Вот какие были его вины. Памфила с женою после сослали в Смоленск.
Между тем Родион со стрелецкими сотниками не переставал помогать узницам, доставляя случаи видеться со своими. Часто они тосковали по наставнице. Морозова, чувствуя скорый конец своему подвигу, писала к ней: «Умилосердися, посети в останошное (время)!» Просила ее взять с собою и большего брата, который составил и сказание о ее жизни.
Это было 11 генваря. Они пришли в 3 часа ночи. С несказанною радостью встретила их Морозова, называла по этому случаю тюрьму свою «пресветлою темницею», а наставницу именовала равноапостольною и апостолом. Говорила: «Зачем, свет моя, нас, птенцов своих, надолго не посещаешь; невозможно нам без твоего наказания жизнь свою добре правити!» – и лобызала ее руку. Беседовали они с нею всю ту ночь. На рассвете брат большой и Родион ушли, а Мелания с Еленою остались на весь день. На другой вечер мужчин опять должен был провести к ним сотник, но сотник не пришел; это их обеспокоило, однако в полночь они нашли возможным явиться в тюрьму, где на прощанье учительница сказывала поучение. На этот раз она делала за что-то им упреки, просила исправиться; какие-то узы брани бесовской их связали. Быть может, они слабели уже в своей настойчивости и помышляли о возвращении к своему прежнему положению. «Если не освободитесь от этих уз, – окончила наставница, – то не помогут вам и ваши железные узы». Когда говорила им наставница, Морозова держала ее левую руку, а Урусова – правую, и, плача, они непрестанно лобызали эти руки.
Видя все это, сам сказатель жития дивился их разуму, особенно любви и терпению боярыни Морозовой, как она смирялась, слушая поучение; а не повинна ни в чем же, прибавляет он в заключение.
Так прошла зима. Но в Москве узнали это послабление стрелецкого караула: воскури дьявол бурю велию. На Фоминой неделе был внезапно прислан подьячий Павел. С великою свирепостью придя в темницу, он обобрал все у заключенных, всякие потребы: и брашно-снедно, самое скудное, лишние одежды, малые книжицы, самые иконы, писаны на малых досках, – все отнял. Был большой розыск между стрельцами о том, кто носил в тюрьму потребное, кто допускал приходящих. Иные повинились, что и сами носили, и приходящих пускали. И были сотникам беды великие. О Петрове дни был прислан разыскивать дьяк Кузмищев, который Иустину сжег в срубе, а для боярынь устроил новую темницу, выкопав ее в земле еще глубже первой; Марью же Данилову перевел в тюрьму, где злодеи сидят.
С этого времени прерваны были их сношения с единомышленниками и заключение их в действительности стало лютым и жестоким.
Они сидели в глубокой темнице, во тьме несветимой; страдали от задухи земные; от спершегося земного пару делалась им тошнота; сорочек ни переменять, ни мыть было нельзя; в верхней худой одежде, которую нельзя было скидать от холода, развелось множество насекомых, не дававших им ни днем покою, ни ночью сна. Не оставлено было им даже и четок или лествиц, взамен которых они навязали 50 узлов из тряпиц и по тем узлам, обе на переменах, совершали свои изустные молитвы. Давали им только пищу, «премудрости учительницу, сиречь зело малу и скудну»: когда сухариков пять-шесть дадут, тогда воды не дают пить; а когда пить дадут, тогда есть не спрашивай… Иногда яблоко одно или два подадут, иногда огурчиков малую часть; но это делали уже из жалости стрельцы, да и то тихонько друг от друга.
Среди таких лишений княгиня через два с половиною месяца скончалась. От великого голода она совсем ослабела, не могла ни цепи носить, ни стула цепного двинуть; стоя не в силах была молиться и молилась, лежа или сидя. Пред смертью она просила сестру отпустить ее по закону христианскому: «Отпой мне отходную: что ты знаешь, ты говори, а что я припомню, то я сама проговорю». И обе они служили отходную одна над другой, мученица над мученицею в темной темнице отпевала канон; узница над узницею изроняла слезы, одна в цепи, возлежа и стоняше, другая в цепи предстоя и рыдаше.
В Москве думали, что со смертию сестры Морозова, быть может, оставит свое безумие и возвратится на путь истины. С этою мыслью послали к ней инока-старца увещевать ее. «Доблестный же адамант», услышав намерение инока, покачала головою и, глубоко вздохнув, сказала ему: «О глубокое неразумие, о великое помрачение! Как вы не поймете этого: когда я и в дому своем была, живши во всяком покое, и тогда не хотела пристать к вашей лжи и нечестью, держалась крепко Православия; не пожалела не только имения, но не устрашилась пойти и на страдание о имени Господни. Потом и в начале моего подвига, когда меня заковали и многое уничижение мне показывали, я не отступала. Ныне ли, когда я вкусила столько сладких подвигов, хотите меня отлучить от доброго и прекрасного моего Владыки. Уже четыре года ношу эти железа, и радуюсь, и не перестаю лобызать эту цепь, поминая Павловы узы. Вслед за моей возлюбленной сестрой я и сама готовлюсь скоро отойти туда. Отложите всю надежду отлучить меня от Христа. И не говорите мне об этом. Я готова умереть о имени Господни».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































