Текст книги "Дети"
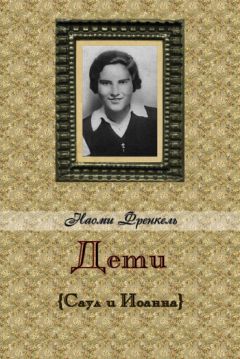
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц)
– Маскарад? Ты уже как-то упоминала маскарад, – лицо его все еще хмуро, а на ее лице выражение, как будто она проиграла в войне за его любовь: он ее не понял!.. – Еще немного, Белла, сиди, дай дочитать письмо.
«... Дорогой отец, я посмотрел на часы. Всего-то прошел час. До этого я был с тобой в кабинете деда, в беспорядочном окружении старых вещей. Есть у них душа, у этих вещей, отец, душа поколений, которым дано был жить в покое, собирать вещь к вещи, сидеть на мягких диванах и оставить в наследство детям, вместе с вещами, их души, полные покоя и уверенности в себе. Ты хочешь оставить мне в наследство большое имущество. Но у меня нет дома, отец, вся вылинявшая роскошь твоих вещей вызывает в моей душе чувство глубокой жалости. Меня сильно мучает желание вернуться к тебе немедленно, погрузиться вместе с тобой в глубокие пролежни старых диванов, вдохнуть запах моли и старости, пыль поколений, собравшуюся в твоем доме, побыть среди вещей, на которых потерлась краска старинного серебра. Я вышел из твоего дома на улицы Берлина в поздний час, шел снег, и ветер свистел на улицах, бурлящих от демонстраций. Под холодным небом гремели в марше сапоги, люди вопили и визжали, резиновые нагайки взлетали, полицейские машины гудели, листовки и плакаты взывали со всех стен. Карета, которая везла меня на вокзал, без конца останавливалась. Всю дорогу я был в гуще столкновений. Дорогой отец, я отчетливо понял, что сидение на старых продавленных диванах, не более, чем добрая иллюзия. Судьба моя мне не принадлежит, она в руках бунтующих улиц, судьба мира вырывается из нормальных своих рамок. Я родился накануне войны, и вся моя жизнь – война. Дорогой отец, как я смогу выполнить свои обещания, как я смогу получить наследство и хранить красивые и дорогие вещи? Сомневаюсь, что в наши дни возможно сынам получить наследство, а отцам – наследовать. Ты можешь, конечно, все передать мне в наследство, но только не покой и уверенность тех дней. И если их души и покоя нет, старые и прекрасные вещи превращаются в рухлядь...»
– Не будет публичной продажи! – закричал доктор.
– Но что вы сделаете со всем этим? Вы же не сможете все увезти в Израиль. Все рассыплется по дороге!.. – Доктор удивленно смотрит на Беллу. Не к ней был обращен его крик.
Он начисто забыл о ее присутствии, снова вскакивает со стула и начинает ходить по комнате, и Белла не может понять, почему он разгневался.
– Рассыплется! Откуда ты знаешь? Ничего не рассыпается. Существовали до сих пор, существовать будут и в будущем. Хочешь освободить меня от моих вещей? Так, Белла?
– Ну, зачем вам все это? – Белла смотрит на восковую куклу с рыжими волосами.
Он останавливается около куклы, словно собирается встать на ее защиту, обводит рукой все пространство своего кабинета и провозглашает:
– Не будет здесь публичной продажи!
– Нет, – Белла силится улыбнуться, – не будет. Барбара останется здесь сторожить ваши вещи со всеми бесами и привидениями в ваших ящиках.
– Ты презираешь ценность вещи, как все молодые. Нет ничего святого, нет прошлого, нет традиций. Нет наследия отцов, только гонка во тьме по узким рельсам.
– Доктор, почему вы так сердито со мной разговариваете?
– Потому что здесь нет никакого мелкобуржуазного имущества!
– Ничем оно не отличается от имущества моих родителей.
– Как ты можешь такое сказать? – Голос его рвется в бой, как голос Барбары, когда она подозревала Беллу в связи с Мефистофелем.
Черви в мясе, селедка, Филипп и Мадонна под зелеными пальмами, лысая гора, кишащая камнями, Барбара со своим бесами и привидениями, гневающийся доктор, печенья Барбары, все это закружилось в сумасшедшем круговороте, и она закричала:
– Как? Ну, как вы можете требовать от меня уважение к этим, кто за большие деньги купил здесь чужую культуру, двести лет носил чужую одежду, и носил ее, пока моль не начала ее съедать, и она превратилась в пыль? Всегда делали из своего прошлого пуримские маскарады. Праотцы ваши достигли высот, и мои родители превратились из нищих в богатых. На всех ваших вещах здесь двухсотлетняя пыль, и они в свое время не были менее уважаемы, чем сегодня, у моей матери. Когда они состарятся через двести лет, кто-то придет и потребует от потомков уважения к традициям, выраженным кружевными подушками, подобно тому, как Барбара требует уважения к кудрявой кукле. Я не хочу этого, доктор! Ни я, ни мой сын, не будем хранителями этих мелкобуржуазных коллекций. Я не хотела родить ребенка здесь, потому что больше не верила Филиппу, что он вместе со мной репатриируется и оборвет связь с этой фальшивой жизнью, со всеми поколениями, носившими маску.
Замолкла. Никогда не признавалась доктору, что отец ребенка, которого она не представляла мужем, Филипп Ласкер, добрый его друг.
– Филипп? – изумился доктор. Не сразу понял сказанное ею. Конечно же, он должен был подойти к ней, положить руку на ее опущенную голову, но остался погружен в собственные проблемы. Потому он ухватился за какую-то незначительную деталь, и голос его смягчился:
– Тебе надо было несколько уменьшить использование слова «мелкобуржуазный»...
«...Поезд остановился здесь на двадцать минут. Я поспешил в зал ожидания. Привлекла меня несущаяся оттуда песня. Ты, конечно же, помнишь эти строки – «Там, где песню поют, ты погрузишься в уют, не взметнет лишь песня прах в траурных шатрах». Но только я открыл дверь, как песня ударила мне в лицо:
Ицик, Сара и Рахиль,
Мерзки и голы вы.
Палкой я размозжу в пыль
Ваши головы.
Это не было направлено против меня! Не было в зале ни штурмовиков, ни представителей других партий. Это было обычное объединение певцов, простых граждан, мужчин с женами, которые возвращались со свадьбы, и никак не могли прекратить пение. Гостеприимно встретили меня, пригласили сесть с ними, и чувствовал я себя, как дома. Слева от меня сидел мужчина, весьма похожий на Айзенберга, но не был богатым промышленником, как тот, а владелец лавки по продаже бюстгальтеров и корсетов. Лицо не столь тощее и тело не столь худое, как у господина Айзенберга, наоборот, огромное брюхо, так, что его черный костюм, который он надел по случаю свадьбы, узок и словно с чужого плеча. Но слова цедил точно так же, как господин Айзенберг. Мы тут же чокнулись во имя возрождения и величия Германии. Это сейчас в моде. Ни одна свадьба не обходится без Германии и без чаяний ее возрождения. Глаза моего соседа, полные скрытого чаяния, не отрывались от соседки, сидящей справа от меня. Она была огромной, воистину, гора розового мяса. Сосед слева просто выходил из себя, и с сильной тоской в голосе шептал мне на ухо: «Только деньги важны! Только деньги!» И тут же встал и зычным голосом провозгласил тост за величие Германии. Я глажу руку женщины слева, она улыбается мне, мы чувствуем расположение друг к другу. Дорогой отец, я, твой Ганс, мягкий, со сложной запутанной душой, который никогда не осмеливался смотреть в лицо женщины, и не было в нем иной страсти, кроме желания умереть, я, Ганс, глажу полную розовую женскую руку с большим удовольствием. Я кричу, посмеиваюсь, напеваю, толкаю локтем под ребро соседа слева, пока он внезапно не встает, вперяет в меня ревнивый взгляд и начинает выкрикивать: «Кровь должна литься в нашей стране! Смерть врагам народа! Смерть евреям!» Он требует от меня поддержать его тост, чокнуться с ним рюмками. Я не сделал этого. Помнишь, отец, место Айзенберга в моей жизни: он вернул тебя к жизни тогда, на кладбище нашего города. Теперь он это сделал вторично. Я закричал: «Нет!» Сосед ответил: «Да!» И женщина около меня была уверена, что наш спор из-за нее и закричала тоже: «Но молодой человек, оставьте его, молодой человек!» Тут все остальные открыли рты, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не послышался голос на перроне: «Занять места в вагонах! Немедленно!» Тут же сосед отстал от меня и подал голос, как билетер на перроне: «Объединение, вперед!» И я остался один. Шел за объединением к поезду, но я же медлителен так же, как ты. Мой друг Дики Калл, всегда говорил: ты ступаешь на своих тяжелых ногах с очень серьезным лицом, словно говоришь: чего мне торопиться, ничего хорошего мне не предвидится...» Мой друг Дики здесь сбоку припека, но это семейное качество сильно мешало мне на станции, ибо я заскочил в поезд в последний момент. Сидел в вагоне, отдуваясь, весь в поту, пока немного не пришел в себя, и продолжал гонку во тьме пространств Пруссии. Ничего меня не трогало. Колеса выстукивали: «Ну и что, ну и что, ты покидаешь твою страну, отец покидает твою страну. Оставляем Германию навсегда. Дики ждет меня в порту».
Дорогой отец, я, слепец, вдруг я увидел в глубокой тьме ночи с абсолютной ясностью несущееся железнодорожное полотно. Оно продолжало гонку от пыльного твоего дома ко мне, и далее, к Дики, ждущему меня в порту. И затем возвращалось из порта обратно к тебе...»
Письмо выпало из рук доктора, и нечаянная радость осветила его лицо. Он смотрит на Беллу с любовью. И она, которая раньше не поняла его гнев, теперь не понимает этой любви. Ей надо с ним откровенно поговорить о странном его поведении сегодня. И она уже собирается открыть рот по этому поводу, но доктор ее опережает.
– Белла, послушай, пожалуйста, – он берет письмо и читает ей: «...Дики и я вышли искать место жизни. Прекрасно! Вундерфул! По сути, мы пытаемся вылезть вон из собственной шкуры, высвободить из нас наши изорванные души. Дики человек практики, ищет покой своей душе в реальных деяниях. Просто говорит мне: Ганс, хватит пустых мечтаний! Основы новой физики – они, как мечта. Чудесная техника решит все мелкие человеческие проблемы, и, таким образом, освободит человек от всех его забот и мелких и низких страстей. Но, дорогой отец...»
– Отец! – вскрикивает Белла.
– Да, Белла. Он приезжает!
– Он приезжает! – мигает Белла, вспомнив голос Барбары: «Он пришел! Он пришел!»
– Что ты так разволновалась, Белла? Мой сын приезжает. После многих лет возвращается ко мне. Письмо – от моего сына.
– Доктор – говорит Белла с новым дыханием, – Знали бы вы? Это ведь реальное дело, а не привидения? Знали бы вы, доктор? Барбара рассказала мне, что «он пришел» или приходит, но имела в виду не вашего сына, а старого господина, вашего отца. Душа его, сказала она, вернулась в дом, освободить ваш дух.
– Хочешь до конца выслушать письмо моего сына?
– Да, доктор.
«Но, дорогой отец, я ведь не Дики. Может, мои боли более сложны, чтобы в них вникнуть, может, у меня более тяжелое наследство. Дики рос в Америке. Я – в Германии. Я не могу найти себе покоя, если надежда моя не будет целостной, и мечта – завершенной. Я не совсем верю в то, что человек, освободившийся от материальных проблем, освободится от власти материального и станет человеком духа. Нет, отец, твоя мечта меня более очаровывает. Новая техника, чудесная, которая будет служить новому обществу, совершенно другому, чем общество, существующее сегодня... Это целостная надежда, совершенная мечта. Но я не могу ощутить целостность твоей мечты, отец. Не могу я сойти с поезда, вернуться к тебе и написать Дики прощальную открытку. Я человек, лишенный цельности, я – гибрид, и освобождение мое в слиянии всех моих мечтаний. Отец, если я смогу стать настоящим твоим помощником, только так мы сможем снова встретиться. Сотворим новую землю, создадим общество без материальных проблем или голода».
– Голода! – вскрикивает Белла, и тут же понимает, что проговорилась. – Все проблемы возникают от голода. И все измены. Из-за голода человек предает своих лучших друзей.
– Что ты знаешь о голоде, Белла?
– Я не знаю? Доктор! – и снова она сворачивается в кресле.
– Вы там испытываете голод? – потрясен доктор. – Почему ты мне это не рассказала?
– Почему? Чтобы вы не предложили нам пожертвования... Потому что... Нельзя строить новое общество с сытом брюхом. Надо тренироваться сдерживать тягу к материальным благам. Тренироваться!
– Маленькая моя бессребреница, воительница с мелкой буржуазией, – наклонил доктор Блум голову над Беллой.
Глава девятая
Большие цифры на циферблате будильника светятся в сумраке, и ритм его буднично однообразен, но не он разбудил Эрвина, а плач ребенка в соседней комнате. Эрвин шарит по соседней подушке: Герда пошла к ребенку. Подушка еще хранит ее тепло. Эрвин вскакивает с постели, стужа и темнота комнаты охватывают его. Огонь в печке погас. Эрвин включает свет, спрашивает:
– Что случилось?
Ребенок замолк. В толстом халате, уродующем ее фигуру, возвращается Герда с чашкой горячего чая, которым она напоила ребенка.
– Ребенок болен.
– Что у него?
– Он весь горит.
– Вызови врача.
– Мать придет и займется им. Попрошу ее вызвать врача.
– Лучше бы ты сегодня осталась дома, Герда.
– Не могу. Именно сегодня утром важное заседание.
Эрвин выключает звонок будильника. Ныряет в подушку и закутывается в одеяло.
– Тебе надо вставать.
– Нет. Сегодня я выйду позже.
– Почему?
Он не отвечает. Не хочется ему рассказывать ей, что вчера оставил велосипед в трактире, потому не сможет добраться до площади Александрплац до шести часов, где рабочих металлургической фабрики ждет грузовик, чтобы везти их на работу. Трактир не откроется раньше шести.
– Ложись, Герда. Отдохни немного, любимая.
– Нет. Мой день уже начался.
С трудом, устало, она тянет ноги. Он опирается на локоть, следит за нею, пока она не исчезает в дверях. Их сближение вчера, очевидно, ничего не значит. Он вскакивает с постели, бежит к погасшей печи, нервными движениями заталкивает в нее дрова и уголь. Герда вернулась в комнату и смотрит на него скучным взглядом. Он слышит ее шаги, но не оборачивается к ней.
– Встал? – говорит она. – Я приготовлю завтрак. – Уходит из комнаты. Он все еще не оборачивается. Из кухни доносится стук посуды, он торопится в ванную. Возвращается к накрытому столу, за которым уже сидит Герда, в закрытом темном вечернем платье, без всяческих украшений, придающем чрезмерную серьезность ее лицу. Эрвин усмехается.
– Ребенок крепко спит, – мягко говорит Эрвин.
– Я дала ему таблетку, чтобы снизить температуру.
Он отпивает глоток чая, и она делает то же самое. Оба молчат. Вскинув голову, она всматривается в его лицо. Часы стучат, ветер бьет в стекла окон. Тонкий лучик сумрачного рассвета вползает в комнату.
– Герда, что случилось? – Эрвин не в силах больше сдерживаться. – Почему у тебя с утра такое мрачное настроение? – Глаза его скользят поверх ее головы в сторону кроватки в углу и возвращаются к ней. Она краснеет:
– Я думаю о серьезных вещах.
– Конкретней, Герда, – сухость ощущается в его голосе, – что с тобой?
– Я не сказала, что вчера тебя здесь ждали товарищи, чтобы пригласить на партийный суд. Ты не явился, и они оставили тебе письменное приглашение.
– Когда?
– В воскресенье утром. В здании партии.
– Хорошо. Я буду там.
– Я пыталась это отменить, – вскрикивает она, глядя в его равнодушное лицо.
– Это почему же? Суд важен для меня, – он наливает себе еще одну чашку. Ест с большим аппетитом. – Ты почему не ешь, Герда? – Свет лежит на ее светлых волосах. – Сегодня у тебя красивые волосы, Герда.
Она вскидывает голову и вскрикивает:
– Что с тобой происходит, Эрвин? Ты... ты как будто не понимаешь смысл происходящего.
– Я очень хорошо понимаю.
Она не отрывает взгляда от его лица, которое еще никогда не было таким холодным. Как будто наступил конец чему-то, и все тело ее сковано. Она знает, что эти минуты решают их судьбу. Если она даст ему уйти, он больше не вернется. Ночью он всеми силами боролся за ее душу. И она сдалась, вселила в него надежду, нырнула в жар его любви, как в глубокий водоворот, откуда они никогда не вернутся. Он счастливо заснул рядом с ней. Утром она проснулась в испуге. Стояла у кроватки зашедшегося в плаче ребенка, чувствуя, как все проблемы вернулись и навалились ей на плечи. Он знала, что ничего не изменилось, и вражда поднималась в ней против самой себя из-за иллюзий, которые проснулись в ее сердце. Надо было одним махом освободиться от всех этих иллюзий. Лицо ее стало замкнутым и холодным сильнее, чем она того желала. Минуту колебалась: может пойти к нему, вернуться навсегда? Все зависит от нее. Она видит в его ожидающем взгляде, что он все еще готов ее принять. Она не знает, откуда в ней силы – принять быстрое решение. Не она решает. Судьба предопределена. Она не пошла к нему. Ясно прочла на его лице разочарование, которое выше его сил.
– Не знаю, вернусь ли я ночью, Герда. С фабрики поеду вместе с Гейнцем к нему домой. Вечером у них традиционная встреча друзей покойного господина Леви. Из-за забастовки транспортников я не смогу вернуться сюда. Если ребенку станет хуже, позвони. Попрошу Гейнца подвезти меня домой.
– Нет, нет, – отвечает она сдавленным голосом, – не думаю, что ему станет хуже. Ты же знаешь, у него быстро повышается температура и так же быстро понижается.
Он протягивает ей руку на прощание, но она не касается ее, словно боится потерять последние силы и не совладать с собой.
– Эрвин, – вскакивает она со стула, – ты нашел в ящике целые носки? Подожди пару минут, я заштопаю тебе пару теплых носков.
– Нет, Герда, – улыбается он, – я уже привык к дырявым...
Надевая пальто в коридоре, он не смотрит на нее. Сумрак защищает их друг от друга. Он берется за ручку двери, так и не протягивая ей руку.
– Эрвин, – останавливает она его, где твой головной убор? Как ты выйдешь без него в такую стужу?
Он и шапку забыл в трактире. Но без всякого желания вспомнить даже малым намеком вчерашний вечер, отделывается общими словами:
– Потерял шапку. По дороге куплю новую.
– Нет, так ты не выйдешь. Возьми белый шарф с вешалки и закутай им голову.
– Но, Герда, – смеется Эрвин, – я же буду похож на клоуна в женском шарфе.
– В такие дни люди закутывают головы любой вещью, – она силой всовывает ему руку шарф.
– Спасибо, – и он захлопывает дверь.
Тело ее каменеет, и она, вернувшись от дверей, падает на стул у пустого стола, на котором лишь плитка шоколада, которую он принес ребенку. Кладет голову на руки, вытянутые между немытой посудой, и тяжелые беззвучные рыдания сотрясают ее тело навалившимся на нее одиночеством вместе со слабым светом разгорающегося за окнами дня.
Эрвин все еще стоит у дверей, колеблясь перед тем, как ступить на утренний снег. Шарф у него в руках, и взгляд устремлен на окна дома.
– Шесть часов с минутами, – бормочет он, стараясь подбодрить себя. Аккуратно складывает шарф и кладет его в карман пальто, поднимает воротник, стучит себя в грудь, как бы пробуждая в себе мужество, и выходит без шапки. Улицы белы, безмолвие глубоко, и Эрвин один на пустынных улицах, продуваемых ветром. Открыв двери трактира, упал с большим шумом и дарился в колено.
– Гоп-ла, – воскликнули одновременно трое мужчин и разразились хохотом.
– Кто там? – раздается хриплый женский голос из глубины трактира.
Эрвин встает с неприятным ощущением стыда от своей неловкости и отряхивает брюки от пыли. Трактирщика нет. В помещении сумрачно. Слабый язычок пламени керосиновой лампы мерцает в этом сумраке. Даже за ночь из трактира не выветрился запах алкоголя и сигаретного дыма. Неряшливая уборщица, волосы которой серы под цвет ее фартука, тянет ноги между столиками, стучит стаканами, оставшимися со вчерашнего дня. Трое мужчин сидят за столиком в центре трактира – у одного одежда замызгана до самой шеи, у другого нос явно запух от удара кулака, третий мускулист и огромен телом, кто-то ему навесил «фонарь» под левым глазом. Одежда у всех трех потрепана, глаза заплыли, словно они вообще не оставляли трактир со вчерашнего дня. Они тянут мелкими глотками пиво из грубых бокалов, стучат картами по столу, удерживая губами окурки сигарет.
– Эй! – обращается Эрвин к старухе-уборщице, которая даже не спросила его, чего он хочет, и тут же жалеет, что подал голос.
– Чего надо? – роняет она, словно черт ее заморозил.
– Вы хозяйка трактира?
– Жди, пока придет.
За бутылками на витрине светится зеркало. Бутылки стоят, как решетка, за которой маячит лицо Эрвина. У края стойки – три гипсовых гнома в красных колпаках, красных одеждах, с красными носами и щеками. У одного в руках лейка, у других двоих – грабли. Этих смешных гномов люди обычно выставляют весной и летом, украшая ими цветочные клумбы. Эрвин помнит их по клумбам, в детстве, которые такими гномами украшала мать. Зимой она их убирала в дом и ставила, как украшение, на комод.
«Бывает так, что все настроено против тебя?», – размышляет Эрвин, глядя на уродливых гномов.
– Эрвин ты знаешь, что такое – русский?
Оказывается, мужчина с плоским носом тоже откликается на имя Эрвин. Троица отложила карты и начала рассказывать анекдоты.
– Нет, Вили! – кричит плосконосый Эрвин.
– Итак, – говорит мускулистый Вили, – один русский – душа. Два русских – хор. Три русских – сплошной бардак.
Все трое заходятся в хохоте до того, что кепки трясутся на их головах. Чокаются. Лица исчезают за огромными бокалами, поднесенными к глоткам.
– А что такое – один немец, знаете? – Плосконосый Эрвин ставит бокал на стол. – Значит, так – один немец – философ. Два немца – союз. Три немца – война.
Проходит несколько минут, пока троица осознает, что у них есть компаньон по смеху: около стойки во весь рот смеется Эрвин.
– Эй ты, парень, – хмурым голосом обращается к нему мужчина с плоским носом, – ты развлекаешься за наш счет. Смех со стороны нам не нравится. Мы не шутим бесплатно, это тебе будет стоить.
– Я готов присоединиться – отвечает Эрвин.
Но голос трактирщика останавливает его:
– Погоди! Снова ты явился ко мне?
Трактирщик зашел неожиданно, и не спускает глаз с Эрвина, изучая в зеркале его красное от мороза лицо, подобное краснощеким гномам, словно только что закончилась драка, что началась вчера здесь, в трактире.
– Двойную рюмку, – требует Эрвин хриплым голосом.
– Нет! – возражает трактирщик, держа руку на пивном кране. – У меня ты ничего не получишь. Ты не пьешь в свое удовольствие, ты пьешь от отчаяния.
– Какое твое дело? Уважь мое желание, и все тут.
– Снова ты нарываешься на скандал. Хватит с меня того, что было вчера.
– Вчера я просто перепил, – в голосе Эрвина просительные нотки.
– Может, и перепил, но и язык не сдержал за зубами. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Странное ты существо.
– Что же во мне странного?
Трактирщик бежит до края стойки, к гномам, старательно выстраивает их в ряд: первым ставит большого, за ним среднего, и в конце маленького.
– Все с ними играются. Еще расколют одного, – и он нежно гладит их по красным колпачкам, но глаз не спускает с Эрвина. И в его взгляде – жалость, точно, как во взгляде Герды утром! Так они расстались. Глаза ее были полны жалости, поцелуи и объятия – из жалости, и вся привязанность ее к нему – из жалости. Что-то чуждое вторглось в его облик, изменило его черты, сделало его даже более жалким, чем эти потрепанные и побитые собутыльники. Жалость вытесняет его из нормальной жизни. Он болен, если его жалеют и не относятся к нему всерьез.
Так что во мне странного? – ударяет Эрвин ладонью по стойке. – Отвечай!
– Что за крик? – успокаивает его старый трактирщик. – Это очень просто. Ты не как все. Ты против всех. Ты – странный, и все тут.
– Я вчера купил у тебя шоколад, – Эрвин пытается доказать, что это было обычное дело нормального человека, ни чем не отличающегося от других.
– Человек, – старик приближается к Эрвину и шепчет, – этим шоколадом ты купил вчера у меня свою жизнь. Ты чуть ее не потерял своей болтовней. Как это ты не боишься выйти один против всех? Устраиваешь скандалы в трактирах? Будь осторожен. Зачем тебе все это?
– Во имя правды, во имя большой правды.
Трактирщик громко смеется:
– Правда? Не будь ребенком!
– Вы не верите в правду, за которую надо бороться? – пытается Эрвин убедить старика. Он ищет себе союзников. Даже такого ветхого хитрого старика. Только не быть одному, на обочине жизни. Пока он борется, он живет полной жизнью, пробуждая у людей не жалость, а гордость. Но старик смеется, и весь трактир сотрясается от хохота. Старуха-уборщица тоже поддерживает смех трактирщика, не понимая его причины. Компания у стола поднимает головы, выплевывает окурки и присоединяется к смеху. Даже гномы, кажется, просто захлебываются смехом.
– Правду он проповедует, – выговаривает старик, не переставая смеяться. – Ха! Ха! Правда не нуждается в проповедях. Она всегда на стороне сильных, на стороне победителей. Прав тот, у кого сила. Иди с ними, и ты тоже добудешь себе правду.
– Точно так, – поддерживает старика плосконосый ударом ладони по столу.
Старик наливает Эрвину рюмку водки.
– Во имя твоей правды поднимем рюмку. Одна ущерба не принесет.
– Давай-ка, послушаем, что он имеет в виду, – предлагает плосконосый. Даже старуха служанка вперила в Эрвина взгляд.
«Пить или не пить», – думает Эрвин и не прикасается к рюмке.
– Он молчит, – замечает мужчина с повязкой на голове.
– Он упрям, как мул, – говорит мужчина с плоским носом.
– Он из неудачников, из тех, кто всегда теряет, – добавляет третий мускулистый мужик, – неудачник от рождения.
– Как Эбергарт, мой двоюродный брат, – объясняет плосконосый, – шофер грузовика. Однажды задавил черного кота, ну, обычного, как все коты. Но из-за этого кота братец мой двоюродный потерял все. Больше не садился за руль. Шатался, бездельничал, потерял все сбережения. Пошел работать на стройку. Упал с лесов и потерял ногу. Потерял жену, несчастная сбежала от него. И тогда потерял ребенка от дифтерита. Тогда...
«Тогда, – Эрвин опустил голову в ладони, склонившись над стойкой, – тогда Герда заменила сегодняшний день завтрашним. Ворвался в ее жизнь культ будущего. Отношения к ребенку, мужу, дому, все простые и нормальные человеческие отношения – были отброшены и отменены во имя культа великих революционных достижении будущего. И тогда борьба превратилась в самоцель, все связалось и прониклось политикой, партией. Любовь, муж, ребенок, дом – все во имя отдаленной высокой цели... Жизнь человека лишь переход к той далекой цели... Герда больше не женщина. Герда теперь – тип. Все ушло. Потеряно».
– Я говорю вам, он неудачник. Точно, как Эбергарт.
«...Нечего делать! – Гномы перед его лицом, как единая красная стенка, включая трактирщика, служанку, потрепанных мужчин, Эбергарта и Герду в придачу. Он один по другую сторону этой стены. Завопит – никто его не услышит»
Оттолкнул рюмку, она опрокинулась, водка выплеснулась на стойку.
– Эй, неудачник, остерегись!
– Верни мне мой велосипед, он тут остался, у тебя.
– Что ты кричишь, человек? Я что, собирался конфисковать твой ветхий велосипед? Сначала оплати за пролитую водку.
Прозвенела монета.
– Ну, точно, как Эбергарт!
Голос плосконосого преследует его. Осторожно он пересекает трактир, боясь снова грохнуться у дверей. Кажется, что ему не повезет в любом месте. У Герды он потерял свою радость, в трактире – уверенность. Он неудачник. Нечего делать! Плосконосый не отстает. Эрвин извлекает часы: скоро восемь. Машину на фабрику он прозевал. Что сейчас делать? Но натыкается на слово «прозевал», и никак не может завершить, как следует, предложение. Ему надо, во что бы то, не стало, добраться до работы, решает он из последних сил. Доезжает на велосипеде до Александрплац.
Площадь полна народа, как в обычные дни. Забастовка здесь почти не ощущается, ибо это перекресток всех путей и направлений города. Обычно здесь – столпотворение, гремит наверху железная дорога, несутся под землей поезда метро. Звонят трамваи. Огромные двухэтажные автобусы виртуозно, как фокусники, лавируют между массой машин и пешеходов. Все втискивается в эту площадь. Но сегодня общественного транспорта не видно, лишь скользят кареты, сани небольшие автомобили и потоки людей. От этой массы снег стал черным. На островке посреди площади, где обычно полицейский регулирует движение, ораторствует человек при большом скоплении слушателей.
– Социал-демократы это, по сути, социал-фашисты. Предатели, сволочи, штрейкбрехеры.
– Теплые трусы на продажу! – провозглашает женщина неподалеку.
– Цветы для радости! Цветы для траура! – выкрикивает мальчишка, продающие бумажные цветы. У входа в огромные залы рынка мужчина отвешивает пощечину женщине. Она вскрикивает. Никто на них не обращает внимания.
Толпа в мгновение ока заполнила тротуары вокруг схватки. В воздухе свистят резиновые дубинки полицейских. Волокут по земле человека. Он выступал против забастовки. На крыше огромного универмага уже установили фигуру святого Николая-чудотворца. Рабочие прилаживает к его голове корону из цветных лампочек. Готовятся к Рождеству. А под святым Николаем, вдоль кажущегося бесконечным фасада универмага выстроились мелкие торговцы. Котлеты из конины. Картофельные оладьи. Поздравительные открытки к Рождеству. Галстуки.
Напротив, на деревянном заборе, окружающем строящееся здание, плакаты и объявления торговых домов. Гитлер и Тельман среди святых и ангелов, Марии, Иосифа и младенца-Иисуса.
Эрвин стоит перед забором, читая все плакаты и лозунги. Он уже несколько раз обошел по кругу всю площадь, ведя велосипед сквозь толпу, пока не добрался до южной стороны площади, к серому зданию полицейского управления. Здесь трамваи ждут штрейкбрехеров, чтобы везти их под усиленной охраной нарядов полиции. У входа на улицу, с левой стороны стоят пикеты забастовщиков под огромным плакатом: «Позор штрейкбрехерам!»
Справа вооруженные полицейские сопровождают пассажиров в трамваи, защищая их от града камней, снежком, проклятий. Уже несколько раз Эрвин пристраивался к полицейскому наряду. Нет! Он не в силах стать штрейкбрехером. Но и уйти отсюда он тоже не в силах. Ему противна эта забастовка. И это он хотел бы выразить поездкой через весь Берлин до заброшенного пригорода, где находится фабрика, но нет у него на это решимости. Он противен самому себе за эту слабость и нерешительность, уходит и возвращается. И людская масса втягивает его и выталкивает. Он решает: «Сейчас! Сейчас!» И уже становится рядом с полицейскими. Но снова отступает и обходит по кругу площадь. Останавливается у небольшого магазина, на витрине которого смесь различных вещей.
Консервы, английский виски, сигареты разных сортов, детали для велосипедов, клетки для птиц, мужские головные уборы. Эрвин без шапки. Он входит в магазин. Чернобородый продавец, говорит скороговоркой, в магазине – теплынь. Эрвин все выбирает и выбирает, стараясь, как можно дольше, задержаться в тепле. Открывается дверь. Две проститутки хотят купить шелковые чулки. Плотная от множества товаров атмосфера магазинчика наполняется запахами, шорохами платьев и громкими спорами по поводу цены. Продавец опустил взгляд, но не уступает, чем выводит девиц из себя. «Я должен прийти ему на помощь», думает про себя Эрвин, но ничего для этого не делает. Стоит перед зеркалом и примеряет шапки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































