Текст книги "Дети"
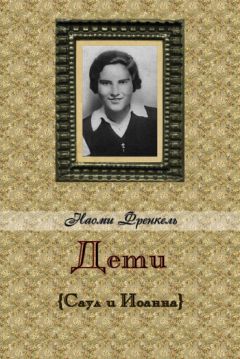
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 44 страниц)
В восемнадцать лет он был совершенно самостоятельным, правда, с той же юношеской шевелюрой и пылающими глазами. Также и в отношении штанов ничего не изменилось. Правда, он ходил в шортах, и не было нужды их приноравливать к обуви, но и короткие штаны были ему не по мерке. Отец решительно требовал, чтобы Зерах вернулся домой. Отец воплотил свою мечту и основал в городке школу на иврите, и Зерах должен был там преподавать, ибо был единственным, кто владел священным языком. Но Зерах готовился осуществить абсолютно другие, свои мечты. В тот год исчезли очки с лавки Залмана. Он ушел из жизни, и его вдова Зельда открыла в лавке небольшую чайную для извозчиков и мелких рыночных торговцев. Зерах торопливо распрощался со всеми – даже с отцом, матерью, братьями и сестрами, и вырвался в большой мир, не выбирая дороги, с одним желанием – добраться до Израиля. Скитался Зерах по всевозможным дорогам Европы. Сертификата на въезд в страну Израиля у него не было, а скитаться он мог вдоволь. Денег у него не было, но это его меньше всего волновало. В одежде он был неприхотлив, вел аскетический образ жизни, немного еды и немного наличных он мог найти везде, где проживали евреи, ибо странствовал он только в их среде. Ему было о чем им рассказать, знал он их язык или не знал, выражения на идиш, восклицание из молитвы – «Слушай, Израиль» – «Шма, Исраэль», связывало с ними мгновенно в любой стране. Зерах довольствовался малым, не пил вина и не курил, проповедовал возвращение к природе, к земле, к простому труду на Святой земле, и обычно завершал свои речи песней на иврите, если не мог получить то, что ему требовалось. Не то, чтобы у него был приятный голос, но в нем всегда ощущалась душевность.
Побывав в Вене, он решил попытать счастья – попасть в Германию. Дорогу туда проделал в товарняке, в вагоне с нехорошим запахом и надписью на дверях: «Осторожно! Скот!» Большого удовольствия поездка не принесла, но, несмотря на все это, он благополучно и в хорошем расположении духа добрался до намеченной цели – Берлина. Сразу же выяснилось, что не он один халуц в германской столице. Из того же Движения опередило его тринадцать парней, большинство из которых странствовало, как и он, по Европе, в надежде добраться до Израиля. Некоторые же из них прибыли из Израиля в Европу от рабочего движения – для учебы или по разным поручениям. Все, естественно, собрались в одну группу и вместе поселились в квартире, в западной части Берлина, назвав место «Гнездом тринадцати».
Все члены гнезда начали прочесывать город, собирая каждую крупицу доброй воли, каждую песчинку Торы, каждую крошку мысли. Все приносили в дом. Гнездо было похоже на амбар. И он наполнялся впечатлениями, идеями, теориями. Германия двадцатых годов была большим плавильным котлом идей, течений, мнений во всех областях жизни. Чего только не было в этом котле!
В нем варились и тринадцать молодых халуцев. В Германии Зерах до того похудел, что шорты, которые были узкими на него, стали широкими. Куда он только не заглядывал пылающими своими глазами! За какой только теорией не гнался в своих порванных туфлях и дырявых носках: освобождение ребенка, подростковая культура, юношеские движения, культура обнаженного тела и свободная любовь, новый театр, экспрессионизм и футуризм. И от всей этой новизны ложившейся на голову Зераха, он просто терял дыхание. С пылающими глазами он шатался по Берлину, и тротуары горели под его подошвами. Он сиживал на жестких скамейках парков не для отдыха, ибо покой ему даже не снился, особенно, когда он слушал лекцию о новой теории – «Секта, а не общество». Речь шла о сообществе, соединяющем людей не на основе взаимной пользы и логики сформулированного закона, а на основе эмоций и интимной связи, взаимопонимания и живых каждодневных отношений. Лидеры не избираются общим голосованием, а как бы естественно возникают из среды сообщества, ибо оно признает, что эти по своему уровню, как личности, выше всех остальных.
Возникло в нем странное чудесное чувство, что под пасмурным небом Берлина натягивается для него одного твердый неколебимый потолок из гладкого и крепкого материала, который невозможно сдвинуть. Из-под него можно было лишь смотреть в туманные дали, темные и полные тайн. Вырвался Зерах из лекционного зала на улицы Берлина, которые, казалось, пылали от новых теорий, и глаза еще сильней засверкали. Зерах, который словно бы украсил себя пестрым нарядом из всевозможных политических идеологий, нашел выход из этой большой свалки. Он и его тринадцать товарищей халуцев составят секту, сообщество, теплый дом, абсолютно новый, по своей сути, и построят они его сами снизу доверху своими руками. Среди массы безработной и голодной молодежи, его товарищи были единственными, нашедшими прочный дом с надежной крышей. Такое же сообщество он построит в стране Израиля – он и тринадцать его товарищей. Да, он не купил себе в Германии даже пару чистых и целых носков, но зато приобрел массу идей и теорий.
Все это Зерах откровенно рассказал Гейнцу, чувствуя на себе его любопытный взгляд. Но оленьи рога на стенах, Фортуна, которая улыбалась ему холодной мраморной улыбкой, строгая изысканная атмосфера гостиной, обшитой дубовыми панелями, которые еще не встречались Зераху даже в дни проживании в Берлине двадцатых годов, сдерживали его откровения. И это несмотря на то, что и Гейнц в те годы тоже гонялся за идеями и теориями, но не только за ними. Может, поэтому они тогда не встретились, и случай свел их лишь сейчас, когда Зерах вернулся из Израиля, и лоб его и лицо избороздились первыми морщинами, а Гейнц давно перестал шататься по улицам и закрылся в стенах своего роскошного дома.
– Пожалуйста, – Гейнц проводит ладонью по лбу, – пожалуйста, разреши помочь тебе, понести чемодан, он, очевидно, очень тяжел.
– Да нет же! – покачивает Зерах огромным своим чемоданом. – Ты же видишь, я совсем не устал и чемодан не тяжел, он почти пуст. Вообще не было нужды в таком большом чемодане, просто другого не нашли у нас в коммуне.
Услышав такое роскошно звучащее слово «коммуна», дед тоже подошел к Зераху, пожал ему руку, сказав, что нет у них в доме более желанного гостя. Тем временем, все домочадцы вернулись в свои комнаты, привести себя в порядок к ужину. Дед и Гейнц ведут Зераха в кабинет покойного господина Леви, который превратился в комнату для приема гостей. В гостиной остался лишь черный чемодан, Фрида и Иоанна, которая рассказывает Фриде о болезни гостя. По дороге он ей рассказал, что иногда нападают на него такие боли, что необходимо вызвать врача и сделать ему успокоительный укол.
– Он нуждается в хорошем лечении, – говорит Иоанна и торопится присоединиться к гостю в кабинете отца.
– Только его здесь мне не хватало в доме, – бормочет Фрида, глядя на огромный чемодан – человека с песком в почках!
В кабинете дед ставит на стол бутылку коньяка. Боже! Иоанна в ужасе. Только этого не хватало. Дед вечно должен заставлять ее краснеть. Он что, не знает, что халуцы в Израиле не пьют крепких напитков и не курят сигар! Иоанна еще испытывает стыд за деда, как глаза ее расширяются от изумления: Зерах берет в руку рюмку коньяка, поднимает ее, и произносит на иврите:
– Лехаим!
– Прозит! – гремит дед.
Иоанна не верит своим глазам и ушам. Хорошо, что никто слышит отчаяния, звучащего в ее душе: «Халуц из страны Израиля пьет коньяк! Как любой человек!»
Но коньяк деда очень согрел израильского первопроходца. Только сейчас он снимает куртку, вешает ее на стоящее рядом кресло, и остается в белой вышитой рубахе – русской косоворотке. Пришел черед деда – удивиться. Ведь лишь сегодня он видел такие косоворотки в кино! Бумба пожелал видеть вестерн о диком Западе. Но во всем Берлине такой фильм не шел. Нашли замену – русский фильм. Там тоже была бесконечная стрельба, война, знамена и кавалеристы, несущиеся галопом в бой. Бумба остался довольным этим фильмом. И вдруг видит дед, как один из бойцов тех войн сошел с экрана и предстал перед ним в стенах его дома, в облике Зераха. Радостное удивление охватывает деда. Ему кажется, что парень появился, чтобы втянуть его в увлекательную авантюру, а кто, как не дед, любит авантюры! Он обходит Зераха со всех сторон, делает вид, что ищет что-то на письменном столе, изучая Зераха со спины.
– У вас там носят такие рубахи?
– А, не всегда. Но таких много в коммуне.
– Коммуна, – дед радуется возможности показать свои знания, – какая коммуна? Коммуна Алеф или коммуна Бет?
Знание деда до того удивляет Иоанну, что она не дает Зераху ответить, опережая его:
– Коммуна Алеф, дед, само собой понятно, это наша коммуна. Он – член нашего Движения!
– Садитесь, пожалуйста, сударь, садитесь, – приглашает его дед.
– Я не сударь, я – Зерах, просто Зерах.
– Ах, да, – вздыхает дед, – у всех вас там странные такие клички.
«Как он осмеливается называть имена на иврите странными кличками?» – сердится в сердцах Иоанна. Но потрясение охватывает ее одно за другим: Гейнц угощает первооткрывателя сигаретой, и он – халуц из Израиля – сидит в кресле и курит! Не только пьет коньяк, но и курит? Короче, все вовсе не так, как рассказывают им в Движении...
– Как понравился вам наш город, – спрашивает Гейнц гостя.
– Мне Берлин знаком, – наконец у Зераха появилась возможность сказать что-нибудь о себе, – я был здесь в двадцатые годы. Берлин с тех пор изменился.
– В чем?
– В людях, да и самим видом. Это не тот Берлин, который я знал. Я здесь всего лишь один день, но из-за забастовки много ходил по улицам. Город мне кажется чужим, словно я в нем никогда не был. Берлин тех лет охвачен был брожением чувств, дружелюбием и сердечной теплотой. Люди были тогда в нем, как родственники. В сегодняшнем Берлине чувствуется брожение угрозы. Страх гуляет среди людей. Ужас и страх. Да, Берлин сильно изменился.
– Хммм... – хмыкает дед. Такие высказывания ему не по духу. Вот, еще один провидец бед появился в доме! Достаточно деду своего внука. Дед пытается сменить тему, и обращается к обуви Зераха. Задумавшись, тот вытянул ноги в блестящих, выглядящих необычно, ботинках.
– Очень хорошие ботинки, – говорит дед, – именно такие нужны вам здесь, теплые, сохраняющие ноги от стужи. Это в вашей коммуне делают такие ботинки?
– Нет! Ботинки эти сделаны в Тверии.
– В Тверии? – удивляется дед. Но Иоанна тут же приходит ему на помощь:
– Дед, Тверия или Тивериада – это город на берегу Генисаретского моря. Ты забыл, дед? Иисус был там, на берегу этого моря и совершил чудо с рыбаками. Там он встретил Петра и сказал ему, что он больше не будет рыбаком, а ловцом человеческих душ.
– А-а, ну да, – обрадовался дед, – конечно же, я помню. Иисус там совершил много чудес. А теперь там есть и сапожники.
– Лучшие сапожники в стране, сударь.
– И все эти сапожники из вашей коммуны?
Когда Зерах смеется, то весь целиком отдается смеху. Деду это нравится, и он тоже смеется от души. Иоанна тоже смеется. Кажется, даже серьезное выражение матери на портрете смягчилось улыбкой. Только улыбка Гейнца кажется окаменевшей.
– Никакая коммуна, – говорит Зерах сквозь смех, – это Болек поехал туда, к ним, купить ботинки.
– Болек? – удивляется дед. – Болек? – Смотрит на свою маленькую внучку, ищи помощи.
– Извините, – пытается Зерах разрядить возникшее недоумение. – Понятно, никто не может знать, кто это – Болек. Человек годами живет в четырех стенах своего дома, и вовсе забыл, что люди вокруг, и они знают, что в его доме творится.
– Замкнулся в четырех стенах, – вмешивается неожиданно Гейнц, – и такая жизнь хороша?
Глаза их встречаются. Добродушие в глазах Зераха гаснет при виде ожесточенного лица Гейнца, покачивающего ногой. Напряжение не в духе деда. Он желает знать точно, кто это Болек, и тем самым не позволить внуку втянуть всех в свое плохое настроение.
– Кто он, этот Болек и как он пошел покупать для тебя ботинки у сапожников около Генисаретского моря?
– Болек – член кибуца. Ботинки он купил для себя. Дядя послал ему из Америки целый английский фунт. За него и купил товарищ Болек эти отличные ботинки.
– Ага! Значит есть, оказывается, такая вещь, как дяди и, конечно же, дедушки, и они могут посылать немного денег в коммуну. Иоанна моя объяснила мне, что с момента, как она будет в коммуне, все финансовые связи между мной и ею будут прерваны. Я не вправе прислать ей ни гроша. Даже на день рождения. Значит, все же есть дяди, что посылают деньги, и члены кибуца их получают и покупают себе ботинки?
– Есть, – подтверждает Зерах.
– Видишь, Иоанна, – радуется дед победе.
– Не смей мне посылать, не смей!
Зерах делает рукой движение, как бы отменяя крик Иоанны. Она опускает голову, ибо слезы наворачиваются ей на глаза. Даже когда отец умер, она не плакала. Первооткрыватель из Израиля говорит такое! Он предает ее. С этого момента она не слушает, о чем говорят дед и Зерах. А дед хочет точно знать:
– Но каким образом ботинки Болека оказались на ваших ногах?
И только собрался Зерах объяснить это деду, как распахнулась дверь, и Фрида объявила:
– Ужин готов. Пожалуйста, к столу.
Столовая более знакома Зераху. У мебели прямые, гладкие, простые линии. На стенах – картины экспрессионистов. Попугай встречает его хриплым криком. Из радиоприемника доносятся звуки танцевальной музыки. Кудрявые девицы одеты в блестящие, бархатные, длинные вечерние платья. Не груди у Инги большой золотой паук, на груди Руфи – длинная серебряная стрела. Фердинанд в коричневом блестящем пиджаке. Франц – в темном пуловере. На столе – хрусталь и серебряная посуда, посверкивающая в свете люстры. Зерах поднимает голову, глаза его мигают. Очки Залмана опустились на них именно в этой комнате, ошеломляющей цветным разнообразием. Картины над камином отдаляются, и он встряхивает головой, как бы стараясь сбросить черные очки Залмана. Дед просит тишины. Время кажется ему неподходящим для того, чтобы сообщить о новой кухарке Вильгельмине. Дед молчит и смотрит на пустой стул рядом, – стул Эдит. Только теперь все ощущают ее отсутствие. При виде обеспокоенного лица деда, все замолкают. В дверях Кетхен ждет знака от деда – подавать суп.
В этот миг общего смятения в столовую врывается Филипп, но никто не замечает его появления. Он именно врывается, словно на него свалилась большая беда. Лицо побагровело от стужи и ветра. Глаза покраснели. Волосы растрепаны, костюм измят, галстук сбит в сторону. Приветствие его указывает, что он вовсе не явился к ужину, гостя не замечает, ибо в обычный день и в нормальном состоянии он бы, несомненно, его заметил.
– Что здесь происходит? – вскрикивает Фрида, то ли из-за пустого стула Эдит, то ли из-за замерзшего лица Филиппа. – Боже, что происходит?
– Садись, пожалуйста, – приглашает Филиппа дед.
– Где Эдит? – спрашивает Филипп, приближаясь к столу.
Собирается дед что-то сказать, успокоить и себя, и Филиппа, но его опережает Бумба:
– Я знаю, где Эдит.
– Где? – атакует Бумбу голос деда.
– Она в комнате Эрвина.
– О чем ты говоришь, мальчик? – укоряет его дед.
– Да, она там. Эсперанто лежит у дверей комнаты Эрвина и не хочет сдвигаться с места. Пес ведь всегда около Эдит. И я слышал оттуда шепот, хотя там темно. Фрида, что ты меня так толкаешь? Что я такого сделал?
Только теперь замечают, что стул Эрвина тоже пуст.
– Пожалуйста, Филипп, – первым, как всегда, приходит в себя дед, – садись к столу, к ужину. Кетхен, неси суп, немедленно! Немедленно!
Даже дед сбит с толку в этот вечер: жестом приглашает Филиппа занять пустой стул Эрвина. Боже! В доме Леви случилось нечто, доселе беспримерное. Гость не принимает приглашения, Филипп отказывается занять место за столом, мямлит слова извинения, что-то о срочных делах и множестве проблем, о трудностях передвижения в ночные часы. Хлопают двери, и место, где стоял Филипп, опустело.
Панику оставил после себя Филипп. Тайком все обращают взгляды к портрету отца над камином. Так вот, лишиться верного друга? Филипп больше не вернется? Зерах – единственный, кто не поглядывает на портрет над камином. Лица во флере красного света видятся ему, как сквозь очки Залмана, и это болезненно отражается на нем, как и на домочадцах – вид пустого стула Эдит.
– Что-то у вас случилось в доме?
– Да, что-то случилось... почти ничего, – отвечает Иоанна, которая силой захватила место около своего халуца. На этом стуле обычно сидит Инга, но странное чувство владеет ею, как будто она должна все время стоять на защите Зераха.
– Но почему все такие печальные?
– Это... Ну, не очень важно... Это из-за Эдит.
– Эдит?
– Да. Моя старшая сестра.
– С ней случилась беда?
– Ну, такая беда. Такая, знаете, беда... связана со свободной любовью. Как вы слышали, она заперлась раньше в комнате Эрвина. Он – друг моего брата Гейнца. Это... это все.
Ах, какой стыд испытывает Иоанна за свою семью! Все неприятности происходят именно в этот вечер, когда она привела в дом гостя из Израиля. Была бы она откровенна с Беллой, сказала бы ей, что дом их недостоин принимать гостя – халуца из Палестины. Был бы жив отец!.. Ах, тогда могла бы она привести в их дом целый батальон халуцев. Если бы она могла рассказать Зераху об отце, он бы ей не поверил. Никто ей не верит, почему Зерах должен поверить? Но лицо Зераха не выражает никого изумления или потрясения. Наоборот, оно довольно и радостно. Он был очень голоден, а это приводит к боли в почках. Но вот, Кетхен принесла суп, дед наливает ему, и на лице его устанавливается покой. Иоанна это понимает по своему: первопроходец тоже за свободную любовь! Как Саул. Он тоже за свободную любовь, пьет шнапс, и сегодня ей сказал, что начал курить. Может, Саул прав. Если израильтянин это делает, почему Саул не может? Почему Саул должен годами воздерживаться от всего, что ему приятно, ибо ведь, в конце концов, он все это сделает, как в этот вечер доказал ей Зерах. И почему ей так тяжко со своей грешной любовью к Оттокару?
Иоанна старается низко держать голову над тарелкой, как и все другие члены семейства. Атмосфера за столом в этот вечер необычна. От ложки к ложке бросают взгляды на пустой стул Эдит. Беседа не клеится, и дед не может этого выдержать. Единственный, кто спокоен и доволен, это халуц, и дед ищет у него спасение.
– Господин Зерах, вы совсем забыли рассказать, как ботинки Болека с Генисаретского моря оказались на ваших ногах.
– Рассказ о Болеке может всех рассмешить.
– Ну, так рассказывайте, – дед подмигивает сидящим слева и справа.
Хотя бы немного развлечь приунывшую публику. Иоанна знает цену этим подмигиваниям деда, и пытается предостеречь Зераха от рассказов об Израиле, но халуц не обращает на нее внимания, хотя должен был бы. Все же они из одного Движения.
– Болек наш – парень не от мира сего. Не отличает правое от левого. Ему нельзя позволить управлять телегой или скакать верхом. Пользоваться ружьем!
– Ружьем? – возбуждается Бумба. – В Палестине скачут на лошадях и стреляют из ружей?
– Это не смешно, – упрекает его Иоанна, – это не как в твоих фильмах! Это из-за арабов. Днем и ночью надо охранять кибуц от их нападений.
– Вижу, что только меня там не хватает, – говорит дед, – не хватает там превосходных пуль моего общества охотников.
– Твое общество охотников… – странным тоном говорит Гейнц, – Была у меня сегодня короткая встреча с твоим обществом охотников. Коньяк у них превосходный, действительно превосходный.
– Кетхен! – вдруг торопится дед. – Кетхен, чего ты ждешь? Почему не подаешь мясо? Ну, где же ваш смешной рассказ, Зерах?
– Кибуц расположен на холме, возвышающемся над широкой равниной. Рядом с кибуцем, в долине, плантация оливковых деревьев, принадлежащая кибуцу. И существовала она до возникновения кибуца. За большие деньги мы купили землю у арабов вместе с плантацией.
– Слышишь, дед, для того, чтобы купить землю и плантацию, надо собирать деньги в Основной фонд существования Израиля! – взволнованно говорит Иоанна.
– Тише, Иоанна!
Дед потрясен тем, что в его доме находится еще кто-то, кроме него, который может приковать внимание домочадцев к своим рассказам.
– По сей день, арабы не привыкли к тому, что плантация оливковых деревьев принадлежит нам, и когда маслины созревают, они приходят первыми снимать урожай. И надо сторожить его днем и ночью. В дни сбора урожая обычно я по ночам охраняю плантацию. Спускаюсь я туда, когда уже солнце клонится к вечеру. Издалека слышен голос Моше, который гонит скот в кибуц. Он ищет своего маленького сына: «Дани! Дани-и!»
Голос Зераха звенит в столовой, откликаясь в ушах деда – «Эдит! Эдит!»
– Нелегко быть охранником на плантации. Ночью туда приходят не только воры, но и влюбленные парочки.
Глаза всех вновь взглянули на стулья Эдит и Эрвина.
– Ну, дальше, – иссякает терпение деда, – что там с Болеком?
– Итак, в один из вечеров приходит Болек и требует права охранять оливковую плантацию. Если дать оружие в неумелые руки Болека, который не отличает человека от шакала, это может привести к беде. Но Болек упрямится. Что делать? Дали ему ружье. Но и он выставил одно условие: обувь! Обычно, мы покупаем обувь не у сапожников Тверии, а в английской армии. Ботинки у них тяжелые, скрипят и делают много шума. Вы говорите, что я не сумею охранять, сказал Болек. Так вот, не отсутствие смелости и не медлительность может меня подвести, а английские ботинки. Я требую другую обувь! Уже в первую ночь, когда он вышел охранять плантацию, чуть не случилась катастрофа. Ночь была светлой, яркий месяц. Но только Болек услышал какой-то шорох, тут же потерял всякую сдержанность. Ночь была чудной. Шелестели оливковые деревья. Услышав этот шелест, Болек тут же нажал на курок, и пули полетели между ветками! Началось массовое бегство с плантации, не воров и не шакалов, а влюбленных парочек...
На другой день после того, как он обратил в бегство всех влюбленных, получил Болек подарок – целый английский фунт от дяди из Америки. И внезапно исчез. Мы были уверены, что он скрылся, от стыда за содеянное, ибо все только и говорили о бегстве парочек. Два дня мы волновались за его судьбу, и даже собрали группу для поисков. Но Болек не исчез, а пошел в Тверию, к сапожникам, чтобы те стачали ему ботинки, которые не скрипят и не такие тяжелые. Вернулся он с новыми ботинками, которые выглядели лучше всей обуви членов кибуца. Все не отрывали глаз от ботинок Болека, в том числе парни, которые бежали от его пуль. Окружили они его и хвалят покупку, как вдруг один из парней, изучающий тивериадские ботинки, с горечью провозглашает: «Сапожники в Тверии большие обманщики! Обвели Болека вокруг пальца! За хорошую цену продали ему пару ботинок с левой ноги!
Посмотрел Болек в испуге на свои ноги и был потрясен: невозможно отрицать – оба ботинка с левой ноги! Что вам сказать? Общий хохот заглушил крик о сапожниках-обманщиках из Тверии. Болек всей душой поверил, что его обманули. Но позднее, когда ему стало ясно, что над ним посмеялись, охватил его прямо приступ стыда, и опротивили его душе эти новые ботинки. Стоило ему в них появиться среди товарищей, как хохот не переставал его преследовать. И тут он узнал, что я собираюсь ехать за границу, вот и предложил мне эти ботинки. Так они, сударь, оказались у меня.
– Отлично! – подводит смехом дед рассказ халуца. – Отлично. Вижу я, что у вас не так плохо. Даже очень весело.
Дед добился своего! Семейка Леви смеется и с большим аппетитом уплетает ужин.
Вдруг слышно, что кто-то царапается в дверь. Кетхен распахивает ее, и в столовую, приветствуя всех помахиванием хвостика, врывается Эсперанто. Запах мяса привлек его в столовую. Тут же пробирается к стулу Эдит, около деда, кладет лапы на ее пустой стул, требуя своей порции.
– Но почему он отдал ботинки именно тебе, – не успокаивается дед.
– Я не был среди тех, которые пробрались в палатку Болека – сбить его с толку ботинками. За это он был мне благодарен и предложил ботинки мне.
– А почему ты не был среди этих веселых ребят?
– Не было у меня никакой причины сбивать Болека с толку.
– Что значит, не было никакой причины?
– В ту ночь я не был на плантации и не спасался бегством от пуль Болека.
– А почему ты не был там в ту ночь?
– Я женат, сударь.
– Вы женаты? – в один голос воскликнули кудрявые девицы: халуц из Израиля виделся им совсем не женатым.
– У меня два сына.
– Два сына! – удивленно восклицает дед и бросает хмурый укоряющий взгляд в сторону своего внука Гейнца. Несомненно, в этот вечер дед предпочитает Зераха своему внуку. Лицо Иоанны снова посветлело. Она видит на лицах всех удивление, и даже восхищение ее халуцем. Только Бумба явно недоволен. Ведь халуц принадлежит Иоанне, член ее Движения, член коммуны Алеф, и Бумба уже видит себя членом коммуны Бет! Утром Итче окончательно убедил Бумбу. И он кричит Иоанне:
– Меня сегодня записали в Движение, выступающее против вас. Завтра я присоединяюсь к ним.
– Меня это не колышет, – отвечает Иоанна, – мы бы, так или иначе, не приняли такого, как ты. Мы – Движение авангарда! – и глаза ее возвращаются преданным взглядом к халуцу. – Какие песни он знает!
В клубе движения Зерах целый час пел им песни страны Израиля. Дед видит, как озарилось лицо внучки.
– Подай к столу кофе, Кетхен! Кофе господину Зераху. Попросим его спеть песни, которые поют в кибуце.
Дымится кофе. Клубы дыма поднимаются от сигары деда. Издалека, из-за опущенных жалюзи, доносится слабое завывание ветра ночной вьюги. Эсперанто насытился и дремлет у стула Эдит.
– Хм-м – хмыкает дед в сторону Зераха, как бы напоминая о просьбе спеть.
– Я спою вам колыбельную на иврите, которую пою моим маленьким сыновьям.
– Да. Вы поете им на иврите? И они уже это понимают? – удивляется дед.
– Но свет здесь очень яркий для песен страны Израиля, – вскрикивает Иоанна – ослепительный свет испортит все звуки!
– Тише, Иоанна, тише!
Но она уже вскочила со стула и выключает свет большой люстры. В сумраке столовой светится красным огнем только камин. И отец, и мать на портретах словно прикрыли глаза. Невозможно не смотреть на них.
Спи, цветок,
Мой любимый сынок,
Душу тобой согрею,
Из грядущих дней твоих
Сны тебе навею.
Голос Зераха негромок, но полон душевности.
«Новая беда, – думает дед про себя, глядя на пустой стул Эдит, – а если является беда, нет в мире путей – ее преодолеть!»
«Может, он излечит ее от Эмиля, – обращает свои мысли Гейнц к стулу Эрвина, – и, быть может, на меня возложено – вылечить Герду от Эрвина?»
И скажу, что ты, любимый,
Вовсе не изгой.
Ведь – Израиль – твое имя,
Это – корень твой.
Никто, кроме Иоанны, не понимает язык песни.
Орешник бьет ветвями в закрытые жалюзи окна.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































