Текст книги "Дети"
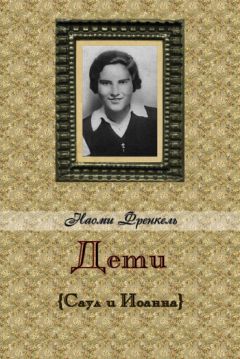
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 44 страниц)
– Хайль Гитлер! Хайль Гитлер! – преследует его рев тысяч и тысяч глоток.
* * *
Дом Бено находится в дальнем пригороде. Это небольшая вилла, скрытая между высокими соснами. Окна темны. Шпац прячется под стеклянным навесом над входной запертой дверью, прижавшись к ней спиной. На крыше дома – красный флаг с черной свастикой. Большое полощущее полотнище флага создает единственный звук, нарушающий безмолвие светлой ночи. Ночная птица покрикивает между ветвей в саду, и Шпац ведет немой диалог с птицей. Он спрашивает, и он же отвечает на ее крики.
– Папа и мама тоже тянут ваши руки вверх в честь нового вождя?
Птичий крик.
– Там, в Нюрнберге, дворец царя Барбароссы горит в ночи?
Птичий крик.
– Что делать? Ну, что делать?
Еще один хриплый крик, и птица замолкает. Теперь скрипят шины остановившегося автомобиля, и ворота издают скрип, раскрываясь. Слышен женский смех. Лидер Бено собственной персоной , рядом с красивой блондинкой Эвой. Оба в форме.
– Ты! – вскрикивает Бено при виде Шпаца, выходящего из-под стеклянной крыши над входной дверью. – Что ты здесь ищешь?
– Тебя.
– Именно, ночью?
– Именно ночью.
– Нет у меня времени. Мы случайно вернулись, потому что Эва хочет освежиться. Мы сейчас же уезжаем.
– Достаточно нескольких минут твоего времени, Бено.
– Как ты выглядишь? – ужасается Бено, глядя на Шпаца в передней. – Как ты в таком виде появляешься среди людей?
Шпац видит себя в большом зеркале – в рваной одежде, с измазанным лицом.
– Извиняюсь, – застегивает Шпац пуговицы на остатках пиджака, – я приехал к тебе с погребения осла.
– Кончай свои шутки.
– Это не шутка, Бено. Я приехал с фермы животных, и мы там хоронили осла.
– Чего ты так торопился?
Мягкий круглый подбородок Бено затянут кожаным пояском головного убора, от чего лицо его теряет мягкость.
– Присядем, Бено, и я тебе расскажу.
Кабинет Бено забит книгами, бумагами, черными коврами и шторами. Между окнами – письменный стол поэта, на котором стоит большой портрет Гитлера.
– Клянусь честью, Бено, – Шпац берет бутылку коньяка с маленького столика между креслами, и наливает немного в стакан, – не представлял, клянусь честью, что еще в эту ночь получу такое удовольствие.
Бено не снимает шляпу с головы. За его спиной, на стене, две скрещенные сабли. Под ногами ковер из медвежьей шкуры, символа предков.
– Что тебе нужно? – скрещиваются сабли в голосе Бено. – Почему ты посчитал необходимым – прийти ко мне, именно, в эту ночь?
– В эту великую ночь, – декламирует Шпац и опускается в кресло.
– Предупреждаю тебя, с этого момента перестань паясничать.
– Что я такого плохого сказал, Бено?
– К делу, время подгоняет.
– Что ты так взволнован, Бено? Пришел по радостному делу, особенно для тебя. В связи с нашим соглашением. Я приехал его подписать.
– Что ты вдруг так заторопился это сделать? Произошли изменения в твоем мировоззрении, Шпацхен? Страх тебя съедает, а?
– Не будь глупцом, Бено. Причем тут страх к этому делу? Если бы я был охвачен страхом, сбросился бы с одной из скал, рядом с фермой, а не приехал бы к тебе.
– И сейчас ты просишь своего еврея в обмен на твои иллюстрации?
– Моего друга, Бено, моего доброго друга.
– И мою цену ты запомнил?
– Помню. Мое имя будет напечатано под нацистской поэмой.
– Что ты сделаешь, мой Шпацхен, когда наша поэма увидит свет?
Шпац замирает в кресле, в своих грязных одеждах он выглядит раздавленным.
– Не увиливай, Шпацхен. Мне ясно, что ты сделаешь. Поэма увидит свет, а ты сбежишь из Германии, не так ли, Шпацхен?
– Глупец! Глупец! – закричал Шпац и снял очки, чтобы убрать с глаз поблескивающий значками и пуговицами облик Бено.
– А-а, Шпацхен?
– Глупец! – Шпац возвращает очки на нос. – Куда я сбегу, если имя мое будет подписано под нацистской поэмой? Наглухо буду закрыт в вашей скверне.
– Что же ты будешь делать? – выпрямляется Бено.
– Буду сидеть на животной ферме и хоронить собак, кошек и ослов.
– Э-э, нет! Не спрячешься! Никуда не сбежишь. Поэма выйдет в свет, имя твое прозвучит на всю страну. Все мы будем хвалить тебя, мы, нацисты, будем тебя возвеличивать. Это возвеличивание твоего имени нацистами найдет тебя и среди твоих собак. Не ослов будешь погребать, а на трибунах стоять, освещенный прожекторами. Жизнь твоя у нас не будет такой уж плохой.
– Минутку, Бено, минутку. Когда я слышу твой голос, я должен закурить, – Шпац достает из кармана смятую пачку сигарет.
Но поток речи Бено остановить невозможно.
– Ты никуда от нас не скроешься. Мы умеем достичь любого человека, который нам необходим. Шпацхен, я полагаю, что ты найдешь путь добыть свои рисунки без того, чтобы за деньги освободить своего еврея. Пришло время, чтобы ты освоился в нашем духе. Ты...
Шпац нападает на Бено, который отступает. Трупным запахом несет от одежды Шпаца, и Бено отбегает в конец комнаты, опираясь спиной о письменный стол, и прикрывает портрет Гитлера. Дальше отступать некуда, и он выглядит, как паук, запутавшийся в собственной паутине. Запах от Шпаца в его ноздрях, голос – на слуху.
– Клянусь честью, Бено, в это ночь ты абсолютный глупец. Ты что, действительно думал, что я о себе не позабочусь? Я передал рисунки в верные руки. Не освободишь моего друга, заставишь меня отдать рисунки, они просто будут сожжены. Ты хочешь меня впрячь в свою почетную колесницу? Плати цену, которую я требую.
Бено охватывает гнев.
– Зачем тебе этот еврей, Шпацхен? – Бено волнуется. – Ты ненавидишь нас, и в этой ненависти закладываешь душу во имя еврея!
– Не из-за ненависти к вам, а из-за любви к ним. Слышишь, Бено. Потому что евреи для меня это последняя память великой традиции, возникшей в мире в течение тысячелетий, а вы хотите это все разрушить, вы...
– Разрушить? Да, разрушить! Почему такой художник, как ты, не понимает, что разрушение это начало великого творения. Это общество с ее евреями и величием, как ты сказал, должно быть разрушено в прах. Только тогда новая власть создаст общество на новых основах, здоровых, настоящих, строящих новый германский тип человека. Как такой художник, как ты, совсем лишен чувства времени? Неужели ты не ощущаешь того, что эти дни возносят жизнь на высоты величия? Неужели и ты не чувствуешь, как каждый из нас в эти дни, божественность героя, пророка, победителя! Ведь сейчас, наконец, можно во что-то верить...
– О да! Видел в эту ночь. Чувствовал. Эту ревущую веру. Пара глаз в окне хищно набрасывается на души людей, а они выплевывают свои души в этом реве. А-а, Бено, я был там ночью, около правительственного дворца, видел эти глаза в окне, и все время думал: что напоминает мне этот рев? Теперь я знаю. Внезапно стало мне все ясно: это не вопли веры, нет! Это не рев победы, нет! Это животный рев, рев голодных зверей, так оно, Бено! И никто мне не расскажет о поведении животных: я ведь живу в их окружении, человек среди животных. Эти на улице ревели точно так же, как голодные животные у нас на ферме. Голод, страдание, ностальгия...
– Ностальгия, Шпацхен, это человеческое чувство. Ты снова этого не понимаешь: только когда человек чувствует себя животным, истинным зверем, у него возникает желание преодолеть предел сковывающей нас человеческой культуры. Ностальгия пробуждается голодным хищным ревом, жаждой освободиться и вернуться к вечным ценностям новой культуры.
– Глаза в окне приказывали: будьте зверьми! Зверьми!
– Да! Чтобы раскрыть вечность сверхчеловека, Шпацхен, которая и есть истинная человечность, что потерялась в дебрях нечестивой культуры.
– Но разве мы не говорили всегда, Бено, что культура это обуздание страстей? Не писал ли ты первые свои стихи во имя искусства, сдерживающего в человеке животные страсти? Этими стихами ты расположил к себе души читателей, которые были свидетелями разгула страстей во время мировой войны. В стихах ты выступал против ревущего зверя. Тебя увенчали короной поэта поколения, потерянного в пустыне наших душ. Публикация твоих превосходных стихов повлияла на твой дух, раскрыла в тебе поэтический голос, а не рев. Ты попал в сеть нашего прославления, она сбила тебя с пути, измельчила твой талант. С тех пор ты старался всем понравиться, купаться в людской лести, жить в ореоле славы, чувствовать свою власть над себе подобными. И так, под влиянием страстей, твоя душа опустела. Стихи стали однообразными. О тебе стали говорить, что ты стал скучным. Ты не хотел взять грех скуки на себя и перенес его на общество и культуру. Нет, Бено, не они оказались опустошенными, не они должны превратиться в прах, – идеи твои пошли прахом. Священный дух творчества испарился из тебя. Ты продал свою душу суете, баловству, сомнительной славе, злому духу силы власти. В страхе, что ты теряешь творческие силы и не сможешь удержаться на высоте, по сути своей фальшивой, ты перестал писать стихи, начал вопить, и запах пожара рядом с тобой усиливает потерю силы в тебе и обращает твою душу в прах. Человечность в себе ты съел во имя сытости, после которой на тебя нападает сладкий сон. Мне ты не будешь рассказывать о жизненном пути животных. Я живу среди них. Как человек! Слышишь, как человек!
– Вы все еще болтаете, – раздается голос на пороге.
Длинноногая красавица Эва вплывает в комнату. На вечернем платье чернеет свастика. Эва успела освежиться после парада победы, и теперь вся светится. Отблеск этого сверкания падает на Шпаца из Нюрнберга. Он втискивает руки в рваные карманы, и Бено, лицо которого раскраснелось, берет свою шляпу.
– Час поздний, – охлаждает голос Эвы накал атмосферы в комнате.
Шпац торопится к двери, на пороге оборачивается к Бено:
– Соглашение между нами подписано.
Голос Бено еще хрипит у письменного стола, но Шпац уже вышел. Сад Бено темен. Шпац должен сейчас добраться до Александра! Час поздний, но Шпац уверен, что в эту ночь Александр не спит. И он гонит машину Гильдегард к Александру.
– Извиняюсь, господин Розенбаум уехал отсюда.
Голос женщины сердит. Резким звонком Шпац поднял ее с постели в такой поздний час! Но Шпац не обращает внимания на ее недовольство. Он кричит ей в лицо:
– Уехал! Навсегда?
– Почему навсегда? Завтра вернется. Сказал, что завтра вернется.
Дверь с треском захлопывается.
– Завтра вернется, – бормочет про себя Шпац на лестничном пролете, – завтра вернется... Первый день власти Гитлера. Отец небесный.
В окнах гаснут огни, один за другим. Снег на улице скрипит под ногами.
* * *
Александр в эту ночь не спит. Он в старом здании еврейской ешивы в городке металлургов. Как только радио провозгласило сообщение, он поторопился на вокзал, и сел поезд – в городок металлургов, к дяде Самуилу.
Слабая коптилка, писк мыши в углу. Высокий ростом, согнувшись, смотрит в окно дядя Самуил. Он в черном пальто. Его седину, длинные пейсы, зачесанные за уши, высвечивает ночь. За ним стоит Александр, прижавшись спиной к стеклянной дверце шкафа, в котором лежит – огромный молот. Этим молотом разнесли много лет назад бандиты принца Боко, первую построенную в городке синагогу. Молот хранится здесь, как напоминание. Вдалеке, между жилыми домами, из острых камней мостовой, торчат два роскошных столба с разбитыми капителями – последние свидетели того великолепного здания синагоги, разрушенной принцем Боко и его головорезами. Ночью водрузили на разбитых капителях колонн два красных флага с черными свастиками.
– Они идут.
Они идут из всех узких петляющих переулков на площадь. Теснятся вокруг этих двух столбов, увенчанных флагами, тянущимися ввысь на фоне темных лесов в горах.
– Принц Боко вернулся.
На шоссе тяжкий марширующий топот, в воздухе языки пламени факелов. Улицы беспрерывно выплевывают людскую массу, словно целое войско вырывается из тьмы лесов. На свету, напротив семинарии – огромная надпись:
Когда кровь евреев с ножей брызнет,
Станет намного лучше нам в жизни.
– Дядя Самуил, вы должны немедленно покинуть город.
Рев сотрясает стекла окон семинарии:
– Хайль! Хайль! Хайль!
– А что ты будешь делать, сын мой. Вернешься туда?..
– Нет, дядя Самуил, у меня еще нет права вернуться. Я еду в Лондон, добиваться от народов мира – открыть ворота перед преследуемыми людьми.
– Станешь ходатаем, сын мой. Провозвестником ты уже был, хотел стать создателем еврейского государства, и, в конце концов, стал ходатаем. Точно, как Гершеле Катина, над которым вы в вашей юности посмеивались. Он тоже был ходатаем во имя евреев у графов страны в начале средних веков. А ты, сын мой, – в наши дни. Выясняется, что во все времена евреи нуждаются в ходатаях.
– Придет конец и ходатайству, дядя Самуил.
– Конец, – бормочет дядя Самуил, – да, конец.
Глаза их устремлены на двух крепких парней, карабкающихся на колонны Рука одного из них протянута вверх. Желтое лицо дядя Самуила искажается. Парень слева уже сумел добраться до флага. Победитель протягивает руку к людской толпе.
– Да здравствует Адольф Гитлер! Освободитель народа!
Эхом отзываются темные леса на горизонте.
– Хайль! Хайль!
– Дядя Самуил, вы должны уехать. Немедленно.
Щепотка табака в каждую ноздрю, покашливание. Дядя Самуил спокойно отвечает:
– Я, как и ты, не мог вернуться в мой дом, ибо не закончил писать книгу, а до этого я ешиву не покину. Последнюю главу я должен завершить.
Когда дядя Самуил говорит о своей книге, его всегда окружает ореол тайны, отдаляющий его от всех окружающих его людей. Всегда все замолкали, когда дядя начинал говорить о своей книге.
– Завершить последнюю главу! Завершить! – и он протягивает палец в сторону окна.
– Дядя Самуил, я обещал Монике и Габриелю, что в момент беды я не оставлю вас одного. Я не смогу заняться ходатайством во имя евреев, пока вы находитесь здесь. Сделайте то, что я прошу, во имя остальных, которых преследует беда.
– Что мне следует сделать, сын мой?
– Моника и Габриель сохранили для вас особняк на старой латунной фабрике. Все там готово к вашему приезду. Там же находятся молодые халуцы, которые готовятся к репатриации в страну Израиля. Будь среди них, и там заверши свою книгу.
– Ты смеешься надо мной! Сидеть среди евреев-халуцев, которые больше не хотят ими быть, а слиться с чужими народами, создать на Святой земле светское государство, и писать мою книгу? Среди евреев без Бога в душе?
– Дядя Самуил, молодые халуцы не с Богом, вы правы, но Бог с ними. И потому, что Он с ними, они – с Ним. Несмотря на все, они всегда с Ним.
– Сын мой, ты ходатайствуешь и за них. Ты стал ходатаем во всем.
– Я ходатайствую во имя всех нас, и потому прошу вас уехать туда и там писать свою книгу. Дядя Самуил, они нуждаются в вас, а вы – в них.
– Ты снова надо мной смеешься! Это еще было в тебе и в твоих друзьях в юности. Но в эту ночь перестань это делать...
– Дядя Самуил...
Но дядя Самуил резким жестом отмахивается от Александра, и поворачивается спиной к площади. Его высокая фигура загораживает узкое окошко семинарии, так что пылающая ночь исчезает.
– Посмотри, сын мой, как я выгляжу. Твоим халуцам не нравится такой вид еврея. Они будут надсмехаться надо мной. Нет у твоих халуцев никакого интереса к такому еврею, как я.
– Вы ошибаетесь. Они примут вас с уважением. Они будут вас охранять. Никому не дадут нанести вам вред. Вы знаете меня с молодости. Я не умею говорить высоким штилем, но искренне говорю вам, если там начнутся беспорядки, они будут вас защищать, отдадут жизнь за вас.
– Отдать жизнь во имя чего-то или кого-то, сын мой... это еще не все.
Александр продолжает говорить:
– Дядя Самуил, все, что там происходит, на старой латунной фабрике, принадлежащей семейству Штерн, должно быть вами записано в семейной хронике.
– Эту главу вы силой навязали семье, – сердится дядя Самуил, – вы, сыновья. И нет у меня желания писать эту навязанную главу.
– Дядя Самуил, каждое поколение видит иудаизм со своей точки зрения. Каждое поколение заново творит и обновляет свое иудейство. То, что вы говорите, красиво: вернуть живую душу в тело, борющееся с агонией, в тело, которое не должно умереть. Да, дядя Самуил, на каждое поколение возложено создать заново иудейство.
– Вы стремились освободиться от иудейства.
– Нет, дядя Самуил, мы стремились освободить иудейство.
– Освободить иудейство навязыванием ему идеи освобождения, время которого еще не настало. Помни, сын мой, нет большей катастрофы для народа, чем идея освобождения, толкающего его к действиям до времени. Освобождение светским путем приведет к уничтожению, сын мой!
Александр шарит в карманах, ища сигареты, но забыл спички. Это его сердит. Ему необходимо закурить, потому что дядя исчез из его поля зрения, а вместо него, перед ним в окне стоит Нахман, и рассказывает историю своей семьи. Халуц Нахман говорит тяжелым голосом дяди Самуила.
– Помни, сын мой, крепко запомни. Семь домов на месте, где скрывается Мессия. Праведник может пройти из дома в дом свободно, пока не доходит до дома Мессии. Три стены огня окружают его, три стены пылающих головешек. И надо их преодолеть, чтобы дойти до Освобождения.
Дикий вопль потрясает стены семинарии. Батальон штурмовиков проходит по улице. Вооружены они молотками, лопатами, вилами, тяжелыми молотами, слышно по голосам, что они пьяны.
– Надо погасить коптилку.
Тем временем два ловкача сняли со столбов флаги со свастиками. Штурмовики приблизились к столбам, масса вокруг освещает их факелами. Во всех окнах – свет. Все подоконники, здания, крыши забиты людьми.
– Шагом марш!
Штурмовики набрасываются на последние столбы старой синагоги. Удары, всеобщий визг и шум лесов на горизонте сливаются воедино. Столб рушится. Александр кладет руку на руку дяди Самуила, лежащую на подоконнике. Кажется ему, что руки дяди все больше холодеют. Падает и второй столб. Дядя не сдвигается с места, только борода его слегка дрожит. Люди швыряют факелы на груды камней. Гигантский столб огня взлетает над поверженными столбами.
– Три стены огня. Нет больше выхода. Следует их преодолеть. Время повелевает нам – преодолеть их.
– Езжай к халуцам, дядя Самуил. Едем к ним.
В темном окне дядя Самуил кивает головой.
Глава двадцать шестая
Оттокар фон Ойленберг, не обращая внимания на экономку, ворвался в спальню доктора Гейзе. Лицо Оттокара исхудало, глаза покраснели, темные мешки под глазами подчеркивают бледность лица. Волосы взъерошены, костюм измят. За одной ногой тянется шнурок от туфли. Внезапно поднятый с постели доктор Гейзе, не успел запахнуть полы халата и не сводит глаз с этого, тянущегося по полу шнурка.
– Все произошло так неожиданно, доктор.
Легкий парок поднимается от чашки на ночном столике доктора Гейзе. Слабый огонь потрескивает в печи, утренний ветер постанывает между деревьями. Время приближается к семи.
– Пожалуйста, Оттокар. Глоток горячего кофе, и тебе станет лучше.
Сделав несколько быстрых глотков, Оттокар возвращает чашку на стол и вытирает лицо носовым платком, хотя на нем нет ни капли пота.
– Доктор, мы всегда знали, что одноглазый придет мстить. Мы охраняли Нанте. Его дом днем и ночью был полон друзьями. Все – парни, с которыми шутки плохи, обладатели еще тех кулаков. Все поклялись не позволить одноглазому издеваться над Нанте. Так было до того дня, когда Гитлер взял власть. Все эти дни люди собирались у Нанте, в ожидании, что грянет большое восстание, которое освободит всех от Гитлера, и Нанте – от мести одноглазого. Все время шли разговоры о восстании. Только Линхен, супруга Нанте, единственная, кто не верил разговорам. Связалась с корабельщиками на Шпрее, чтобы они переправили мужа за границу. Уговаривала мужа перейти границу на востоке, и без конца повторяла:
– Нанте, беги! Нанте, беги!
Но Нанте не бежал. Чувствовал себя слишком больным и слабым, чтобы пуститься в бега. Язва желудка изводила его, и неотступное желание покориться судьбе не давало ему покоя. Он стоял он посреди трактира, окруженный друзьями, рядом с женой, и говорил о заговорщиках и контрабандистах:
– Люди добрые, оставьте меня в покое с вашими восстаниями и побегами. Гитлер – наша судьба. Ни один смертный не может сбежать от судьбы, которая дана ему небесами. Нечего делать. Судьба всегда есть судьба. Перейду границу на востоке, догонит меня Гитлер на востоке, сбегу на юг – догонит на юге, потому что он моя судьба.
Нанте Дудль говорил, а жена его Линхен ударяла кулаками по прилавку, по столу, там, где стояла, и голос ее гремел от одного края трактира до другого:
– Нанте, что это за разговоры! Для чего и для кого ты пророчествуешь?
– Бес во мне, Линхен, моя язва, она всегда великая пророчица. Нечего говорить о бегстве. Не хочу я подохнуть на чужбине, а желаю умереть в собственной постели, около тебя. Все мужчины в нашей семье отдали душу в своих постелях, рядом со своими женами.
А Линхен за свое:
– Беги, Нанте, беги!
Друзья приходили ей на помощь и уговаривали:
– Нанте, беги! Грянет великое восстание, падет Гитлер, и ты вернешься.
Нанте стоял за прилавком и протирал тряпкой рюмки. В последние дни у него только на это и хватало сил. Поднимал рюмку за рюмкой на свет и проверял их чистоту. Линхен наполняла чистые рюмки криком:
– Беги, Нанте!
А тем временем трактир заполняется друзьями и разговорами. И так как не слышен голос, призывающий к великому восстанию, ни в городе и ни в государстве, восстание готовят в таверне Нанте Дудля. Защитой Нанте и захватом одноглазого мастера дать сигнал к восстанию, превратить дом Нанте в боевую крепость. И отсюда восстание распространится по всей стране. Все вести – хорошие и плохие – приносил и уносил «Цветущий Густав», который и в эти дни кружил по городу, продавая землю для вазонов, собирая новости и «горючий материал» для вспышки восстания. Именно он и был «вождем» восстания. И девиз он выбрал – «Нанте, беги!» Когда разговоры в таверне усиливались, зажигая атмосферу и глаза, Нанте доставал из кармана губную гармонику и наигрывал компании заговорщиков старую народную песенку:
Любимая моя, ведь на ветрах
Лет через двадцать превращусь я в прах.
И все подпевали гармонике Нанте. Воинственный дух пробуждался в старой таверне странников. Поднимался на стол вождь Густав и подкидывал свою соломенную шляпу, и корабельщики, и все друзья за столами вскидывали кулаки в ритме мелодии Нанте Дудля. И Линхен стучала кулаком по прилавку с криком – «Нанте, беги!»
Ее крик воспринимали как призыв, возбуждение росло, и мелодию Нанте сопровождал стук кулаков, звон рюмок, ритм танцующих ног и шум голосов.
Теперь отголоском этих звуков взволнованный голос Оттокара наполняет комнату доктора Гейзе, который сидит на кончике стула, потряхивая полами своего халата в такт крику Линхен. Доктор отодвигает голову от спинки стола, на котором висит пальто Оттокара, и от него идет резкий запах мокрой шерсти. Тем временем, утро в разгаре: свет его и сухой холод сочатся в окна. Доктор встает и подбегает к окну. Широкая улица уже забита машинами и людским потоком. На многие окна повешены огромные красные флаги с черными свастиками. Со дня прихода Гитлера к власти число таких флагов на домах множится с каждым днем. Доктор пальцем считает флаги. С утра появилось еще несколько. «Три», – бормочет доктор, и опять считает. И не потому, что боится ошибиться. Просто все время отводит взгляд от фасада дома напротив. Там, на окнах еврейского ресторана, опущены тяжелые жалюзи, и уже третий день двери не открываются. А на жалюзи огромными черными буквами намалевано – «Юде»!
Священник Фридрих Лихт и доктор приняли решение закрасить эту надпись красной краской. Вчера, под покровом ночи, они хотели это сделать. Пришел священник и сказал:
– Не стоит. Слово мы сотрем, а накажут хозяина ресторана. Нечего нам выступать героями за чужой счет. Совесть наша облегчится, но судьба еврея будет тяжкой.
В ту ночь они стояли у окна и смотрели на надпись. Улица была полна света и народа. Многие приходили издалека. В перемещениях множества людей в эти дни было что-то хищное, звериное желание рвать и рушить, кусать, пожирать. Жажда действия изводил и доктора, наполняя рот сухостью, и сотрясая тело, как в лихорадке. И доктор не отдавал себе отчета, то ли это жажда жизни, то ли – смерти. Иногда доктор силился утолить эту жажду какими-то отчаянными планами, иногда – мыслями о пистолете. Но это всегда гнездилось в нем, и когда он пытался отключиться от этого безумия, им овладевало чувство одиночества и возвращало хищное дыхание уличных масс.
– Мне нужно что-то сделать! – вскрикивал доктор Гейзе, обращаясь к священнику Фридриху Лихту и указывая на надпись, – нечего нам ждать, пока улица опустеет, и погаснут фонари. Выйдем сейчас же. Сию минуту. Сотрем это слово на глазах у ликующей толпы. И пусть арестуют нас. Тогда наше действие не припишут хозяину ресторана.
Священник положил руку доктору на плечо:
– Мы должны отказаться от этого. Это их сатанинский стиль: мы, может быть, будем отпущены, еврей – никогда.
«Юде»! – слово продолжает вопить. Доктор, стоя у окна ощущает сухость во рту, и от накатывающих волн лихорадки лицо его багровеет. Вздох вырывается у него, и Оттокар тоже подходит к окну. В этот момент пролетает самолет в светлом небе. Гигантский корпус летит на бреющем полете над заснеженными крышами. Серебристого цвета фейерверк и листовки разлетаются в воздухе. Множество рук старается поймать их, словно манну небесную. Люди подбирают листовки на снегу. Дети визжат от восторга и гоняются за листовками. Оттокар следит за взлетающей громадиной, жужжание которого раздражает и не дает покоя.
– Доктор, – Оттокар старается подавить это комариное жужжание, словно впивающееся в душу, – арестовали Нанте Дудля. Знаете, что это означает?
Доктор словно бы не услышал выкрик Оттокара. Взгляд его прикован к улице и потоку людей под дождем листовок. Новое правительство поливает народ новыми законами и правилами чрезвычайного положения. Мужчины с кожаными портфелями, женщины с корзинами для покупок, уличные торговцы, полицейские, дети... У всех в руках листовки. Водители выходят из машин – поймать листовку. Летит камень в надпись «Юде». Подростки под окном доктора Гейзе швыряют камни и снежки. Каждый раз, когда камень попадает в надпись, раздаются восторженные крики под окном доктора. Никто из огромной толпы на улице даже не пытается остановить подростков, швыряющих камни. Люди освобождают тротуар бесчинствующим подросткам.
«Страх!» – во рту доктора сухо, он лишь невнятно сипит, – страх, это великий творец, он создает человека, создает народ. Он протягивает руку к оконной ручке. Чувство голода из его внутренностей рвется повелением – «не отступай перед этой реальностью – врывайся в нее! Руками, голосом. Отмени эту уличную реальность своей волей, своим поступком!»
Доктор оглядывается по сторонам – найти какой-либо предмет и швырнуть его в разбушевавшихся подростков. Ничего нет, кроме пустой чашки. Он открывает окно и в комнату врывается резкий порыв ветра. Оттокар отводит его руку вниз и закрывает со стуком окно.
– Нечего вам тут делать, доктор! – доктор закрывает глаза и отступает от окна, чтобы ничего не видеть. «Страх, страх господствует над всем, и над тобой, в том числе...» Открывает глаза и снова бросается к окну. Штурмовик учит подростков точно попадать в цель. Камень летит и ударяет в самый центр слова «Юде».
Подростки рассеиваются, торопятся к остановившемуся трамваю – успеть к началу школьных занятий.
Из дома выходит привратник с метлой, подметает камни, разбросанные перед фасадом камни, свистит в свисток. Молодая женщина проходит мимо, толкая коляску с ребенком. К коляске прикреплен бумажный красный флажок с черной свастикой. Останавливается напротив дома и поднимает листовку, мельком прочитывает и прячет под детское одеяло.
– Не понимаю, – бормочет доктор, – и все же, понимаю.
– И я не понимаю, доктор. Чем больше я силюсь осознать, как все это произошло, тем больше становлюсь в тупик. Трактир был полон друзьями Нанте Дудля. Время было вечернее, когда люди выходят прогуляться по берегу Шпрее. Трое, вошедших в трактир, ничем не отличались от остальных. Те же круглые шляпы, те же теплые пальто, те же добротные ботинки, и те же коричневые прогулочные трости. Все трое были пузатыми и курили толстые сигары. Сидели в углу и попивали пиво. Никто не испытывал к ним никаких подозрений, ибо какую опасность могут представлять три скучных толстяка среди стольких крепких кулаков, который не очень остерегался в разговорах. Вообще, в пивной Нанте никогда не соблюдали осторожности. Там они создали свою реальность, которая ослепляла их и не давала им видеть то, что происходит вокруг.
– Медведи в своей берлоге, – прерывает его доктор.
– Точно. Вы говорите, словно там были. Мы даже не обратили внимания на то, что крестьяне, приезжающие на рынок, уже не останавливаются на ночлег у Нанте. Кто-то их предупредил. Но заговорщики были уверены в своей силе. В этот вечер поставили дежурных на входах в дом, были уверены в безопасности, пили шнапс и болтали. Нанте сам не был спокоен. С большим подозрением поглядывал на толстяков. В эти дни он с подозрением относился к любому чужаку. Вообще не покидал дома. Я стоял рядом с ним. Руки его были все время в движении, подбородок дрожал каждый раз, когда он обращал взгляд на толстяков, сидящих в углу. Тогда он делал глоток молока из стакана, всегда стоящего рядом с ним, и прополаскивал горло, не в силах сразу проглотить. Один из толстяков подошел к прилавку, заказать еще пива. Посмотрели они друг другу в глаза, и что-то в этом скрещении взглядов сильно взволновало Нанте. Толстяк ушел, Нанте приблизил ко мне голову и быстро прошептал:
– Граф, вовсе мне не хочется быть пророком, но глаза в голове моей, мозг в затылке, и язык рвется сказать, что предвидит сердце. Мы с вами, граф, люди искусства, и, между нами говоря, у людей искусства есть склонность к пророчеству. Вы пророчествуете в лепке, я – на губной гармонике. Вы пророчествуете в камне и вам хорошо. Камень тверд, и все, что вы вырезаете в нем, остается навечно. Я же роняю пророчества в звуках, и они тут же исчезают. Несмотря на это, я не говорю вам, что мне плохо. Вовсе не плохо человеку, мудрость которого растет из его рта. Я вам все еще не рассказал, что недавно произошло со мной. В молодости у меня сломался зуб. Из-за курительной трубки, которую я все время держал между зубов. Извлекли остаток зуба, и теперь трубка торчала в дыре между зубами. И тут я почувствовал неудобство, трубка на что-то наткнулась, и весь рот разболелся. И я про себя подумал: Нанте, ты совсем прогнил. Недостаточно тебе язвы желудка, вот и во рту все гниет. Пошел я к дантисту. И что у меня оказалось во рту? Не гниль, говорит дантист, а растет у тебя зуб мудрости. Я сгниваю от язвы, а мудрость растет сама по себе. И это в моем возрасте и положении. Я много размышлял по этому поводу. Известно, что человек все время изменяется, граф. Человек чувствует, что движется к гибели, но он – отдельно, и дело это – отдельно. Теряет форму и обретает форму. Гниет во внутренностях и обновляется во рту. Граф, нет у меня желания вторгаться в ваше искусство, но то, что у меня растет зуб, не хуже, чем то, что вы выскабливаете из камня. И пророчество мое и есть пророчество, несмотря на то, что родилось оно от зуба и болезненной язвы. Ведь еще Иисус говорил о зубе и щеке, когда сказал: ударят тебя по щеке, подставь вторую. В этом секрет всех страшных бед, которые свалились на нас. Жажда мести захватила людей. Это не ново. Это было и до Иисуса. Получал человек пощечину, и тут же возвращал ее тому, кто нанес ее ему. Так отец ведет себя с сыном, и сын со своим сыном, муж с женой, жена с мужем, друг со своим другом, любовник со своей любовницей. Так ведут себя страны, правительства, партии в войнах и революциях. Это всегда одно и то же, власть против власти, сила против силы, удар за удар, око за око, зуб за зуб. Это закон щеки и зуба! Месть и битье – бесконечной цепочкой. Но, граф, должен же когда-нибудь быть этому конец! Встанет некто, мужчина из мужчин, мужественный среди мужественных, и даже, получив пощечину, не ответит, потрет щеку и не вернет пощечину ближнему. И тогда это будет последняя пощечина, и не будет больше пощечин и мести. Мужчина из мужчин отменит «зуб за зуб». Внезапно случится чудо, что в теле мира, который все больше сгнивает, вырастет зуб мудрости. И все, что было до сих пор, было гниением с одной стороны, и ростом мудрости – с другой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































