Текст книги "Дети"
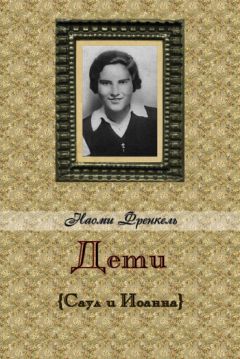
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 44 страниц)
Глава двадцать первая
Большая забастовка закончилась! Берлин снова гонит машины и поезда, шумит своими шоссе, гремит стальными мостами, гудит и скрежещет подземными тоннелями метро. Гудят колокола всех церквей. Приближается Рождество! Елки продаются на всех углах, город полон запахом хвои. Снег лежит белизной на их зелени. Праздник заполонил город. На любой пустой площадке – праздничные базары. Продают с лодок, вмерзших в лед реки Шпрее. Стеклянные шары, золотые и серебряные звезды свечи, горящие на витринах. Обилие вещей возбуждает массы безработных, копошащихся по всем углам. Не было такой большой безработицы, тяжкого голода, нищеты, как на Рождество 1932 года. Множество детей высыпало на улицы и рынки – просить милостыню. У них большие глаза на тощих лицах, рваная одежда, и все они тянут руки к прохожим. И везде музыка и пение. Множество шарманщиков – на улицах и во дворах.
Ночь безмолвна. Дремлет скит.
Сладок сон. Лишь он не спит.
Спят святые, день поправ.
Парень молод и кудряв,
Прямо с неба, среди рос,
К нам идет Иисус Христос.
К нам идет Иисус Христос.
Песня эта звучит из приемника в чайной комнате дома Леви. В этот утренний час в комнате Гейнц и Иоанна. На столе еще остатки ужина. Гейнц торопится выключить радио.
– Просто ужас, – сопровождает его голос Иоанны.
– Никакого ужаса, Иоанна, все не так страшно.
Радио смолкло, и плачущий голос Иоанны звучит в полную силу.
– Вытри лицо, Иоанна, и успокойся.
– Я поеду! Я поеду к деду и бабке со стороны матери, в Кротошин!
– Нет, не поедешь! На этот раз ты не добьешься своего!
Гейнц поставил заслон любому выходу из дома на дальние расстояния. Правительство канцлера фон-Папена пало. Власть перешла в руки генерала фон-Шлейхера. Из-за него Гейнц ввел в доме чрезвычайное положение. В школах начались рождественские каникулы, и Гейнц запер членов семейства в стенах дома. Никакой поездки в Польшу, никакой школьной экскурсии в горы. Все приняли запрет, наложенный на них Гейнцем, все, кроме Иоанны. Из-за какого-то генерала Шлейхера она не увидит своих деда и бабку, и не отпразднует с ними праздник Хануки?
– Если я сейчас к ним не поеду, больше никогда их не увижу!
– Что это за разговоры, Иоанна, почему ты их больше не увидишь? Пройдет это напряжение, и ты поедешь к деду и бабке в Польшу. В следующие каникулы. Я тебе гарантирую.
– Ты гарантируешь! Сердце мне подсказывает, что я их больше никогда не увижу. И все из-за тебя!
– Прекрати сейчас же, Иоанна!
«Иисус Христос приходит! Иисус Христос приходит!» – снова врываются звуки песни в распахнувшуюся дверь. Кетхен убирает в столовой и включила радио на полную мощь, снимает покрывало с клетки попугая, и тот испуганно взлетает, трепещет головой и телом, ударяет по прутьям клетки крыльями, падает и издыхает. Кетхен не заметила горькой кончины попугая, удалившись от клетки. Со ступенек донеслись до нее шаги Вильгельмины. И Кетхен поторопилась к буфету – протереть до блеска серебряную посуду. Никто еще не знает о судьбе попугая. Рывком открывает Вильгельмина двери, и с ней вновь ворвались звуки рождественской музыки. Она стоит в дверях, прижимая к животу поднос, вся в белом. Хотя она в темном платье, но широкий белый передник облекает ее всю. На ее коротко остриженных и причесанных светлых волосах – белый выглаженный чепец. Ее полное румяное лицо, без единой морщины, светится. Руки, держащие поднос, вымыты, ногти чисты. Несмотря на то, что пришла она из кухни, на белом переднике ее – ни пятнышка.
– Завтрак закончился, – провозглашает она.
Ее большие и тяжелые туфли стучат по полу. Гонг на буфете издает легкий стон.
– Кто положил грязный платок среди посуды? – взгляд Вильгельмины, конечно же, направлен на Иоанну.
– Платок мой, – говорит Гейнц и кладет его в карман.
С тех пор, как эта пришла командовать в кухне, материнский гонг смолк. Вильгельмина любит пользоваться своим голосом. Каждое утро она возникает на ступеньках и поднимает зычным своим голосом весь дом на ноги: «Завтрак готов!» И то, чего не добивался гонг в руках Фриды, добивается голос Вильгельмины: домочадцы подчиняются и быстро занимают места за столом.
Только сейчас Гейнц ощущает, что Иоанна тянет его из комнаты, кладет руку ей на плечо и выходит.
– Будь спокойной, Иоанна, – ерошит он ей волосы в коридоре, – будь спокойна, девочка. Ты еще увидишь деда и бабку в Польше. Я обещаю тебе.
– Нет! Нет! Гейнц, ну, правда. Не знаю, почему, но я знаю, что больше их не увижу!
«Ночь в Индии, тихая ночь...» – гремит радио в столовой. Гейнц торопится к двери и захлопывает ее силой. Кетхен пугается. Это, несомненно, Вильгельмина захлопнула с такой силой дверь, чтобы ее предостеречь. Эта особа, приведенная в дом дедом, знает, как командовать людьми! Кетхен явно обеспокоена. Всегда свою работу она делала под звуки рождественских песен, делая при этом медленные танцевальные движения. Лицо ее мечтательно. Клетка с мертвым попугаем тоже вздрогнула от удара двери. Снова Кетхен не обратила внимания на попугая, распрощавшегося с жизнью прямо на ее глазах.
Гейнц уже спустился в гостиную, собираясь выйти, наконец, из дома, но вдруг:
– Алло, Гейнц, минутку.
Это голос Эдит. Она бесшумно возникла из кухни, в своих меховых, домашних туфлях, на босу ногу. Не причесана. В руках – задымленный и замасленный сундучок с едой, который берут на работу.
– Возьми его с собой на фабрику, Гейнц.
Лицо ее чуть краснеет под его взглядом. Но глаз она не опускает, и взгляд ее дерзок. Сундучок этот принадлежит Эрвину, и теперь они держат его с двух сторон и смущенно смотрят друг на друга.
– Ты готовишь это Эрвину на работу? Каждое утро? – с удивлением смотрит Гейнц на домашнюю принцессу, которая, вот же, как обычная жена, беспокоится о своем муже.
На ступеньках появляется Вильгельмина, вся сверкая белым, с полным подносом посуды в руках. Движения ее легки, лицо гладкое, руки выступают мужскими мышцами из-под тонкой ткани платья. Гейнцу неприятна это большая, мясистая, энергичная женщина, но в этот момент он в чем-то оценивает ее несколько положительно: «Сила у нее есть».
– Она не признает Эрвина, – цедит сквозь зубы Эдит, – просто не признает. Я приказала ей приготовить ему еду на фабрику, но она, вот, и сегодня, как бы забывает. Уже много дней он выходит на работу без еды, и не сказал мне об этом, пока мне об этом не рассказала Кетхен. С тех пор я встаю, чтобы ему приготовить. Она наглеет. Надо с ней строго поговорить.
– Сделай это, Эдит. Поговори с ней строго.
На этот раз под его пристальным взглядом она опускает голову. Никто в доме до сих пор не сказал ей ни слова о том, что она так вот, открыто, живет в доме с Эрвином. Члены семьи относятся к ней, как обычно, с большой осторожностью. Также и к Эрвину относятся с большой добросердечностью.
Он со всеми дружен. Помогает старому садовнику подметать дорожки в саду, затыкает по просьбе Фриды крысиные норы в подвале, играет с дедом в карты, а с Францем и Фердинандом – в шахматы. Даже с халуцем Иоанны ведет долгие беседы. Зерах – большой поклонник коммунистической партии, и все его надежды на то, что коммунистическая революция спасет Германию. Да, Эрвин приятен и приемлем всем, проживающим в доме Леви. И все же, при всей осторожности и приветливости, которым его окружают, есть ощущение некой отчужденности, этакого доброго отторжения. День за днем Эдит ждет разговора с семьей и боится этого разговора. Знает она, что не сможет логично объяснить происшедшее. Может быть, лишь наиболее приемлемо поговорит с Гейнцем?.. Лицо его замкнуто, губы сжаты. Нет, он не будет с ней говорить. Она должна начать первой. Ведь, именно этого все ждут от нее. Это первый раз, когда она должна взять на себя инициативу – бороться за любовь членов семьи.
– Гейнц, – выпрямляется она, – многие вещи изменились.
– Да, изменились.
– Нам надо поговорить.
– Да, есть о чем поговорить.
Она видится ему, как девочка, – волосы распущены, лицо светится нежностью от смущения. Последние недели сняли с лица ее серый налет последних месяцев. Она словно впервые вкушает радость подлинной жизни. Нет! Гейнц не собирается вторгаться в жизнь Эрвина и Эдит. Лицо его смягчилось.
– Да... – он улыбается Эдит, – но сейчас у меня нет времени.
– Нет, – улыбается и она, – это не так срочно.
Он открывает дверь, и оборачивается к ней:
– Кроме сундучка, передать Эрвину привет от тебя?
– Конечно. Пожелай ему доброго дня.
Дверь в столовую снова раскрыта. Кетхен закончила там наводить порядок, и вышла, нагруженная всеми приборами для уборки. Какая тишина в комнате! Она приводит Эдит в непонятное ей самой изумление. В этот момент ей не приходит мысль, что попугай всегда наполнял комнату хриплым криком и шумом крыльев. Заглянула она в комнату, и тоже не обратила внимания на то, что попугай в клетке мертв. Она закрывает двери и торопится в комнату Эрвина. Одежда его – на стуле, около кровати. Шпильки от ее волос – на столе. В углу – большая деревянная лошадка с пышной гривой. Вчера они болтались по рождественским базарам и купили этот подарок маленькому сыну Эрвина.
– Ты должен пойти в свою семью – отпраздновать Рождество.
– Нет. Я только пошлю подарки сыну и Герде.
– Почему ты ни разу их не проведал? Это из-за меня?
– Нет.
– Что за секрет, который носишь в себе, Эрвин?
– Придет день, и все тебе станет ясно, Эдит. Не спрашивай меня сейчас.
Секрет этот создает между ними напряжение, обозначая между ними грань, но она преодолеет эту преграду.
– Что случилось между вами?
– Фальшь... фальшь возникла между нами. Вместо самой жизни.
Из лихорадочных размышлений у нее возникла идея: она будет посланницей Эрвина. Не будет его спрашивать, не попросит у него разрешения. Просто повезет его маленькому сыну лошадку, увидит Герду, поговорит с ней, и секрет раскроется. Правда об их отношениях станет известной и Герде.
– Все время, когда мы были вместе, мы словно и не готовились к жизни. Любовь, наслаждение, счастье, радость отодвигались в далекое будущее. Но человек создан, чтобы жить.
Герда не дала ему жизни. От нее он пришел к Эдит с разбитым сердцем. Его и ее страданиями они купили себе право их любви и жизни. Герда должна все знать. Сейчас же она возьмет лошадку и поедет к Герде. Эдит ускоряет шаги.
«Ты стоишь между мной и миром снаружи», – голос его касается ее сердца, она останавливается. Это было ночью, когда он прошептал ей эти слова. Первая их ночь, темная и глубокая, охваченная вьюгой за окнами, вьюгой, в которую был погружен огромный мир.
«Ты стоишь между мной и миром снаружи».
Мог ли Эрвин другими словами высказать ей истинность его чувств, которые ее саму поставили на грань между прежней и нынешней жизнью? Нет! Не дай Бог ей тайком перейти эту границу. Все их прошлое и будущее в настоящем дне.
Дверь раскрывается без стука. Кетхен – с метлой и тряпкой.
– Извините, что не постучала.
– Все в порядке. Откуда ты знала, что я здесь?
– Я могу здесь убрать, госпожа Эдит?
Эдит убегает в ванную, и второпях забывает взять с собой золотой браслет с большим бриллиантом, подаренный ей матерью. Но комната Эрвина теперь оккупирована Кетхен, и оттуда она не торопится уходить. Спальни не в ведении Вильгельмины, ими ведает Фрида, а Фрида есть Фрида. Тем более, что каждое утро эта комната приводит Кетхен в смущение: всегда здесь находятся вещи, которые не должны здесь быть. И Кетхен не знает, куда их упрятать, и, вообще, как с ними быть. Вот, сейчас в ее руках ночная рубашка Эдит, и лицо ее краснеет в момент, когда Фрида врывается в комнату.
– Что ты здесь возишься? – выговаривает ей Фрида, – наведи порядок, положи каждую вещь на место.
И Кетхен быстро уносит ночную рубаху Эдит в ее комнату. Фрида подозрительно рыщет взглядом по всей комнате Эрвина! Золотой браслет Эдит! И... Иисус Христос и святая дева! – на ночном столике Эрвина, в маленьких рамках из коричневой кожи – фотографии господина и госпожи Леви, да покоятся их души в раю...
– Позор! Позор! – и она опускает голову перед улыбающимися лицами господина и госпожи. – Что происходит в этом доме в последнее время? Тут – Эдит и Эрвин, в кухне – Вильгельмина. Нельзя этого выдержать. Она, Фрида, делает все возможное, отчитывает деда, отчитывает Гейнца, чтобы они, в конце концов, вмешались во все это! Но Гейнц глух и нем ко всему этому. А дед все время улыбается этой тевтонке! Все, кроме него, не терпят ее, – а он – за свое! Иисусе! Некому излить душу. Доктор Ласкер больше не приходит их проведать, словно земля его поглотила. Не слышно его и не видно. Почтенные люди чураются этого дома, и в нем командует тевтонка.
– Я могу убрать комнату? – спрашивает Кетхен, вернувшись из комнаты Эдит. Решительным движением забирает Фрида со столика Эрвина золотой браслет Эдит и фотографии ее отца и матери в кожаных рамках.
– Ты все это здесь забыла! Я ведь сказала – положить вещи на свои места?
Кетхен вышла, Фрида поворачивается спиной к пустому столику Эрвина, на душе стало как-то легче, но тут ее взгляд упирается в деревянную лошадку!
– Зачем это? – опускается она снова в кресло. – Деревянная лошадка? Отец небесный, только этого не хватало в этом доме. Ребенок! Разгневанная, она идет в комнату деда.
В комнате деда светятся белыми воланами портьеры бабки и разложены все ее скатерти и салфетки. И свет в комнате от настольной лампы бабки. Свет снаружи мягок, чудное утро, приятно сидеть в кресле-качалке и курить роскошную сигару. Дед покачивается в кресле, окутанный ароматным облаком своего табака, и тут врывается Фрида и нарушает его приятный покой. Портьеры взлетают от распахнувшейся двери.
– Что случилось? – пугается дед. – Как он себя чувствует?
Имеется в виду Зерах. Халуц Иоанны болен. Приступ почечных колик был настолько сильным, что надо было вызвать врача и сделать ему успокоительный укол. И почему все это? Из-за его бесконечной ходьбы в рядах демонстрантов. Все время, как в дни юности здесь, в Берлине, он участвует в демонстрациях и шествиях, полагаясь на ботинки Болека, хранящие его от холода. С собрания на собрание, с демонстрации на демонстрацию. Он даже иногда выступает с речами. Кончилась забастовка и вспыхнула страшная вражда, старая вражда между нацистами и коммунистами, и без конца ползут и множатся слухи о том, что генерал Шлейхер сговаривается с Гитлером о создании правительства. Город похож на водоворот, рабочие демонстрируют, и коричневые батальоны Гитлера маршируют по рынкам. Праздник и битва в городе – как близнецы. И рождественские песни звучат, как боевые марши. Все время кровавые столкновения. Полицейские машины не перестают гудеть. Елки падают от залпов, и кровь на снегу. Попал Зерах во всю эту кутерьму большой войны. Берлин тридцатых годов лихорадит не меньше Берлина годов двадцатых. Политика захватила место теорий и идей. И все же Зерах не тот, каким был в двадцатые годы! Вчера ему изменили ботинки Болека, и теперь он лежит в постели и стонет от боли.
– Как он себя чувствует? – спрашивает дед с большим беспокойством.
Фрида забыла цель своего прихода к деду, переплетает пальцы и поднимает глаза к потолку.
– Боже, уважаемый господин, как он страдал! Бегал туда и назад!
– Бегал?! Ведь доктор сказал ему – лежать и не двигаться.
– Как ему лежать без движения, если в животе у него шоколад.
– Шоколад! – поражен дед. – Причем тут шоколад?
Тут обнаруживается ошибка. Дед имел в виду Зераха, а Фрида – Франца. Франц, как спортсмен, встает раньше всех в доме и торопится в ванную – укрепить тело холодным душем. Он так же единственный из семьи, который чувствует поддержку Вильгельмины и посещает ее на кухне, ведя с ней короткие и длинные беседы о гребной секции. Его, как и ее, привлекает этот вид спорта. Так случилось, что вчера он пошел кататься на коньках и разбил колено. Утром встал – сменить повязку на колене, открыл аптечный шкафчик в ванной, и, к большому своему удивлению, обнаружил там плитку шоколада. Рядом с ней, в уголке, лежала книга Иоанны, и Франц был уверен, что это она припрятала шоколад вместе с книгой. Что же он сделал? Горе ушам, что это слышат: не отходя от шкафчика, сжевал и проглотил без остатка всю плитку! Но шоколад этот не принадлежал Иоанне, и это вообще шоколад специально для поноса, купили для Бумбы, которого нельзя заставить пить касторовое масло. Так что у Франца это тоже сработало. Во всех упражнениях его спортивной секции он так резво и без конца не бегал под действием этого «шоколада».
– Пусть бегает! – говорит дед Фриде, уяснив свою ошибку. – Пусть бегает, и научится сдерживать себя от обжорства.
– Да, он вообще не любитель поесть, – говорит Фрида, – он просто голоден.
– Голоден?! – никогда еще в своей жизни дед не слышал, что в его доме кто-то голоден.
– Именно, уважаемый господин, голоден! У меня и моей матери дети привыкли заходить в кухню, когда им захочется. В конце концов, они – дети, несчастные сироты. Покойный господин никогда не заставлял меня запирать от детей в буфете сладости. Фрида, говорил он мне, если сладости будут перед ними открыты, они не будут так жадны к ним. А сейчас эта Вильгельмина заперла все! Буфет в столовой закрыт на ключ. В кухню не вхож никто, чтобы полакомиться в кастрюлях, как это принято у детей.
– Вильгельмина, – прерывает ее дед, – во всем виновата она.
Только тут вспоминает Фрида, что вовсе не из-за Вильгельмины пришла к деду.
– Не о ней речь, а об Эдит! – и, ослабев, опускается на кресло. – Уважаемый господин, когда всему этому придет конец?
– Чему? – удивляется дед.
– Что значит – чему? Они вместе живут в одной комнате.
– А-а, – отмахивается дед, – это уже давно.
– Но, уважаемый господин! В одной комнате, на глазах у малых детей, без венчания. Это же может сделать Иоанна, когда придет ее время?
– Иоанна? Нельзя знать, что сделает Иоанна.
– Но, уважаемый господин, это же полный крах!
– Почему? Эдит выздоровела и стала еще красивей в последнее время. Она даже прибавила в весе.
– Здорова! – вскрикивает Фрида. – Прибавила в весе. – Она упирает в деда молящий взгляд: может, он, в конце концов, поймет, в чем дело, и не надо будет ему объяснять, почему она прибавила в весе?
Дед продолжает безмятежно раскачиваться в кресле.
Еще пара раскачиваний, и дед встает. Начинает расхаживать по комнате, заложив руки за спину. Неожиданно останавливается перед большим зеркалом, рассматривает свою шевелюру, и толстые его брови шевелятся.
– Лицо Эдит похудело. Очень похудело... – и, глядя на свое лицо, глубоко вздыхает. – Мы уже стары, Фрида. Не стоит нам вмешиваться в дела молодых.
Фрида опустила голову: дед открыто признается в своей старости. Никогда еще этого она не слышала из его уст. Слова эти защемили ей сердце, как в молодости, когда дед любил ущипнуть ее за щеки.
– Ах, уважаемый господин, как все изменилось.
– Фрида, – переводит дед разговор на другую тему, – завтра мы идем в банк проверить твой счет. Капитал твой хорошо увеличивается из года в год.
Слезы на щеках Фриды.
– Уважаемый господин, – она складывает руки на груди, – даже если мой счет растет из года в год, Рождество в этом году не будет таким, как в прошлые годы.
– Абсолютно тот же праздник.
– Нет, в этом году будет Вильгельмина.
Когда кто-то ругает новую повариху, дед выходит из себя.
– Что ты имеешь против нее? Я хочу хоть один раз услышать ясно, в чем дело?
– Просто, я не терплю ее. Никто в доме ее не терпит.
Фрида теряет всякую сдержанность, когда речь идет о Вильгельмине.
– То, что я говорю вам, уважаемый господин, я не буду стоять рядом с ней около одной елки! Или она или я.
– Будь разумной, Фрида. Что я должен сделать?
– Немедленно выгнать ее из дома.
– Нет! – решительно отрезает дед. – Нет никакой причины выгонять ее из дома. Она прилежна, чиста, профессионально выполняет свою работу. Ее ни в чем нельзя упрекнуть.
– Можно, и во многом, увольте ее.
– Дед! Дед! – врывается в комнату Бумба. – Он мертв! – И протягивает деду клетку с мертвым попугаем.
– Это случается, – успокаивает его дед, – птицы умирают, и покупают новых птиц.
– Я не хочу другого попугая. Я хочу только моего попугая.
– Но мальчик, он же мертв.
– Меня это не колышет. Он мертв, потому что Вильгельмина его отравила.
– Мальчик, прекрати говорить глупости. Некрасиво так говорить.
– Она его отравила! Что вдруг он умер, если она его не отравила? Вчера еще кричал, а сегодня – ничего. Дед, только она такое может сделать, только она.
– Бумба, я не люблю, когда обвиняют без всякого основания.
– Без основания? Да, она не терпела моего попугая, потому что он всегда ей кричал – «Я несчастен, госпожа». Она мне сказала, что не любит несчастных, ни людей, ни попугаев.
– Мальчик!..
Теперь в деде восстает все – топорщатся волосы и усы, поднимаются глаза и брови. Он берет Фриду за плечи и отодвигает ее в сторону, отнимает у Бумбы клетку с попугаем, и ставит ее решительным движением, без всякого уважения к мертвому, на стол, накрытый чистой кружевной скатертью бабки:
– Вы все сошли с ума! Все набросились на добропорядочную несчастную женщину. Я не потерплю этого! Ни в коем случае не потерплю!
И дед делает то, что никогда не делал: указывает на дверь и гремит во весь голос:
– Уходите отсюда! Немедленно уходите!
«Выгонять меня из комнаты из-за Вильгельмины? Меня?!
Фрида хватает за руку Бумбу, тащит его через всю комнату и даже не оборачивается в сторону деда. Бумба все же оборачивается в дверях, и черные его глаза блестят:
– Она, она его отравила! Она вообще делает себя начальницей в доме. Это я говорю тебе, дед.
Дверь захлопывается, и дед остается в комнате один в компании мертвого попугая.
«Никому не нанесет вреда, если она немного наведет порядок в доме». Принятие Вильгельмины в семью сделалось для деда сильнейшей необходимостью. Он даже не требует от нее подчинения духу этого дома. Дед ищет компромиссы. Постепенно все к ней привыкнут, а она привыкнет к ним. Дед обязан сломать эту вражду в доме. Следует поговорить с Вильгельминой, научить ее правилам поведения в доме в духе ее обитателей. Ему следует поговорить и с ними, чтобы они также поняли ее.
Тем временем, Фрида поднимается на второй этаж. Бумба уже вырвался из ее рук и помчался по всему дому возвестить о мертвом попугае. Фрида намеревается справиться о здоровье Франца. Но в эту минуту ей встречается Эдит. Умытая и надушенная, она выходит из ванной.
– Иисусе, детка, – вскрикивает Фрида, – почему ты не обернула голову полотенцем? Слышно ли такое? Выйти из горячей ванны на холодный воздух, не обернув голову полотенцем!
Фрида суетится вокруг Эдит, сопровождает ее до ее комнаты и даже вместе с ней входит.
В комнате все прибрано, не к чему придраться. Кровать застелена, золотой браслет на ночном столике, на котором, как всегда – фотографии господина и госпожи Леви в кожаных коричневых рамках. Центральное отопление работает в полную силу и сушит мокрую голову Эдит. Золотые рыбки безмятежно плавают в большой стеклянной банке. Опускается Эдит на стул перед парфюмерным столиком – сделать себе маникюр, Эсперанто лежит у ее ног.
«Как она красива, – плачет душа Фриды, – как красива! Принц ей не пара, только король! И она, несчастная, ввязалась в такую позорную историю. Ах, Святая дева Мария!»
У кого есть право вмешиваться в дела Эдит, если не у Фриды?
«Я ведь держала ее ребенком в своих объятиях».
– Эдит, я видела деревянную лошадку в комнате Эрвина.
– Красивая лошадка, правда?
– Красивая лошадка. Но зачем она нужна, такая большая?
– Что значит, зачем? Чтобы на ней скакать.
– Эдит, детка моя, младенец не скачет на лошадке.
– Но, Фрида, он не младенец. Сын Эрвина – большой мальчик...
– Его сын! – повторили губы Фриды, и тут Эдит стало ясно, что имела в виду Фрида, она отбросила ножницы на столик, и зашлась в неудержимом хохоте. Ох, как умеет сдержанная и тихая Эдит хохотать! Вся комната сотрясается и звенит от этого хохота. Так хохочет лишь дед.
– Фрида, ты неподражаема! – Эдит вскакивает со стула, обнимает Фриду за плечи и целует в щеки. – Ты божественна»! – И кружит ее по комнате.
– Ты сошла с ума, Эдит! Эдит!
Эсперанто поднял голову в сторону двери и проворчал. Это дед прошел по коридору, мимо двери.
Дед начал свой примирительный обход комнат с посещения больных – Франца и Зераха. На ступеньках – Иоанна.
Волосы не причесаны, глаза покраснели от слез.
– Иоанна, внучка моя, здоровье твоего Зераха улучшилось. Утром ему стало намного легче.
Но от этого сообщения лицо ее не посветлело. И чего ему светлеть, если ее халуц приносит ей только неприятности. С ним одни неловкости. Он демонстрирует вместе с коммунистами на улицах, всеми способами выражая им поддержку. Вообще, ему наплевать на страну Израиля и на то, что коммунисты ненавидят сионистов. В бурных спорах с Эрвином он выставляет себя коммунистом. Закончилась большая забастовка, пало правительство, объявили новые выборы. Пятый раз в году граждане пошли к урнам. И не было более скучных выборов! Равнодушие и рутина охватила всех. Только Зерах все принимал близко к сердцу. На этих выборах нацисты потеряли два миллиона голосов, а коммунисты, наоборот, набрали много новых. Получилось, что Зерах победил на выборах. Эрвин считал, что победа не так уж велика, но не мог в этом убедить Зераха. Надо отметить, что Саул ходил хвостом за Зерахом, но делал это тайком, а Зерах – открыто. Саулу нельзя, а халуцу из страны Израиля можно. Но Иоанна не соглашается с этим. Если можно Зераху участвовать в демонстрациях коммунистов, почему нельзя Саулу? Саул не должен заниматься классовой борьбой до отъезда в Израиль, в то время, как Зерах, прибывший оттуда сюда, может этим заниматься здесь? Саул еще не заявил открыто, что оставляет Движение, но тайком ведет себя так, словно оставил его. Саул в оппозиции и тем и этим, но нет нужды ему оставлять Движение, как и быть в оппозиции. У Зераха точно такие же взгляды, он выражает их публично и при этом вовсе не собирается покинуть Движение. Наоборот, никто не верен Движению, как Зерах, не рассказывает с такой любовью и воодушевлением о стране Израиля, и поет ее песни. И когда он поет, не существует этого соседнего дома мертвой «вороньей принцессы», и знамени со свастикой на его крыше. Когда он поет и рассказывает об Израиле, глаза Иоанны сверкают, как тамошнее солнце. Она бы простила ему демонстрации, собрания и дискуссии на площадях, если бы не та ужасная ночь. Днем он ведет классовую борьбу, а по ночам гуляет с Фердинандом, Руфью, Ингой, и их друзьями по ночным кафе, клубам и театрам. В одну из ночей сидела Иоанна допоздна в библиотеке отца, когда радостные голоса оторвали ее от книги. Вся компания с шумом вошла в столовую, и когда Зерах начал петь песни на иврите, от него несло спиртным... С Эрвином и Зерахом закончился траур по отцу в доме. Эдит снова начала наряжаться в цветные платья, уже не курит, как дымовая труба, и с лица ее исчезло выражение траура. Руфь и Инга из-за Зераха вернулись к своим старым привычкам, и все вечера проводят в ночных клубах, объясняя это тем, что они хотят показать Зераху ночную жизнь Берлина, а он только и знает, что сует свой нос не туда, куда надо. Все он хочет видеть и обо всем знать. Эрвин, более или менее, приемлем. Но Зерах – просто ужас. Да и в их спорах прав Эрвин. Не прошли считанные дни с момента великой победы коммунистов на выборах, как пришел к власти этот генерал. И Гейнц не разрешает ей покинуть дом и поехать деду и бабке в Кротошин. Получается, что весь траур возложен на нее. И она действительно скорбит. Но Зерах сбил ее с толку, и у нее много неприятностей. Глаза ее мельком скользят по лицу деда, и вот, она уже взбегает в свое убежище на чердак – записать в дневник свои беды и проблемы.
Дед еще на миг замер в удивлении, махнул головой в сторону внучки, потер нос, и пошел к Вильгельмине.
Не сразу начал дед с ней разговор. Все здесь, в кухне, включая повариху, блестит белизной и чистотой. Плитки на стенах, мебель и кастрюли, все сверкает, как медь тети Гермины, и возникают в памяти множеством пуговиц на синем мундире национального гвардейца, ненавистного деду со времен его детства и юности. Руки Вильгельмины все время заняты. Она бьет по куску влажного теста, как по живой плоти. Рукава ее закатаны, руки мускулисты. И дед...ха, сверкающие пуговицы перед его глазами, но и на эту женщину дед не может смотреть без изумления, не может избавиться от мысли, что она – «Красива, как картина».
– Вильгельмина, свет моих очей. Кухня выглядит, как танцевальный зал. Даже так рано, с утра.
– Утренний час, как золото для глаз, – отчеканивает Вильгельмина, переворачивая тесто, и все ее мускулы играют.
На такую красивую сентенцию деду нечего ответить, остается лишь говорить комплименты приятным голосом.
– Вильгельмина, я пришел тебе сказать, что мы довольны твоей работой у нас.
И видит дед результат комплимента – слабая улыбка возникает на ее лице. Но тут ей срочно надо справиться со своим носом. Дело это, казалось бы, простое, но не у Вильгельмины. У нее оно требует долгой подготовки. Она идет к крану – помыть руки, очищает нос, повернувшись спиной к деду с отменной скромностью, и завершив это дело, снова основательно моет руки перед тем, как взять платок.
– Вильгельмина, во всем чувствуется хорошее воспитание.
– Сударь, яблоко от яблони падает недалеко.
Эти ее поговорки окатывают деда, как холодный душ. После сверкающих пуговиц ненавистны ему пословицы и поговорки. Отец силой пытался привить ему уважение к пуговицам национального гвардейца, а мать – привить любовь к пословицам и поговоркам. На всякие шутливые выходки отца у нее были наготове нравоучительные сентенции.
– Вильгельмина, детка, как ты себя чувствуешь у нас? Работы много.
– Сударь, работа вносит сладость в нашу жизнь, – отвечает она и рассекает ударом тесто. Большой нож с ловкостью, вызывающей изумление, летает в воздухе. Но дед больше не удивляется. «Шиксе! А пушыте шиксе! – вспоминает он сказанное Зерахом на идише – «Баба! Простая деревенская баба!»
Все годы в школе дед силился выучить английский и французский языки, но ничего у него не вышло. Не было у него никаких способностей к иностранным языкам. Не таковы были «иностранные слова» Зераха, которые дед выучил в последние недели и начал часто ими пользоваться. Зерах, как и все обитатели дома, не любит Вильгельмину. Как только она возникает в столовой, Зерах предупреждает деда: «Тихо... Шикса пришла...»
Вильгельмина готовит яблочный пирог к обеду. Можете к этому отнестись, как вам захочется, одного нельзя отрицать, что в готовке пирогов нет ей равных! Она уже приготовила тесто и яблоки на круглом подносе, идет с ним к печи и становится перед ней на колени. Вот и настал час испытания для деда. Вильгельмина не стоит перед ним во весь свой большой рост, а преклоняет перед ним колени, щеки ее гладки и румяны, словно бы протянуты к нему. У деда давняя привычка – щипать за щечку молодых служанок, и не было ни одной из них в доме Леви, которая не подставляла ему щеки. Но только не Вильгельмина! Преклонила она колено у печи, и на стене тень ее молодого лица. Но дед не смотрит на ее румяное лицо, а на тень. И снова в душе его – слова Зераха на идише:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































