Текст книги "Дети"
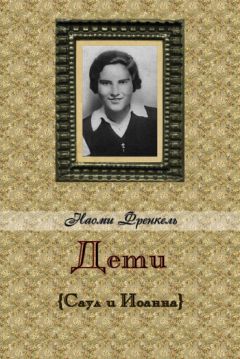
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 44 страниц)
Кончил Нанте говорить, доктор, сжал горящую щеку, вылил стакан молока в раковину, извлек из кармана жестяную коробочку с таблетками для успокоения язвенной боли, вложил таблетку в рот, сплюнул. Налил себе рюмку шнапса, и еще одну рюмку. Линхен закричала:
– Нанте, язва! Помни про язву!
А Нанте извлек губную гармонику, и вот уже все посетители стучат кулаками по столам и ногами по полу в ритм песни. Поют песню восстания Нанте Дудля. И вдруг – резкий свист. Двери распахиваются. Три толстяка достают пистолеты.
– Логово заговорщиков! – крик пресекает песню.
Это был голос одноглазого мастера. Не помогли охранники. Мастер знал здесь все ходы и выходы. Линхен – единственная, не потеряла присутствия духа.
– Нанте, беги!
На этот раз это прозвучало, как призыв к восстанию. Но в трактир уже швырнули гранаты со слезоточивым газом. Заговорщики исходят слезами. Крики, удары, выстрелы, резкие команды. И в этом дыму снова слышна гармоника Нанте:
Любимая моя, ведь на ветрах
Лет через двадцать превращусь я в прах.
– Нанте! Где ты, Нанте?
Голоса Нанте больше не слышали. Только выстрел распорол тишину трактира. Я вытащил оттуда Линхен и сына их Бартоломеуса, и мы тайком, по ступеням, добрались до моей студии на верхнем этаже. Глаза наши еще слезились, и дым еще не рассеялся. Я спрятал семью Нанте в моей студии, и притаился за дверью с пистолетом в руках. Я твердо решил, что ни один из них не переступит порог. Никто не приблизится к семье Нанте. Я был готов на все, чтобы защитить Линхен и ее детей. Они обыскивали все помещения в поисках заговорщиков. Оставили в покое семью Нанте, чтобы не драться со мной. Я для них большой лидер. Одноглазый просил за меня. Теперь он командует конфискованным домом. Он хочет, чтобы я продолжал жить в, теперь уже его, гостинице, своим именем делая ей рекламу. Доктор, я стоял за дверью, и зубы мои стучали, как жаждущие жертвы зубы голодного зверя. Они двери не открыли.
– Но почему ты их не открыл?
– Я! Доктор, что я должен был сделать?
– Открыть дверь, предстать перед ними лицом к лицу. Не стоять с пистолетом за закрытой дверью.
– Око за око, доктор? Зуб за зуб?
– Даже подставить им щеку для удара, но не прятаться от них.
– Закрытой дверью я спас жизнь Линхен и детям. Это было главнее всего. Еще вчера мне удалось переправить их к родственникам Линхен. В дом Нанте я не вернулся, шатался по улицам, пока не явился к вам.
– И что ты будешь сейчас делать?
Оттокар молчит. Он уже решил. Отсюда он направится к Клотильде Буш. Хочет ей предложить проживать вместе с ним, управлять хозяйством в маленьком доме, который он снимет в дальнем пригороде. Он оттягивает галстук, испытывая удушье. Он чувствует на своей шее тяжесть волос Клотильды.
– Я собираюсь снять небольшой особняк в отдаленном пригороде.
– Спрячешься там за закрытой дверью? Погрузишься в спячку, как медведь зимой в берлоге?
– Да, доктор, в долгую зимнюю дремоту. Когда проснусь, буду стоять с пустыми руками перед пустым лицом Гете.
– Перед пустым лицом, Оттокар?
– Да, доктор, перед пустым лицом. Памятник уже готов, но лицо его я еще не вылепил. Близится весна. Столетие со дня смерти Гете приближается. 22 марта – день начала весны и день смерти Гете назначен, как день открытия памятника там, в рабочем квартале. Там и будет воздвигнут памятник уважаемому тайному советнику. Но нацисты не входят в число друзей и любителей Гете. Они не дадут водрузить его на пьедестал. У них есть свои более предпочтительные фигуры. Может, поставят Гитлера или одного из древних варварских идолов. Спрячу я Гете на своей заброшенной вилле. Опущу голову от стыда перед его ликом, лишенным всякого выражения. Мои руки, доктор, больше не будут лепить или высекать лицо уважаемого тайного советника. Это моя судьба со дня, когда моя тетя разбила молотком мои юношеские работы. У всех моих образов пустые лица, лишены черт, лишены выражения. Сколько я не пытался высечь образ и выражение древнему богу с тремя лицами Триглаву, руки мои высекали его лик, обращенный к будущему, и это каждый раз было страдальческое лицо Детлева. Я не хотел, чтобы лицо будущего носило выражение боли, и лицо осталось пустым. А теперь и лицо Гете останется пустым, ибо все надежды кончились...
– Нет! – закричал доктор, – нет, Оттокар! Нельзя, чтобы твои руки перестали лепить или высекать образ Гете.
– Мои руки парализованы.
– Ты должен сбежать отсюда. Не прятаться. Ты слышишь? Беги отсюда! Беги за пределы Германии, и начинай заново работать над образом Гете.
Длинные белые руки Оттокара барабанят по подоконнику. Слабый ветер колышет флаги снаружи и наполняет воздух однообразным шорохом.
– А что вы будете делать, доктор? Тоже сбежите отсюда?
– Я нет. Мой побег будет побегом из страха. Я воспитатель, Оттокар. Пока мне еще дано учить молодых людей, мне просто запрещено бежать. Остаться в этом аду, хранить молодые души – мой долг.
– И я не могу бежать отсюда, доктор.
– Твой долг – бежать. Твой долг завершить великое творение. Уезжай отсюда, Оттокар, уезжай на просторы мира. Твоим творением – скульптурой Гете – ты покажешь людям в мире, что есть еще и другая Германия.
Не слышно голоса, только трепыхание флагов на окнах домов и шум улицы, врывающееся в безмолвие комнаты. Рука Оттокара касается чашки, стоящей на подоконнике. Из дома напротив опять выходит привратник с кистью и ведерком краски. Слово «юде» потерлось от ударов камней, и привратник обновляет его черной краской. На этаже, над рестораном, открывается окно, к которому также прикреплен флаг со свастикой. Женщина наклонилась над улицей, вытряхивает простыню. Красный флаг со свастикой и белая простыня вздымаются на ветру.
– Не сдавайся, Оттокар, – призывает его доктор, – не сдавайся.
Звуки заполняют квартиру доктора. Экономка включила радио – послушать обычно передаваемые утром мелодии. Старые народные песни снова вошли в моду.
Рука привратника тщательно выводит очертания букв, а перед взором Оттокара серые жалюзи прикрывают в его студии древнего бога Триглава.
«Юде!»
Слово пишется на обнаженной спине Иоанны. Весь воздух вокруг вырезан из ткани ее серой рубашки. Иоанна в его студии поет. И голос ее отчеканивает ноты на пустом лике древнего бога.
«Юде!»
Привратник завершил свое дело и добавил к слову черной краской восклицательный знак. Добавил две свастики с двух сторон слова, которое выглядит, как в заключении. Две свастики – идея привратника, его творческий вклад, и он этим весьма доволен. Поигрывает кистью и исчезает в доме.
– Нет! – кричит Оттокар. – Никуда я отсюда не сбегу. И не буду сосать лапу, как медведь в зимней спячке в своей берлоге. Мне довелось услышать то же слово в песне из уст маленькой девочки. Маленькая девочка, доктор, дочь преследуемого народа, и все же в ее голосе были звуки надежды. Вчера Нанте прибавил свой голос к голосу девочки. Мой Нанте, у которого мудрость прорезалась во рту вместе с осознанием своего конца. Девочка и Нанте врезали нотные знаки в лик Триглава. Я сброшу покрывало с незаконченной скульптуры этого бога. Будущее лицо его – это лики прошлого и настоящего, а будущий лик подставлен пощечинам и ударам богов. Но этим завершатся все удары и всякое отмщение. Я позволю себе говорить голосом Нанте. Больше не ответит человек ударом на удар себе подобного. Я закроюсь в новой своей студии, чтобы высечь эти знаки на пустом лице древнего бога. Это чудо, которое свершилось во мне, доктор, это зуб мудрости, который вырос у меня во рту в тот момент, когда я вообще перестал верить в чудо. Еще ночью я бежал из своей студии в доме Нанте, чувствуя себя опустошенным, лишенным всякой надежды. Всю ночь я шатался по улицам города и ни о чем не думал. Одно было у меня желание свернуться в своей скорлупе, спрятаться в своем доме, пока весь этот ад не пройдет. Но сейчас будущее снова меня будоражит. Когда замолкает будущее, молчат также прошлое и настоящее. Когда же будущее пробуждается и приоткрывает свои тайны, открываются и прошлое и настоящее. Человек может оживить душу только тогда, когда раскрываются все времена. Доктор, снова во мне пробудилась страсть к творчеству. Я ощущаю ее как возможность достичь всего, – высот и преисподней. Нет, отсюда я не сбегу! На меня, как и на вас возложена миссия – воспитывать в этом аду молодое поколение, я должен создавать новые миры в этой уродливой реальности.
На улице резко тормозит трамвай. Ребенок пытался перебежать дорогу и чуть не попал под колеса. Доктор Гейзе кладет руку на плечо Оттокара.
– Быть может, нам что-то и удастся совершить здесь, потому что я хочу воевать в настоящем во имя будущего. Каждой спасенной мною молодой душе я даю лицо будущего. Насколько мне будет дано, я буду спасать одну душу за другой из бездны зла. Ты же оставляешь настоящее душе, которая выпестует свое будущее грубостью, агрессивностью, но создашь будущее в своем убежище – без агрессивности, без мщения. Пусть Бог простирает над тобой свою десницу. Быть может, просветлеет лик будущего у твоего бога в один из дней перед всем человечеством. Я учился другому закону: око за око, зуб за зуб. Ныряй в эти мутные воды, чтобы спасать души, одну за другой. Катастрофа наша в том, что мы не делали этого все эти годы.
Оттокар фон-Ойленберг ощущает сухость в горле и пьет наконец кофе из чашки, стоявшей на подоконнике.
* * *
«Опасно! Строительная площадка!»
Красный фонарь раскачивается на веревке. Но это не ветер его качает. Это Мина схватилась за веревку, и трясет ее с в большом волнении. Во второй ее руке – маленький ребенок опустил головку.
– Вы забыли его! – кричит Мина.
Ветви липы недвижны, застыли в дневной стуже. На пьедестале, предназначенном для памятника Гете, водружен флаг со свастикой. Тень матери Хейни падает на вывеску. Платок съехал на ее черное пальто. Она стучит палкой своего покойного мужа по бетонной площадке вокруг пьедестала, обращаясь к толпе, собравшейся перед ней и Миной.
– Вы стараетесь его забыть. Всеми силами хотите забыть его, но это вам не удастся. Он вернется, все вернутся в один из дней – напомнить вам ваше предательство. Мертвые и живые едины. Вы еще ответите за все, что творится здесь. Все вы, – перед высшим судом неба и земли...
– Осторожней со словами, старуха. А то ответишь перед судом.
– Оставь ее. Не видишь, что ли, что старуха тронулась умом?
– Если она будет продолжать так говорить, не снести ей головы!
– Отправляйся домой, мать. Не стой здесь, на снегу, и не пророчествуй нам наше будущее.
– Вы забыли его! Уже забыли!
– Уберите ее отсюда! Сама она не уберется, поможем ей.
– Именем Иисуса, мать! Ступай домой! Время не для пророчеств, – умоляет ее госпожа Шенке.
– Это же мать Хейни сына-Огня! – вскрикивает Гейнц.
Филипп и Гейнц стоят у окна квартиры Филиппа и смотрят на улицу. Лицо Гейнца бледно. У Филиппа глаза усталые. По опавшему его лицу видно, что он почти не спал в последние дни.
– Что там происходит?
– Отто исчез. Отто – владелец киоска, там, на углу.
Флаг со свастикой колышется на крыше киоска. Пауле стоит к нему спиной, руки в карманах мундира.
– Отто был коммунистом, – добавляет Филипп, – вышел на улицу купить мяса и исчез. Никто не знает, что случилось. Всякие слухи носятся по переулкам. Есть такие, кто видел его произносящим речь. Вдруг – пуля. И все. Есть такие, которые видели, как его уводили штурмовики к закрытой машине. Есть такие, что видели, как Ганс Папир выхватил пистолет и застрелил его. Но никто ничего точно не знает. С момента его исчезновения эти две женщины ходят по переулку, жена Отто и старуха – мать Хейни.
– Но они же в опасности! Их жизни грозит опасность! – Гейнц открывает окно и сгибается над головой старухи, словно собирается прыгнуть, если кто-то набросится на нее.
– Оставь, Гейнц. Мы ничем ей помочь не можем. Во всяком случае, не мы. – Филипп пытается закрыть окно, но Гейнц не дает ему это сделать.
Мать Хейни ударяет палкой по вывеске, и каждый ее удар, как сигнал тревоги, заглушающий все остальные голоса. Из толпы выходит долговязый Эгон в мундире штурмовика и горбун в превосходном пальто, украшенном свастикой. Они переходят веревочное ограждение, поднимаются по ступеням на пьедестал и становятся смирно рядом с флагом. Эгон жует жвачку, горбун курит толстую сигару. Из-за спины старухи выдвигается большая костлявая Мина. Ребенка выставляет перед матерью, как бы пытаясь малюткой защитить старуху. Липа над их головами недвижна. Красный фонарь подрагивает, и мать говорит:
– Вы думаете, что народ пославший на смерть своих лучших сыновей и не ответит за это? Чистейших и честнейших вы швырнули в ямы могил... Сыновей ваших и внуков швырнули в ямы. И не спасутся оттуда поколения за поколением безвинных сыновей из-за вашего большого греха. Голос их чистых убиенных душ вопиет в пространстве нашей страны! И вопли эти не замолкнут – ни в ваших ушах, ни в ушах ваших сыновей и внуков. Придет день, и небеса очистятся над всем миром, и только над в Германией будет продолжать сгущаться тьма. Вы дали бандитам осквернить воздух нашей страны. И скверной дышите не только вы, а сыновья ваши и внуки будут продолжать ее вдыхать в легкие.
– Самолет! Аэроплан! – дождь листовок. Людской вал сметает старуху, ребенка и костлявую Мину. Листовка падает, рука хватает ее, собаки лают, дети визжат, и голоса, голоса.
– Не щипай, отстань, – крик Эльзы.
– За эту листовку следует поднять рюмку, – визжит Флора.
– Всем – работа! Всем – хлеб и масло! – чей-то женский голос.
– Хайль Гитлер! – орет долговязый Эгон над головами всех.
Эгон тянет руку вверх, приветствую самолет в небе.
– Хайль Гитлер! – несется снизу.
Одна из листовок падает на подоконник, и Гейнц хватает ее.
– Раздадут бесплатно радиоприемники всем гражданам страны.
Филипп отошел от Гейнца.
– Также разделят большие универмаги на маленькие лавки. Мелкие торговцы поделят между собой большие трофеи. Речь, конечно, идет о больших еврейских магазинах.
Гейнц не сводит глаз со старухи-матери, прижатой к стволу липы, опирающейся на палку покойного мужа, и лицо ее окаменело. Самолет все еще кружится и разбрасывает листовки. Одна из них падает к ее ногам, но она не подбирает ее. Сапожник Шенке в мундире штурмовика наклоняется, поднимает листовку и подает ей, она не берет. Он размахивает листовкой перед ее лицом, но ни один ее глаз не моргнул.
– Бери, старуха! – тычет Шенке листовку ей в лицо. – Читай. Посмотри, с какой добротой относятся к народу!
Она смотрит на него как глухая. Ее отчужденный взгляд выводит Шенке из себя. Он выхватывает из ее рук палку, нанизывает на ее острый конец листовку и несет, как знамя. Мгновенно вокруг него собирается хохочущая толпа, она оттесняет старуху. В этой бесчинствующей массе Шенке играет роль воинственного героя. Мина вклинивается в толпу, чтобы добраться до палки, отобранной у старухи. Люди защищают Шенке, толкают ее, и Шенке продолжает шествовать с палкой-флагом. Мина все же пытается добраться до нациста. Так они доходят до киоска Отто. И тут, как хищная птица, с распущенными волосами, горящими глазами, набрасывается на него супруга, госпожа Шенке, выхватывает палку, и голос ее гремит над всей толпой:
– Свинья! Двуногая свинья!
Этот крик заставляет старуху-мать сойти с места, схватить за руку ребенка, которого Мина оставила с ней, и торопиться к госпоже Шенке, которая несет ей навстречу ее палку. Старуха отдает ей ребенка и старается добраться до киоска. Палка поднята в ее руке, пальто распахнуто, полы развеваются. Из толпы, плотно окружившей киоск, раздается страшный крик Мины. Тихая, сухая Мина потеряла присутствие духа, толкает и ударяет всех, чтобы пробиться к киоску и сорвать флаг со свастикой.
– Я покажу вам! – кричит она. – Сейчас покажу вам!
– Мина, нет! Подожди, пока я буду с тобой! Мина!
Но крик матери теряется во множестве голосов вокруг Мины, которая уже добралась до киоска и протянула руку к флагу. Руки Пауле обхватывают ее сзади, и она отбивается. Никто не приходит ей на помощь. Рука Ганса Папира возникает перед ее лицом! Рука наносит ей пощечину. Взгляд ее помутился. И все же снова горят острым пронзительным взглядом ее глаза. Лицо Мины обращено к Гансу Папиру, губы ее сжаты, уста не издают ни звука. Своим огромным телом Ганс толкает Мину шаг за шагом к стене киоска. Ладони его гуляют по ее лицу, она прижата к стене. Весь киоск сотрясается. Толпа молчит. Все боятся Ганса. Толпа увеличивается. Никто не приходит на помощь к Мине.
– Надо помочь ей! – кричит Гейнц у окна.
– Мы? – сдерживает его хриплый голос Филиппа. – Мы не можем здесь помочь ни одному человеку.
Старуха добралась до киоска, все ее морщины в движении. Молодые ее карие глаза пылают, палка над ее головой, платок слетел с ее головы на снег, и ноги ее топчут его. Толпа образует коридор, расступаясь и давая ей пройти до Ганса Папира. Мать становится между Гансом и Миной. Опускает палку и опирается на нее всей тяжестью своего тела. Нет у нее оружия против него, кроме пронзительных глаз, которые встречаются с его взглядом. Ганс поднимает кулак, но тут же опускает.
– Свинья! – кричит госпожа Шенке. – Двуногая свинья!
Госпожу Шенке Ганс побаивается, и отступает. Мина отрывается от стенки киоска, становится перед всеми и выплевывает сгустки крови на снег.
– Эта кровь, – старуха поднимает палку, словно собирается швырнуть ее в толпу, – приведет к рекам крови. Вашим молчанием вы открыли родники крови в этой стране. Из-за вашей трусости вырвутся реки крови, чтобы всех нас утопить. Ваша трусость оплачена будет кровью ваших сыновей и внуков...
Пауле появляется с вооруженными полицейскими, и они хватают старуху.
– Разойтись!
– Мама!
Силой потянула госпожа Шенке Мину и ребенка в свой подвал. У пустого киоска на снегу остался лишь затоптанный платок старухи.
– Она больше не вернется, – говорит Филипп.
Гейнц закрывает окно, лицо его бело, как мел, руки обвисли.
– Гейнц, страна, в которой происходят такие вещи, где среди бела бесследно исчезают люди с улицы, страна, в которой нет ни суда, ни судьи, не место для жизни таких людей, как мы с тобой. Гейнц, ты не выйдешь отсюда на улицу!
Гейнц испуганно смотрит на Филиппа, который продолжает:
– Умоляю, не выходи на улицу. Видишь, что творится?
Взгляд Гейнца вопрошает.
– Моя сестра Розалия так упрашивает Саула.
– Саула?
– Да, ее семья сейчас живет у меня. Мы продали мясную лавку и все, что можно было продать. Они будут находиться у меня до их отъезда в Палестину.
– Когда?
– Когда у меня будет сумма, необходимая для покупки сертификата на человека, обладающего капиталом. Много денег.
– Я готов помочь.
– Нет! Я не хочу, чтобы ты мне помог деньгами.
Голос Филиппа более высок, чем обычно, нотки ненависти проскальзывают в нем. Гейнц хорошо понимает, что она не направлена против него, и мягко отвечает:
– Я предлагаю деньги не для тебя, а для меня самого, Филипп. Я хочу заключить с тобой сделку. Я куплю сертификат для твоей семьи, а они перевезут мои деньги за пределы Германии. Я все время ищу пути переброски денег контрабандой. Мне крайне важно иметь деньги в Палестине. Вполне возможно, что наши дети тоже уедут туда.
– Только дети, Гейнц? А вы? – даже по лицу Филиппа видно, что за его вопросом кроется что-то весьма для него значимое. – Почему вы все вместе не уедете туда? Что вам есть еще здесь терять?
– Может быть, Филипп, – Гейнц опускает голову, – и мы убежим отсюда. Эмигрируем в одну из соседних европейских стран. Мы не можем эмигрировать в Палестину, ибо туда не эмигрируют. Туда возвращаются те, кому сердце диктует вернуться туда навсегда, и там построить дом. Наш дом здесь, Филипп. Мы не в силах отсечь себя от этого дома. В соседней стране можно пережить все это смутное жестокое время, и ждать, когда настанет день, и мы сможем вернуться. Но дети, Филипп... Дети, это другое дело. Я не хочу, чтобы они были эмигрантами в чужой стране. Они слишком молоды, чтобы отчий дом их, в котором оформляются их души и их дух, был на чужбине. Они слишком молоды, чтобы строить себе новый верный дом. Им надо уезжать в страну, где они не будут эмигрантами, страну их идеи, страну, им предназначенную, где они не будут чувствовать себя чужаками. Я надеюсь, Филипп, что все, что они будут делать в этом доме, укрепит их стойкость в мире. Они ведь сироты, без отца, без матери, без родины. И я молюсь, чтобы они построили там новый дом, дом на крепкой основе. Так заключаем сделку, Филипп. Разреши мне купить здесь, в Германии, сертификат для твоей семьи. В Палестине деньги перейдут нашим детям. Ты можешь быть спокоен, Филипп.
– Нет, Гейнц. Это не совсем честная сделка. Семья моя там еще долго будет нуждаться в деньгах. Муж сестры болен, и вообще не приспособлен к работе. На эти деньги им придется существовать, пока Саул повзрослеет. И возьмет на себя все заботы о семье. И я не могу тебе гарантировать возвращение долга в определенный срок. И вообще не знаю, как они будут возвращены.
– Я не беспокоюсь за мои деньги, Филипп. Ты никогда не был нам должен. Вчера я проверил ящики отца. Нашел старую чековую книжку с надписью «Филипп». Там отмечены все суммы, которые ты вернул в счет денег, которые взял для учебы и повышения квалификации. Каждый грош был возвращен. Каждый месяц в течение долгих лет. Отец не требовал от тебя возвращения долга. Отец всегда видел тебя, как члена нашей семьи.
– Я смогу тебе помочь перевести деньги в Палестину. Но с моей семьей прошу тебя не совершать сделок. О себе своей я позабочусь собственными силами. Пойми, Гейнц, я больше не могу.
Филипп замолк, словно его атаковал внезапный приступ боли. Гейнц видел движение его ресниц, чувствовал его рану. Все мысли Филиппа отразились на его безмолвном лице.
«Это боль. Я знаю ее. Годы проходят, а боль не отступает. Ты оттесняешь ее, но она возвращается и прячется в уголке души. Ты закрываешь глаза, даже в воображении ты не хочешь видеть то, что причинило тебе столько страданий, и веки дрожат на твоем замкнутом лице. Тяжело любить годами, когда все время ты заставляешь себя держаться вдалеке от любимой. Чем больше ты искореняешь ее из своего сердца, ты смотришь на нее из будничности нормальной жизни. Ты погружаешься в дела, в долги, в развлечения, в бесконечные неприятности, ты даже пристрастишься к чуждым для тебя увлечениям. Но чувство, что ты пытаешься сбежать от самого себя, совершает круги в суете жизни, грызет изнутри и отражается на лице. Я ощутил это в душе моей и во плоти. Я ближе к тебе, чем ты это представляешь. Я, у которого сердце все годы истекает кровью, говорю тебе, ты не выберешься из этого, закрыв на это глаза или притупив чувства».
Гейнц приближает голову к Филиппу и чувствует запах конторы и старых папок.
– Возвращайся к нам, Филипп, – почти приказывает он, – мы все тебя ждем.
Перед дверью Розалия устало тянет ноги. Палка господина Гольдшмита стучит по полу. Звонит телефон. Но Филипп не подходит к нему. Несколько коротких звонков, и телефон замолкает. Между липами полощется флаг со свастикой. Зимнее солнце восходит. Сверкает снежной белизной утренний свет.
– Возвращайся домой, Филипп.
– Нет! Нет!
– Эрвина нет. Эрвин больше никогда не вернется. Как Отто. Как старая мать Хейни.
– Нет у меня сил всегда сидеть на стуле, который освободится за вашим столом.
– Не делай ее несчастной, Филипп!
– Это я делаю ее несчастной?
– Не было у нее выхода. Только такой человек, как Эрвин, смог излечить ее душу от Эмиля Рифке. Любовь ее к Эмилю вобрала в себя весь яд этих лет, всю скверну, что накопилась в этой стране. Всю ее жизнь здесь, ее веру, любовь к стране, в которой она родилась. Все, чему учил ее отец, учителя, окружающие ее люди. Все это любовь ее к Эмилю превратила в грубую ложь. Весь ее мир, во всей своей цельности и устойчивости, рухнул в одночасье. Эрвин вернул ей веру в то, чему ее учили и всегда рассказывали. Эрвин как бы представлял ту Германию, на многообразии которой мы воспитывались, мечтали, грезили будущим. Эрвин был немцем, как и Эмиль, но абсолютно отличался от него, и таким образом помог ей вернуться к себе. Филипп, ты должен понять значение всего этого. Теперь, когда рухнул на нас наш мир, она ведет себя спокойнее всех. Эдит поддерживает дух у всех в доме.
Филипп понимает и молчит. Усталость и бледность исчезла с его лица. Оно покраснело. Губы его раскрылись, но не слышно никакого ответа. Гейнц не отстает:
– Сегодня вечером приезжай к нам. Мы ждем тебя к ужину. Дело не терпит отлагательства. Нужен совет. Эдит не дает нам принять хоть какое-то решение. На каждое предложение отвечает: посоветуемся с Филиппом. Желание отца было, чтобы по любому серьезному делу советоваться с тобой.
Филипп встряхнулся, словно помолодел и внезапно освободился от тяжелого груза. Голова его прояснилась. Он все еще боится встретиться с ней лицом к лицу, но в нем растет желание ее увидеть. Голос его все еще подозрителен:
– Кто будет вечером на этом совете?
– Только семья. Может, еще Зерах.
– Зерах? Кого это в вашем доме зовут Зерах?
– Он от Иоанны. Халуц из Палестины, которого Иоанна привела к нам жить. Пришелся всем по душе. Сможешь быть у нас в семь часов?
Филипп утвердительно кивает головой.
В окно они видят киоск Отто и черную шаль старухи-матери, втоптанную в снег.
* * *
– Отлично, что ты пришел, – говорит Герда мягким голосом, но глаза ее холодны.
При входе в коридор взгляд его наткнулся на мужские комнатные туфли. Жалюзи опущены, портьеры затянуты. Маленькая лампочка у кровати мерцает слабым светом. Уличный шум доходит как бы издалека. На столе скатерть в пятнах. В тарелке недоеденный ломоть хлеба. На дне чашки остаток кофе, рядом с чашкой корзинка с рваными носками. Мужской носок с воткнутой в него иголкой лежит на столе. В комнате холодно. Железные дверцы печки открыты, внутри виден холодный пепел. В кухне капает из крана вода, и это единственный звук в квартире.
– Где ребенок? – спрашивает он и проводит рукой по лбу.
– У родителей, – отвечает она простуженным голосом.
– Вот, для него, шоколад, – понижает он голос, боль вспыхивает в ее холодных глазах. В слабом свете настольной лампы у постели – большая закрытая коробка шоколада и открытая книга стихов Рильке «Книга нищеты и смерти». Глаза ее закрываются и открываются на каждый скрип и звук. Она опускается на стул, и руки недвижно лежат на коленях. Она очень исхудала в последние недели. Сеть мелких морщинок – вокруг ее глаз. Только высокий лоб чист, каким был в молодости. Руки ее нервно шарят по карманам в поисках сигарет.
– Принесу кофе, – встает она со стула.
Шаги ее медлительны, движения тяжелы. Он хочет ей сказать, чтобы она закрутила кран на кухне, и не может. Он следит за ней, пока она не скрывается.
«Годы съели ее красоту. Разрушили лицо и тело. Все прошедшие годы были заполнены страстью к ней. Жизнь каждый раз обретала новые формы. Но за всеми этим формами скрывалась она, Герда, единственная женщина, которую я любил».
Она не закрыла кран, и падение капель придает ритм его мыслям. «Единственная, которую любил».
– Почему ты не закрыла кран?
– Он протекает. Некому его починить.
Она ставит поднос на стол, опускает голову и руки ее поигрывают пустой чашкой, которую она поставила для Гейнца. Печаль ощутима в медлительности ее пальцев.
«Герда, всегда Герда».
– Что у тебя, Герда? – подходит он к ней. – Как твои дела в эти дни? – аромат хороших духов обволакивает его. Аромат свежести и чистоты.
Лицо ее замкнуто, губы сжаты. Она только поводит плечами в ответ. Стоит рядом с ним и все же отдельно. Короткий взгляд, и она отводит от него глаза.
– Сразу с приходом Гитлера к власти, я позвонил Курту. Эрвин сказал мне, что о тебе побеспокоятся.
– Курт сбежал в Россию.
– Как это? Сказал, что тебя не оставят.
– Получил приказ – бежать. Они не требует восстания против Гитлера. Они изгнали отсюда каждого лидера, который мог допустить идею восстания.
– И Курт им подчинился?
– Курт подчиняется всегда.
– И тебя оставили здесь, пожертвовали тобой?
– Нет. Курт предлагал мне бежать с ним.
– Почему же ты не сбежала?
Она берет чайник и наливает ему в чашку.
– Пей, Гейнц.
Он отталкивает от себя полную доверху чашку, капли проливаются на стол.
– Почему ты не сбежала? – кричит он ей в лицо.
Она отшатывается, и он пытается себя сдержать.
– Сбегу в Россию? В страну, где погиб Эрвин?
– Что тебе сказали о судьбе Эрвина?
На лице ее отвращение, в глазах – ненависть. До того она далека, что, кажется, Гейнц не существует в комнате. Он не выдерживает этой отдаленности, и старается вернуть ее к себе:
– Ты должна исчезнуть отсюда. Сбежать.
– Зачем? Какой еще смысл в моем побеге?
– Смысл – жить. Ты же мать, Герда, у тебя есть сын.
– Родители мои вырастят его. Они воспитают его в духе Эрвина.
– Твой долг самой воспитать сына.
– Мое сердце и моя душа опустошены. Какое может быть воспитание?
– Приди в себя, Герда. Возьми ребенка и скройся отсюда!
– Нет! Нет! Здесь, в Германии, я должна нести ответственность за смерть Эрвина.
Голоса их были резкими. Теперь стало тихо. Только слышно, как падают капли из крана на кухне. Платье ее чернеет на фоне белого кафеля, руки ее прижаты к холодным плиткам печи. Между нею и ним – стол. Он держится за него, словно лишился сил. Он бессилен перед Гердой, которая так замкнута и отчуждена. Он хочет крикнуть в отсутствующее ее лицо, что все годы не проходило дня, чтобы он не думал о ней, что во всех женщинах, с которыми встречался, искал только ее. Из глубины всех этих пустых лет он хочет в эти минуты дойти до нее, и натыкается на ее молчание.
– Герда, давай вместе покинем Германию. Мой дом будет домом для тебя и твоего ребенка. Хоть и на чужбине, но дом, в котором ты обретешь покой.
На миг она бросает на него смятенный взгляд, руки отделяются от печки. Она поворачивает к нему лицо, языком облизывает сухие губы, руки ее скользят по телу и замирают на груди. Глаза ее словно говорят: «...Смотри. Хорошо вглядись. Что я еще могу тебе дать».
– Нечего так отчаиваться, Герда. Тебе всего тридцать лет. Вернись к себе. Если только захочешь, еще увидишь счастье. Дай мне отныне заботиться о тебе.
На губах ее возникает ироническая улыбка, словно оживляя ее лицо, и глаза снова вопрошают: «Ты будешь обо мне заботиться?»
Этот иронический ее взгляд вернул Гейнца в дни его студенчества в Берлинском университете. «...Ты всегда будешь таким необузданным, Гейнц?»
Белый туристский кораблик плывет по Шпрее, освещенный, как дворец. Жаркая летняя ночь. Большая луна. Ветер ворошит ее светлые волосы, платье белеет в ночи. На корме кораблика они одни, отделенные от остальных туристов. Тело ее легко кружится в ритме вальса. Печаль в ее светлых глазах. И он грубо ворвался в ее мечтания. Она вырвалась из его объятий, крикнула испуганно:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































