Текст книги "Дети"
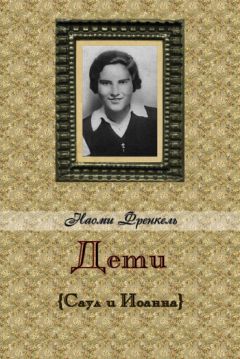
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 44 страниц)
– А Зереш! А маршаат! А антисемитке! – Злыдня! Вражина! Антисемитка!
И дед награждает про себя ее этими кличками, и желание ущипнуть ее за щеку исчезает.
– Вильгельмина, я хочу тебе сказать, что у нас в доме не запирают буфет. Все сладости дети могут свободно брать. Тебе следует привыкнуть к правилам в нашем доме. Детей не следует ограничивать в еде.
Вильгельмина уже вернулась к столу – убрать остатки теста, и тряпка в ее руке – как знамя, вызывающее к бою.
– Кто не наказывает сына – тот его не любит.
Дед отступает на шаг. Первый раунд он проиграл сентенциям Вильгельмины. Теперь он набирается сил к следующему раунду. Но вместо поварихи атакует садовника.
– Почему ты не покупаешь елку на рынке? – нападает он на старика, который вошел в кухню замерзший, весь в снегу, волоча за собой срубленную елку. – Почему ты рубишь ее в нашем саду?
– Ах, уважаемый господин, – улыбается старик, идя к рукомойнику, отряхнуть снег с рукавиц, – даже если каждый год рубить по елке, они не закончатся до скончания века.
Достает дед роскошную сигару из коричневого портсигара и угощает садовника. Вспышка вечности прокралась со словами старика в сверкающую чистотой кухню Вильгельмины. Снова желание боя погасло в сердце деда, как и предыдущее желание, ущипнуть за щеку повариху. Снова не лежит его душа приноровить ее дух к духу дома. Хотя он не считает, как Фрида, что следует уволить Вильгельмину, но вдруг ловит себя на словах, которые сами вырвались у него:
– Вильгельмина, детка, я пришел сюда сказать тебе, что в рождественский праздник ты получишь отпуск, чтобы провести его в кругу твоей семьи.
– Нет, сударь, – наконец, отвечает Вильгельмина без всякой сентенции, – нет, в моем договоре написано четко, что в первую половину первого года мне не причитается отпуск. Договора, сударь, я не нарушаю. Останусь здесь и приготовлю праздничную трапезу.
– Но Вильгельмина, как можно? Тоска по своей семье в праздник принесет тебе много горечи...
– Сударь, долг – прежде всего!
Итак, по второму кругу дед снова потерпел поражение, и ничего ему не осталось, кроме последней уловки, о которой до этой минуты он и подумать не мог:
– Вильгельмина, знаешь ли ты, что твое присутствие в нашем доме на Рождество не обязательно. Ты не должна готовить праздничную трапезу. Мы ведь евреи, и не празднуем христианские праздники.
Старый садовник вперяет в деда потрясенный взгляд: роскошные трапезы на Рождество все годы были в доме Леви, и большая радость царила за столом. Но старик молчит.
– Что бы ни было, сударь, – решительно отвечает Вильгельмина, – праздничная трапеза или будничная, отпуска я не возьму. Ничего из рук вон выходящего не сделаю. Я с верностью выполняю то, что написано в договоре.
Ночь безмолвна. Дремлет скит.
Сладок сон. Лишь он не спит.
Спят святые, день поправ.
Парень молод и кудряв,
Прямо с неба, среди рос,
К нам идет Иисус Христос.
К нам идет Иисус Христос.
У дома стоит шарманщик. Рядом с ним девочка в обносках.
– Заведи их в кухню, – приказывает дед, угости их горячими напитками.
– В мою кухню? – вскрикивает Вильгельмина. – Нищие, просящие милостыню, у меня в кухне?
– Я возьму их в свою комнату, – торопится садовник вывести деда из неловкого положения. Третий раз дед терпит поражение, и опускает голову.
– Эта женщина меня расслабляет, – думает он и оставляет поле боя.
Глава двадцать вторая
В комнате Барбары сверкает елка множеством лампочек, а в кабинете доктора Блума горят свечи ханукии. Оба весьма довольны.
Никогда у Барбары не было такого хорошего настроения на праздник Рождества. Стол у нее может рухнуть под количеством подарков, которыми одарил ее доктор. И это не просто – подарки. Многие из дорогих вещей покойной госпожи подарены Барбаре. Но всего дороже ей – сам доктор. Он тоже очень изменился. Обычно в Рождество он ограничивался коротким поздравлением и запирался в своем кабинете. В это году он зашел к ней в комнату и долго не отводил взгляда от мигающей огоньками елки.
Лицо его был мягким и отзывчивым. Ей казалось, что дух Гертель снизошел на него, увлек его в далекое забытое прошлое. Но тут же она поняла, что ошиблась. Не Гертель царила в ее мыслях, а она, Барбара. Он извлек из кармана красное жемчужное ожерелье, из сокровищ уважаемый госпожи, и с доброй улыбкой надел Барбаре на шею:
– На память, Барбара. Никогда не забывай Блумов, – и пошел к себе в кабинет, к своим свечам. Она чувствовала ожерелье на своей шее, как некий талисман от всего дурного. И тут же ей стало ясно, что она должна сделать. Она заторопилась в комнату покойного, старого господина, подняла голову в сторону большого его портрета над комодом, и губы ее зашевелились в молитве:
– Душа ваша, господин, вошла в него, дух ваш.
В комнате царил мрак. Снаружи облака обложил небо, и лишь свет луны просвечивал их изнутри. Сияние многих елок мерцало отражением из окон. Слабый отсвет лежал на портрете старого господина, и лицо его как бы тоже было окружено нимбом тайны. Барбара с трепетом опустила голову, губы ее шевелились:
– Вы охраняли нас от трагедии. Прошу вас, храните нас и в дальнейшем.
Ветер ворвался во двор, в клочья разорвав молитвенный покой, заметая тонкие столбы света, струящиеся из окон. Нимб света вокруг старого господина покачнулся, и Барбара содрогнулась от страха. Господи на небесах, Иисус и святая Дева, старый господин дал ей знак, что исполнит ее просьбу. Не будет трагедии! Барбара вздохнула с облегчением и вернулась в свою комнату, к елке. Раньше она не пела рождественских песен, чтобы не оскорбить его Бога, да и своего тоже. Все годы она старалась, чтобы их противостоящие друг другу Боги жили отдельно, в его и в ее комнате.
– Иисусе, Мессия приходит, – запела она слабым голосом, ибо на душе ее было радостно.
Доктор в своем кабинете тоже доволен. Свечи в честь Хануки горят на его письменном столе в последний день праздника. Сидя в кресле, доктор держит в руках письмо от сына. Срочное письмо принес специальный посыльный, сразу с наступлением праздника.
Доктор направлялся в комнату Барбары – поздравить ее с Рождеством, и положил письмо в карман, чтобы прочесть потом. По сути, в этот праздник они только вдвоем с Барбарой в доме. Он полон к ней жалости и не торопится с ней расстаться, и более часа не вскрывал письма. Теперь нетерпеливо разрывает конверт.
«...Дорогой отец,
Сейчас в Мюнхене ночь, накануне Рождества. Город выглядит, как днем: освещен морем огней. Все улицы заполнены массой людей. Часы этой ночи отличаются от часов всех предыдущих ночей. Люди словно жаром своих сердец приникли к предыдущей будничной ночи, в трепете перед священной ночью, стоящей за их стенами.
В эту последнюю ночь, до наступления праздника, заливают глотку буднями. Завтра, отец, они предстанут перед елками опустошенными, и души их будут полны жажды праздника. Я отпраздную в одиночку, в своей комнате. Вчера купил маленькую елку. Немного украсил ее маленькими цветными свечками.
Пьяные крики на улицах заполняют мою комнату. Дверь в соседнюю комнату Дики открыта. Я жду, что ночью он явится домой. В последние недели я вижу его мало. Отец, твои встречи с семьей Калл оказались плодотворными. Пришло к нам письмо от Иоахима Калла, родственника Дики. Он человек науки, как и я. Нельзя сказать, что письмо дышало теплом родственных чувств. Просто физик Иоахим приглашает к себе физика Дики. Последнего оскорбил холодный деловой тон письма. Когда у Дики плохое настроение, спасение он ищет у меня. И на этот раз он попросил меня сопровождать его к родственнику, живущему на огромном латунном предприятии в Пруссии. Решено было между нами, что я сопровождаю его последний раз, в поездке по Германии. С приходом Нового года я покидаю Германию навсегда. Дорогой отец, на этот раз поверь мне. Ты ведь готовишься тоже ее покинуть ее на следующий год. Конец Блумам в Германии. Мы покидаем ее навсегда, ты и я. Я не уверен, что поеду в Копенгаген вместе с Дики. Не исключено, что поеду туда сам. Дела вокруг Дики осложняются изо дня в день. И я остаюсь рядом с ним, чтобы понять, здесь, в Мюнхене, что произойдет с нами. Я уже не тот Ганс, каким был все эти годы. Даже не тот, каким был несколько недель назад на нашей с тобой последней встрече. И все эти осложнения идут от вопроса, заданного мне Дики в Щетине: кто я? По сути дела, на сам вопрос все эти годы мы так и не нашли ответа. Он всегда таился в наших душах. Мы люди смешанных кровей, в нас есть все, и нет ничего. Мы видели себя единственными и неповторимыми в этом мире, но мир отчуждается от нас, а мы – от него. Никакое ясное и четко сформулированное общественное сознание не связывало нас с каким-либо обществом. И душа наша выражалась по-разному, у меня и у Дики. Мне эта абсолютная отчужденность от окружающего мира приносила страдания. Я был уверен все годы, что эти душевные страдания принес один человек, и только он и может меня от них излечить. И это – ты, отец. Я всегда хотел вернуться к тебе и к иудаизму, чтобы там себя найти. Но обет, который я дал матери, связывал меня, и я оставался чужим тебе, матери и самому себе. Ворвался Дики в мою жизнь и высмеял мои страдания. Дики представил мне науку и дух, как высшее царство, в котором наше спасение. Слова Дики о будущем науки, которая определит будущее человека, были для меня, как суть всех моих мечтаний. С присоединением к миру науки и духовного начала, я впервые в своей жизни почувствовал себя представителем обоих начал – индивидуального и коллективного. Но у Дики, который вовлек меня в свои мечтания, все начало развиваться в странной форме. Он вдруг почувствовал, что врата царства духа и науки закрыты перед ним, пока он сначала не определит ясно, кто он, каково его «я». Он-то и встретил меня в Щетине вопросом: кто я?
Дорогой отец, быть может, мое истинное «я» определилось в тот момент, когда он задал мне этот вопрос. Таким образом, он научился осознавать смысл своего «не я». Дики в Щетине осознал то, что я знал и испытывал от этого боль все годы. «Я» человека не возникло вне общего, а именно в нем. И Дики, энергичный и решительный, искал подходящее общество, в котором сможет найти и установить свое «я». И я был единственным свидетелем рождения его настоящего «я». Это было в дни выборов. Дики всей душой был предан своей игре в нациста, скрывающего своего отца – еврея. Я же в то время прекратил эту игру. Я сказал Дики, что не в силах больше продолжать. Дики не спорил со мной. Новым своим друзьям он объяснял мое отдаление от общественной жизни кризисом, в связи со смертью моего отца, и все обращались со мной с повышенным милосердием. Я ведь, в конце концов, был в их глазах другом Дики. К нему же они относились, можно сказать, с преклонением. И насколько Дики изменил свое лицо! Смотрю я на него, и не могу отделаться от мысли, что есть глубокая связь между содержанием и формой. Его дружественный теплый облик стал холодным и хмурым. Жесткая внутренняя дисциплина помогает ему с его светлыми волосами, голубыми глазами, узкой головой, орлиным носом, высоким ростом, мускулистой фигурой – представляться истинным нордическим типом расы господ.
Его отец-еврей не проступает в нем ни на йоту. Потому ничего удивляться тому, что он принимается нацистами с таким поклонением. Игру выборов в их пользу он играл с большой серьезностью. Завершились выборы тем, что нацисты потеряли два миллиона голосов. Я ужасно радовался. Я ожидал, что Дики вернется ко мне. И он явился. Сапоги его скрипели, форма светилась, дыхание его было холодным и сухим. И я ему сказал: «Дики, они теряют позиции, Германия пробуждается, пробудись и ты». Хватит вести эту глупую игру. Соберем вещи в дорогу, и начнем, наконец, жить серьезно. Он уставился в меня долгим странным взглядом. В этот момент мы стояли перед большим зеркалом в его комнате. И он в мундире, сапогах, всем своим светлым обликом, выглядел, как угрюмый ангел. Мое же лицо выглядело спокойно-ленивым, уставшим от блестящего вида Дики. И вдруг Дики вынул из кармана небольшой пистолет и выстрелил в грудь собственного отражения. Зеркало разлетается в осколки, отражение Дики погребено под ними. Он стоит среди осколков с пистолетом в руках. И лицо у него – убийцы и жертвы одновременно. Я не очень быстр в движениях и столь же медленно соображаю, но там, перед зеркалом, мне показалось, что произошло чудо. В мгновение ока возникло ощущение нового Дики. Отец, быть может, это был миг, когда я должен был его оставить. Я любил его, живущего мечтаниями создать чистый и добрый мир с помощью духа и науки. Я любил моего друга, который во всем был похож на меня, – еврейским отцом, и матерью христианкой, и всей запутанностью души. С Дики штурмовиком, членом нацистской партии, нет у меня больше никакой связи. Но я не оставил его, я даже не был на него сердит и он не стал мне чужим. Только одна мысль не давала мне покоя: тот, кто взял на себя тяжелую ношу, имеет право сбросить с себя этот удушающий его камень. И станет ему снова хорошо, если он найдет выход из своего положения. Но я лишь слышал свой немой призыв, который душил меня самого, крик того, кто похоронен живым. Сердце мое билось с его сердцем в одном ритме: найди ему место в жизни, держи его в руках. Я даже пришел ему на помощь. Большой шум поднял в гостинице его выстрел. Множество людей ворвалось в комнату. Внезапно мы были окружены его новыми друзьями, вся комната заполнилась коричневыми мундирами. Я встал во весь свой маленький рост перед Дики, на его защиту. Вывел всех из комнаты под предлогом того, что он пьян. Странное впечатление он произвел на всех. Губы его побелели, глаза лишены всякого выражения, и лицо словно бы окаменело. Но как только все покинули комнату, лицо его снова ожило:
– Конечно же, я не пьян, – сказал он мне.
– Конечно, – откликнулся я, – ты не пьян. Никогда ты не был таким трезвым и ясно мыслящим, как сейчас. Ты убил полукровку Дики. Наконец, тебе известно, кто ты.
– Да, наконец, мне известно.
Слова эти вызвали сложное чувство в моем сердце. Теперь я точно знал: пришел жестокий миг искоренить из моего сердца любовь к Дики. Все, что касается его, меня больше не касается. Все кончилось! Но я не прислушался к голосу сердца. Я остался с Дики, чтобы понять его, разобраться до конца в изменениях, которые возникли в нем. Это стало моей душевной необходимостью, и не для него, а для меня. Единственный раз я пытался разобрать этот запутанный узел умом. Дики, как я, сын еврея и христианки. Не сердце ли отца, разрываемое и мучимое страстями, сделало из него человека партии? Ведь именно отец-еврей оборвал все связи сына с матерью, простой и глубоко религиозной христианкой, и вывез его в Америку, чтобы затем вернуть сюда, в объятия прусских офицеров. Это отец внес в его сердце беспокойство и жажду бесконечного поиска своего «я» – и все это привело его в нацистскую партию. Отец его, который крестился, а затем вернулся в иудаизм, превратил сына в ненавистника евреев ненавидящего самого себя. Находясь рядом с ним, я всегда удивляюсь, как его сознание отвергнутого индивидуалиста, необычного даже среди полукровок, пришло к нацистской идеологии?
Дорогой отец, мы всегда мечтали, я и Дики, что настанет день, и в царстве духа и науки мы найдем себя и свою идентичность. И мы – отверженные – будем такими же, как все люди. Как же это он нашел новую повитуху своему «я» именно в нацистской партии? Все эти вопросы не давали мне покоя, никогда я не ощущал давящую силу никакого мировоззрения, не был связан ни с какой идеологией. Дух мой колебался лишь в вопросе моей идентичности, в поисках моего истинного «я». В отличие от этого, поиски сущности иудаизма и христианства, чтобы найти себя, и вообще мировоззрение, занимающееся исправлением мира, казалось мне поверхностной игрой, не касающейся глубин моей сути. Но теперь, видя, насколько влияет мировоззрение на Дики, я решил тоже искать идеологию. В нормальном мире отдельный субъект и есть его «я», определенное и ясное, а общество это – «не я». Сознание есть лишь у индивидуальности, а не у безымянного общества. Но отдельный субъект не существует вне общества, и сознание его формируется не только собственными силами его «я», но и его изучением себе подобного, встречей его «я» с «не я», так у индивидуальности возникает общественное сознание, то есть мировоззрение. Но лишь тогда, когда субъект ставит свое «я», сформулированное, зрелое, в противовес общественному «не я», только тогда он может понять общую человеческую реальность. Только тогда в его сознании возникает эта реальность, и открываются ему всяческие возможности. И тогда он обязан сделать выбор – предпочесть ценности, выбрать между главным и второстепенным, между добром и злом. И всякая идеология это результат диалога между внутренним «я» и внешним «не я». Но все это касается нормальных людей в нормальном положении и нормальных отношениях с обществом. Все это не относится ни ко мне, ни к Дики. Мы с ним принадлежали к безымянному – «не я», из которого можно лепить какое-то «я». Мы были асоциальными типами. Не частью общества, а врагами общества, чужими себе, чужими всему. Это отчуждение и привело Дики к нацистам. Он нашел в этом «не я» подходящего товарища и друга. То, что можно сказать о нас двоих, можно сказать и о нацистской партии. Мы в малой капле – отражение большой партии. Как мы выглядели лишенными внутренней формы перед миром с четкими понятиями и определившимися формами, так и эта партия в германском обществе. Когда я понял все это, решил понять и моего друга. Однажды я сказал ему:
– Как ты воспринимаешься ими? Ты ведь всегда мечтал быть человеком духа и науки?
– Именно поэтому, – гневно ответил он, – мне отвратительны все лживые вещи и фальшивые теории, к которым привыкло человеческое общество, все, что связано с верой в прошлые ценности. Без всякой жалости, подобно людям науки, нацисты убрали с нашей дороги всю ту ложь, которая сбивает с толку наши мозги и души.
Отец, ты, верно, помнишь, что я рассказывал тебе при встрече у тебя в доме о Дики? Он назвал все наши принятые понятия «обломками старья». Но тогда я понимал это по-иному. Слова эти вели меня из склада старья на просторы свободного духа. Теперь, в Мюнхене, он повторил те же слова, сказанные им в Геттингене. Но новый Дики привел мне лишь искаженное отражение тех наших мечтаний. Напало на меня паническое ощущение глубокого отчаяния. Опять я рвался оставить его и снова остался. Все мои надежды сейчас на его родственника Иоахима Калла. Может, он вернет моего друга, Дики, человека науки и мечтателя. Перед ним Иоахим предстанет тоже сыном отца-еврея. Может оказаться, что и он нацистский ученый, каким хочет быть Дики. Может, он излечит Дики не с помощью великих идей, а простым напоминанием: «Ты – еврей!» И Дики очнется от своих галлюцинаций. И через страдания, возьмет на себя всю тяжесть своей судьбы. И мы поедем в Копенгаген, к Нильсу Бору. Душа выздоровеет там, и мечты его вернутся к нему. Мечты, которые родятся из ада идей и мнений, ценность которых он познал через страдания. И тогда дух его станет более устойчивым, более глубоким, более честным с самим собой. Вернувшись к себе, Дики обнаружит царство духа, вновь овладеет им – настоящим своим «я», о чем мечтал всю жизнь.
И если надежда моя окажется пустым звуком, я уеду один в Копенгаген. Отец, я долго взвешивал возможность вернуться к тебе, пойти твоим путем, быть рядом. И хотя я знаю, что настанет день, и я вернусь, но путь этот не будет прямым и гладким. Я все еще нахожусь между тобой и матерью, и душа моя разрывается между вами. Всю мою жизнь я колебался между вами, чтобы выбрать одну сторону, а другую решительно отбросить. Именно, эта внутренняя борьба отчуждала меня от окружения. Здесь, рядом с Дики, я понял, куда ведет это отчуждение. Сейчас во мне созрело твердое решение – выбирать не то, что нас разъединяет, а то, что объединяет. В этом нашем единении мое освобождение. Путь мой к тебе, отец, и ведет он через великую мечту о человеческом единстве, как единой силе освобождения, в царство мощного духа, где я найду свое место и спасение. Это моя мечта, отец, это моя надежда, это моя истинная большая любовь к тебе.
Твой сын, Ганс».
Доктор выпрямился в кресле. В кабинете царила тишина. Не было слышно голоса Барбары, и даже ветер словно бы замер за окнами и перестал врываться завыванием в размышления доктора Блума. Только свечи в ханукие стали постепенно гаснуть одна за другой со слабым шорохом. Доктор встал с кресла, прижался лицом к стеклу окна, глядя на пейзаж рождественской ночи. В окнах домов мерцали елки.
– Итак, мы уезжаем отсюда. Блумы оставляют Германию навсегда!
Над приютом для животных сгустились тучи, предвещающие бурю. Холмы, покрытые снегом, силуэты сооружений исчезают в темноте ночи. Языки огня догорающих свечек на елке видятся в комнате Биби. Здесь они все вместе праздновали приход Рождества – огромная Гильдегард, Шпац, маленькая Биби и глухой Клаус. Запахи хвои и пылающих восковых свечей пробудили в них память детства. Слезы текли из глаз Биби. И голос ее увлек всех песенкой:
Ночь безмолвна. Дремлет скит.
Сладок сон. Лишь он не спит.
Спят святые, день поправ.
Парень молод и кудряв,
Прямо с неба, среди рос,
К нам идет Иисус Христос.
К нам идет Иисус Христос.
Глухой Клаус приготовил гуся с яблоками. Гильдегард привезла вино и оделила каждого праздничным подарком в виде большого марципанового сердца. Биби связала каждому теплые носки. Шпац поставил елку, привезя ее с Чертова озера.
Трапезничали за общим праздничным столом, и некое семейное чувство объединило их: отверженная семья на островке тьмы. Держались друг за друга речами и взглядами. Сидели вместе, пока первые свечи не стали гаснуть, и бутылка вина была почти опустошена. Снег начал валить за окнами и окутал ночь белым безмолвием. Тогда молчание снизошло и на них, и беседа прекратилась. Псы лаяли за окнами, осел долго и печально ревел, ночные птицы чирикали между деревьями. Животная ферма издавала свои обычные голоса, но в рождественскую ночь, в необычном безмолвии комнаты, голоса эти казались приходящими из иного мира.
– Поздравляю всех вас с праздником и желаю всем радостного Нового года, – встал Шпац со своего места, и первым покинул комнату. Гильдегард проводила его в его комнату.
Следует отметить изменения в его обители. Нет попугая, который всегда встречал его приветствием – «Каким ты стал красивым, Вольдемар». Попугай перешел в руки Бумбы. Место попугая заняла собака с мордой чудовища, которую привезла ему Гильдегард. Собака лежит на его постели, поворачивает к нему голову и помахивает хвостом. На поломанную дверцу шкафа все еще наклеены фотографии художников, людей искусства и берлинских знаменитостей. Лица некоторых из них Шпац крест-накрест перечеркнул красными линиями.
– Я зачеркнул тех, которых посетил с целью помочь освободить Аполлона из тюрьмы, – говорит он удивленной Гильдегард. Видишь, у многих я уже был.
Гильдегард села у стола, подперла лицо своими большими красными ладонями. Шпац отлично знает, почему лицо ее напряжено. Он еще не рассказал ей о встрече с писателем Антоном, не хотел ей сделать больно. Она же все эти дни ничего не спрашивала, но скрытое напряжение, возникшее между ними, явственно ощущалось. Последние недели он и так не появлялся на ферме, посещая днем и вечером друзей и знакомых, пытаясь заставить их помочь его арестованному другу.
– Боги устали, – сказал Шпац и отвернул от нее голову.
– Что будем делать?
– Вполне возможно, что все вернется на свои места без их помощи. Ведь на последних выборах нацисты потеряли два миллиона голосов. Гильдегард, душа народа начинает отворачиваться от них. Хотя к власти и пришел этот противный генерал, но я уверен, что он долго не продержится. Народ его выбросит. Народ, Гильдегард, мудрее своих вождей. Может, с его помощью, появится у нас в новом году умное и справедливое правительство. Закон и порядок вернуться к власти. Суд над моим другом свершится, и он выйдет из тюрьмы. Судьба Аполлона не зависит от этих, – Шпац указал на дверцу шкафа, – личная его судьба зависит от общей судьбы народа. Надежда моя только на народ, – он обернулся спиной к дверце, отяжеленной физиономиями, словно сбежал к окну – вдохнуть в себя эту белую ночь, несущую в себе всю сущность мира.
Полоса света, тянущаяся из комнаты Биби, выглядит как длинный палец, указывающий на дальнюю цель.
– Из тьмы возникает искра света, – сказал он, – возможно, Гильдегард, мы еще увидим добрые дни в нашей стране.
– Нет, – сухо ответила она, – злодеев не побеждают с помощью выборов.
За окном слышны шаги. Клаус возвращается от Биби в свою комнату, она опускает жалюзи, луч света из ее окна исчезает. Завершилась рождественская ночь. На ночном горизонте, словно гиганты, выросли холмы. Лишь окно Шпаца освещает небольшой участок двора.
– Но что мне делать? – восклицает он, глядя на взволнованное лицо Гильдегард.
– Ты знаешь, что на тебя возложено.
– Но ты знаешь, какую цену мне надо будет за это заплатить.
– Ну, и что с того?
Гнев охватывает его из-за ее такого решительного вмешательства в его дела, он вскакивает и начинает носиться по комнате. Собака спрыгивает с кровати и начинает носиться вслед за ним.
– И ты предлагаешь мне все это, несмотря на то, что отлично знаешь, если я поставлю свое имя под нацистской поэмой Бено, я на всю жизнь останусь в глазах у всех нацистом?
Она пожимает плечами и не дает вразумительного ответа.
– Мой друг Александр запретил мне это сделать!
– Он не немец.
– Но он понимает меня. Он истинный мой друг.
Она молчит и смотрит на перечеркнутую физиономию Антона, а от нее переводит взгляд на Шпаца.
– Ты хочешь, чтобы я заплатил за их предательство?
– Я хочу, чтобы ты освободил друга из тюрьмы.
– Чего ты так заботишься о моем арестованном друге? Ты не знакома с ним и не знаешь, стоит ли он, чтобы я оплатил его освобождение.
– Я знаю лишь, что он твой друг. Верность другу стоит любой цены.
Тишина в комнате. «Злодейка! Жестокая!» – думает он и хочет повернуться к ней спиной, спрятаться в себе, но она решительным жестом заставляет его сесть рядом с ней. За столом, напротив ее большого лица, в безмолвии комнаты, гнев его проходит. Глаза ее добры, милосердны, напоминающие огромную мать-Беролину, статуя которой стояла на Александрплац, и была убрана оттуда, ибо мешала движению. Эта колоссальная по размерам каменная Беролина был символом Берлина, как мать Германии. Она – мать Германии – она!
Шпац опускает голову перед Гильдегард: она будет судьей всех его сомнений.
– Я боюсь стать для них притчей во языцех, – шепчут его сухие губы.
– Твой страх, – смеется она коротко и остро, затем тоже понижает голос. – Страх этот – настоящий, мой молодой и несчастный друг. Сердце мне подсказывает, что они возьмут власть, и весьма скоро. Они – злодеи. Они превратят зло в закон. В мире, каков он есть, побеждают злодеи, а праведники терпят поражение. Боги устали, мой молодой и несчастный друг, и дьявол – побеждает. Когда они победят, мой молодой и несчастный друг, они не будут различать между хорошими и плохими немцами. Все мы – в аду. И все мы будем бесами, позорными и отвергнутыми всем миром. Так спаси хоть чистоту собственной души, жертвуя ею. Спаси своего друга, чтобы остаться человеком в бесовском аду.
– Да, – складывает он руки на столе и смотрит ей в лицо, – я принимаю на себя этот вызов и заплачу цену.
Старый больной пес подает хриплый голос в холодную рождественскую ночь.
Ночь безмолвна. Дремлет скит.
Сладок сон. Лишь он не спит.
Спят святые, день поправ.
Парень молод и кудряв,
Прямо с неба, среди рос,
К нам идет Иисус Христос.
К нам идет Иисус Христос.
Громкие голоса доносятся из трактира Флоры. Огромная елка сверкает множеством свечей, поблескивают разноцветные шары, стеклянные ангелы улыбаются. Симпатичная Тильда, вдова убитого Хейни сына Огня, и Кнорке с бородавкой празднуют в переулке свое венчание. Около Тильды сидит ее первенец, «кукушкино яйцо», как его называют жилтели переулка, и улыбается матери. Тильда добилась своего. Она будет женой чиновника, и сын ее будет первенцем чиновника. Тильда одета в голубое платье с глубоким вырезом, обнажающим ее большие груди. Полные ее руки покрыты белой накидкой из тонкой шерсти. Будущий ее муж Кнорке щиплет ее за руку от распирающей его сердце гордости. От неожиданности накидка падает с ее рук, она нагибается за ней, глаза его заглядывают внутрь выреза, и он облизывает губы.
– Прозит! Прозит! С праздником!
Ганс Папир возвышает голос и рюмку, сверкая мундиром. Не только он один пришел на венчание Тильды в форме. Также блистают в мундирах долговязый Эгон, Пауле и сапожник Шенке. В последние дни усилились слухи, что Гитлер должен изо дня в день взять власть в свои руки. Со всех краев страны пришли сюда маршем батальоны штурмовиков, Пауле и Шенке вернулись домой! Нельзя сказать, что госпожа Шенке с большой любовью, как полагается верной супруге, встретила мужа, вернувшегося в лоно семьи. Даже не дала ему войти в подвал. Ганса Папира она тоже изгнала оттуда без всякого милосердия. И Пауле тоже не вернулся к своей бледной больной жене и ватаге детей. Нет у него времени – быть мужем и отцом, он командир высокого чина! Ганс, Эгон, Пауле и Шенке поселились в огромном общежитии штурмовиков, занимающем целый дом, господствующий над переулками.
– С праздником! – говорит, поднимая перед елкой рюмку, горбун Куно, в сторону Тильды и Кнорке. – С радостным праздником Рождества! Да будут Тильда и Кнорке новой парой в новой Германии!
Ганс Папир и его товарищи встают по стойке смирно, взметают руки в нацистском приветствии одновременным восклицанием:
– Хайль Гитлер!
Тильда и Кнорке окружены мужчинами в коричневом. Жених Кнорке подмигивает Гансу Папиру, и тот хлопает его по плечу. Тильда сияет, как елка.
– С радостным праздником Рождества!
В это время мелькает мимо трактира старая мать Хейни, покойного мужа празднующей Тильды. Она держит за руки маленьких детей Хейни – Марихен и Макса. Старуха останавливается на миг и бросает взгляд на свою квартиру. Во всем светящемся огнями доме только в окнах ее квартиры темно. Там, на столе пустой комнаты, она знает, стоит букет хвойных веток в банке. Она нарвала эти зеленые еловые ветки около могил мужа и сына.
В послеполуденные часы, до наступления праздника, она поторопилась на кладбище, выплеснуть ушедшим мужу и сыну все свои боли. Но мертвые не торопятся на помощь живым. Теперь она вывела из дома детей, чтобы они не подглядывали в трактир, стоящий напротив, где их мать празднует свое венчание.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































