Текст книги "Дети"
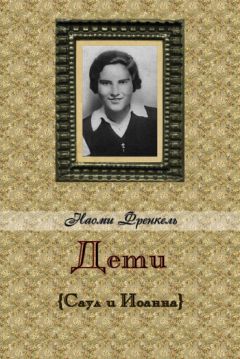
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 44 страниц)
Трубя, как победители, возвращающиеся с поля боя, вырываются штурмовики из ворот вокзала. Девицы вешаются им на шеи. Они выстраиваются вдоль шоссе, а горожане толпятся на тротуарах. Огромные черные свастики кричаще развеваются на красных знаменах. Оркестр возглавляет шествие.
Раздавим евреев бесовское семя,
Нам души овеет великое время!
И воздух отчизны станет свежей,
Когда кровь евреев прольется с ножей!
– Нам пора в путь – вскакивает Гейнц со стула и берет пальто.
Священник кладет руку ему на плечо, задерживая, но он отбрасывает руку священника. Тогда женщина выходит из-за стойки, становится у двери, закрывая ее своим телом.
– Господин, – глаза ее расширены от страха, она шепчет, – не делайте этого. Не надо вам прорываться на машине сквозь их строй. Подождите, пока улица не опустеет.
– Подожди! – приказывает священник.
– Подожди, – просит доктор.
– Вы боитесь, – выходит из себя Гейнц, – а я их не боюсь.
– Нет, – шепчет женщина у двери.
– Нет, – повторяет за ней священник.
– Нет, – умоляет доктор.
– Вы боитесь! – отвечает Гейнц. – Ваш страх ужасен!
– Гейнц, – встает Александр и берет Гейнца за руку. Тот ее не отводит. – Погоди. Мы не двинемся, пока они не оставят улицу. Научись быть евреем в эти дни, Гейнц. Это означает – иметь душу, подобную стальной нити, которая может согнуться до предела под давлением, и не сломаться, а выпрямиться, когда давление прекратится. Быть евреем означает привыкнуть быть меньшинством, и не сдаваться большинству. Быть евреем означает – испытывать извне унижения, но не терять чувство собственного достоинства. В эти дни научись быть евреем, Гейнц, пока не будет повержено в прах насилие и вернется уважение к духу.
Гейнц опустил голову, и ничего не ответил. Рука Александра все еще лежала на его плече. Все, включая женщину у дверей, опустили головы. В тишине гремели сапоги. Вдруг этот грохот прекратился. Когда опустившие головы поднялись и взглянули на улицу, штурмовиков уже не было. Звуки оркестра долетали издалека. Хвост толпы еще тянулся на Королевскую площадь, стараясь не отстать. Улица опустела.
– Поехали, – говорит Александр и глубокое спокойствие слышится в его голосе, – пришло время продолжить наш путь.
Глава пятнадцатая
Черный автомобиль пересекает старый Еврейский мост. Теперь весь ландшафт развернулся перед глазами Гейнца. Усталость его была иной, чем тогда, когда он впервые пересек этот мост по пути на латунную фабрику Габриеля Штерна. И не только потому, что тогда было начало весны, новая листва покрыла деревья, а теперь земля замерзла, став скучной и белой. «Тогда еще отец был жив», – думал Гейнц.
На горизонте уже были видны высокие доменные печи, стальные башни огромных молотов. Небеса на горизонте казались стертыми.
– Там работают даже в воскресенье, – говорит Александр, прислушиваясь к долетающему до них фабричному шуму, разрывающему покой выходного дня.
«И не для того, чтобы отливать из металла ванны и бюсты Гете», – продолжает размышлять Гейнц над словами Александра и говорит вслух:
– Габриеля Штерна уже здесь нет.
– Он уже на пути в Палестину.
«Он сбежал отсюда. Оставил все и сбежал от всего».
– Гейнц, – говорит Александр, – ты ошибся, ты едешь по шоссе, ведущему к новой латунной фабрике. А наша цель – старая заброшенная фабрика, возвращайся, Гейнц.
Нежелание участвовать в этом предприятии сбила Гейнца с пути.
Проселочная дорога ведет к аллее вишневых деревьев, и уже видны высокие каштаны рядом со старой фабрикой. Движением головы Александр дает знак остановиться.
– Почему мы не въезжаем внутрь?– удивляется Гейнц. – Туда ведет хорошая дорога.
– Несмотря на хорошую дорогу, сделай, пожалуйста, то, что я прошу. Я не могу приехать к ним на таком роскошном автомобиле. Эти молодые парни готовятся к нелегкой работе и скромной жизни. Я приезжаю к ним, как посланец из их будущего мира, и как я буду выглядеть в их глазах на таком автомобиле. Для них она – символ мира, который они собираются оставить.
– Я их знаю, – выпускает Гейнц весь накопившийся за поездку гнев, на головы молодых подопечных Александра. Ведь и он для них представляет мир, который они собираются покинуть.
– Такая же проблема и у меня дома. Они крайне агрессивны.
Тем не менее, он подчиняется Александру и останавливает машину на обочине вишневой аллеи.
Александр уходит, Гейнц еще стоит у машины. Аллея кажется ему чужой. Тогда, в прошлую поездку, он гулял с Габриелем Штерном под распустившейся листвой цветущих вишен, теперь верхушки деревьев обледенели и ветви скребут по крыше машины. Гейнц пытается зажечь сигарету, но ветер гасит пламя. Он плетется за доктором и священником.
Здесь, на заснеженной аллее, шаги Александра не так медлительны и тяжелы. Даже его обычная военная выправка и прямая осанка как бы смягчились.
– Итак, – он внезапно остановился и воскликнул непривычно торжественным для него голосом, – итак, мы приехали на латунную фабрику, которая теперь стала фермой, где молодежь самостоятельно готовится к репатриации в Израиль.
Это та же старая улица, единственная в фабричном поселке. Двухэтажные домики тянутся по обе стороны улицы. Дом прижат к дому, окно – в окно. Все домики дожили до глубокой старости. Сегодня не узнать ни улицы, ни домов. Парни и девушки, ряд за рядом, пара за парой, группа за группой, шагают по улице. Держатся близко к заборам, каштанам и липам, заглядывают в окна, и беспрерывно дискутируют, наполняя улицу сумятицей улицу.
– Шалом, – останавливает Александр первую пару, идущую навстречу: он в синей рубашке, она – в серой. Он сопровождает свои слова жестами, она отбрасывает пряди волос. Что у них тут сегодня?
– Сегодня семинар по хасидизму, – роняет юноша.
Сомнительно, найдется ли среди них хоть один, готовый пуститься с приезжими в объяснения. Но вот кто-то быстро бежит от края улицы. «Бегун!» – моргает глазами Александр. Дважды в год его «бегун» прибегает на латунную фабрику: раз – зимой и раз – летом, и всегда он в белой майке, черных спортивных штанах, в белой полотняной обуви на босу ногу и в шапке. Бежит по улице и возвращается, затем снимает шапку, собирая деньги с проходящих или стоящих зевак за свой бег. Никогда никто не спрашивал, кто он, как его зовут, откуда появился и куда держит путь. Он просто – «бегун». Дети с нетерпением ждут его, прижимаются к оградам, и, затаив дыхание, следят за тем, как он, почти босой, бежит по острой гальке. В молодости Александр отличался во всех видах спорта, а в беге опережал всех сверстников в классе, но никогда ему не приходило в голову соревноваться с этим странным «бегуном» на улице.
– Здравствуйте, – говорит им бегун, тяжело дыша, – я секретарь!
У бегущего секретаря кудрявая шевелюра, шорты, колени и голова обнажены, несмотря на стужу, но грудь и шею обтягивает толстый свитер, под которым не менее толстый шерстяной пуловер до самого подбородка. Слабый запах коровника идет от секретаря-бегуна.
– Кроме того, что вы секретарь, у вас есть имя?
– Боби, – коротко бросает обладатель шевелюры.
– Гости – наши друзья, – говорит ему Александр, – они пришли поинтересоваться вашей жизнью.
Боби не ждет вопросов, подпрыгивает и отвечает, стоя на одной ноге.
– Мы не просто здесь готовимся, мы здесь – готовящийся к труду и обороне в Израиле целый кибуц, – говорит он, идя рядом с Александром. Они опережают всех на два шага, собираясь пересечь шоссе в сторону бывшего здания пожарной команды, на дверях которой большими буквами написано: «Секретариат».
– Весь секретариат пошел на занятие по хасидизму. Мы ждем вашу беседу с нами, но чуть позже.
– О чем вы хотите со мной беседовать? Есть проблемы?
– Есть. Ведь не так просто превратить это ужасное запустение в нормальный подготовительный кибуц? Когда мы сюда приехали, сорняки росли на порогах домов.
Александр остановился. Обвинительные нотки в голосе секретаря как бы относились к нему. Они ведь бежали отсюда, целое поколение сыновей разбежалось кто куда, вот и выросли сорняки на порогах их отчих домов. И обвинял их этот кудрявый юноша от имени тех, которые наследовали это запустение. Боби указывает на дом Габриеля Штерна, на окнах которого опущены жалюзи и дверь заперта. Габриель Штерн оставил юношам и девушкам все домики, кроме своего дома. Александр шарит в кармане своей куртки: хозяин отдал ему ключ от этой виллы перед тем, как оставил ее.
– Он просто оставил бесхозным все, что ему принадлежало, – секретарь указывает на опущенные жалюзи, – уплыл себе в страну Израиля и оставил все это имущество, чтобы вернуться и основать поселение.
Александр возвращается к себе, истинному, Александру прошлых дней. Боби его рассердил. Он не может согласиться с тем, что все грехи его поколения Боби возложил на Габриеля Штерна. Из всех сыновей, который росли на латунной фабрике, последним был здесь Габриель.
– Габриель Штерн, – хмурится Александр, – вел себя так, как вели себя все. Мы все оставили это место, чтобы репатриироваться в страну Израиля. Придет время, и вы сделаете то же самое, репатриируетесь туда же, и пороги этих домиков снова зарастут сорняками.
– Нет! – возражает Боби. – Мы за собой не оставим никакого запустения. Мы репатриируемся, на наше место придет новый подготовительный кибуц, но мы оставим ему место чистым и упорядоченным, а он, в свою очередь его оставит чистым и упорядоченным следующим за ним юношам и девушкам. Многие поколения пионеров-халуцев пройдут здесь подготовку к репатриации и труду на своей истинной родине.
Удар по рельсу неожиданно прерывает их разговор. Парень ударяет железным ржавым брусом, прикрепленным к высокому столбу, по висящему рельсу, заменяющему школьный колокол. Мгновенно улица наполняется шумом и голосами, топотом ног по снегу. Окна захлопываются, на чердаках домов слышится шум, словно картошка сыпется по деревянному полу. Внезапно дома и улица замолкают.
– Перемена кончилась. Все вернулись к изучению хасидизма, – объясняет секретарь.
– Сейчас вы учитесь здесь, – говорит Александр Боби и рассеянно объясняет своим друзьям, – все эти домики соединены между собой. По чердакам можно гулять из дома в дом. Молодежь зашла в «шул» – школу. По сути, это три бывших молитвенных помещения – для мужчин, для женщин и для учеников религиозной школы – йешивы, которую все годы содержала здесь семья Штерн. Даже мой отец занимался в ней.
– Теперь здесь наши клубы, – прерывает его Боби решительным тоном. Таков стиль его разговора. Он хочет сказать Александру» «Теперь не то, что было. Теперь здесь мы, и это намного лучше, чем было в прошлом». Александра сердит агрессивный тон Боби. Он взвешивает возможность закурить. Войдя сюда, он вынул изо рта вечную свою сигарету. Здесь запрещено курение и, уважая порядок, он отказался от этого удовольствия. Но сейчас ему захотелось доказать молодым, что кроме их желания есть желания и других, кроме их руководителей есть и другие руководители. Александр шарит по карманам, сигарета у него между пальцами, но нет спичек. Всю дорогу он пользовался зажигалкой Гейнца. Он осматривается и останавливает взгляд на единственном магазине поселка, по ту сторону шоссе. Магазин этот принадлежал в свое время толстухе-жене усатого извозчика и был местом сбора молодежи. Хозяйка магазина не была еврейкой, но следила за кошерностью и соблюдением молодежью религиозных еврейских праздников, и ни одно подобное нарушение не оставалось не замеченным ее бдительным оком. Они дали ей кличку «Божий глаз». Словно возвращаясь в свое прошлое, Александр идет в магазин, и пусть сейчас он раскрыт и опустошен, Александр заполнит его воспоминаниями. Он подходит и изумленно видит, что на дверях магазина большими буквами написано: «Коммуна».
– Сейчас там наша коммуна, – решительно говорит секретарь.
– И ты не идешь вместе со всеми изучать хасидизм?
– Да. Я тоже очень этим интересуюсь, но я секретарь, и мой долг...
– Принимать гостей, – прерывает его Александр. – Но не стоит о нас так беспокоиться. Я здесь не чужой, и найду дорогу, и хочу добавить, что знаю здесь все пути лучше тебя.
– В два часа мы снова встретимся. Тогда заканчиваются занятия, и мы идем на обед. После него мы, все члены секретариата, просим вас встретиться с нами для беседы.
– Отлично, – говорит Александр своим друзьям, – есть у нас немного времени для отдыха.
– Пожалуйста, все наши комнаты в вашем распоряжении, – указывает Боби на дома, жестом хозяина, – выбирайте любой дом.
– Благодарю вас, – с легкой иронией отвечает Александр, – у меня есть ключи от закрытого на замок особняка. Мы пойдем туда и будем гостями у самих себя.
Когда открыли дверь, сильный ветер ворвался в комнаты и взметнул на вешалке в передней зеленую прозрачную вуаль Моники, которая одна встретила гостей в давно поселившейся в доме тишине. Александр посмотрел на опустевшее место, где всегда дремал пятнистый хозяйский пес. Кроме него, все осталось на местах, словно хозяева вышли прогуляться на час-два. Хотя жалюзи были опущены, занавеси закатаны, и воздух спертый, но вся мебель и ковры были на прежних местах. Картины со стен не были сняты. Вся располагающая к гостеприимству обстановка в гостиной, куда вошли гости, осталась, включая стоящую на столе фарфоровую вазу с шоколадом. На маленьком продолговатом столике светилась серебряная папиросница, полная сигарет, рядом – коробок спичек. Только непривычное безмолвие, глубокое и глухое делало порядок и чистоту в доме нереальными. Пустые банки и общая пустота дышали навстречу Александру. Моника любила цветы, и вазы во всех комнатах были всегда ими полны. Александр отводит в сторону портьеру и поднимает жалюзи. Дневной свет врывается в безмолвие вместе с отдаленным мычанием коров. Молодежь перескочила через ограду двора. Бывшую конюшню семьи Штерн, где раньше содержались породистые кони, переделали в коровник. Лишь голова вытесанного из камня коня торчит над входом в бывшую как бы травмированную конюшню.
– Странно, – говорит Гейнц за спиной Александра, – словно они вышли на прогулку и скоро вернутся.
– Все здесь, как было, – говорит Александр друзьям, которые уселись в кресла вокруг стола и взяли по сигарете из серебряной папиросницы. Александр присоединился к ним, взяв сигару Габриеля.
Все было абсолютно, как прежде, благодаря дяде, старику Самуилу, воспитавшему Монику Штерн, рано лишившуюся матери и отца Берла, брата Самуила. Моника и Габриель много лет не покидали Германию из-за дяди Самуила, который не хотел с ними ехать в Палестину, а Моника не хотел его оставлять. Дядя Самуил был единственным евреем, который остался среди немцев в маленьком городке металлургов, колыбели семьи Штерн, которая была частью большой еврейской общины городка. Сидел он один в здании бывшей еврейской йешивы и многие годы писал книгу об исчезнувшей общине. И невозможно было оторвать его от этой книги. Однако настали тяжелые дни. Моника и Габриель, беспокоясь за судьбу дяди среди чужаков, приготовили ему убежище на случай бедствия. Именно, для него оставили они этот дом прибранным и чистым, всем сердцем надеясь, что старик найдет место среди молодежи, и они будут охранять его от любой беды. Может, именно, здесь он, в конце концов, завершит свою книгу.
Рассказ Александра поднял заново тени прошлого. И здесь, среди стен этого дома, его порядка и чистоты, они словно заключены в тяжких воспоминаниях и размышлениях.
– Мы ведь хотели немного отдохнуть, – с легкой иронией в голосе говорит священник.
– Все комнаты в вашем распоряжении, – извиняется Александр. Друзья разошлись по комнатам, дабы найти уединение и отдохнуть. Только Александр не пошел в кабинет Габриеля. Не для этого он приехал сюда. Ему хотелось пройтись по старой фабрике без сопровождения друзей и кудрявого секретаря.
Как хорошо, что на улице ни души. Только из комнат бывшей йешивы доносятся молодые, спорящие голоса. И снова не может он оторваться от воспоминаний, желая сбежать от них в другие времена, но встает перед ним Германия, которую он знал в детстве и юности.
Побег в прошлое кажется ему бегством в будущее, к не осуществленным мечтам юности.
Озеро ограждено высоким забором из колючей проволоки. Большая вывеска гласит: «Посторонним вход воспрещен!»
Несколько продолговатых бараков чернеют на снегу. Рядом с бараками груды угля. Высокие задымленные трубы вздымаются над крышами бараков. На огражденной территории и вокруг большинство деревьев выкорчевано. Куски угля разбросаны по поверхности замерзшего озера. Ни одной живой души не видно среди темных бараков. Субботний покой снизошел на озеро. И вдруг – собачий лай. Пес прыгает к нему, помахивает хвостом, лижет ему руку. Это пес Габриеля.
– Пес тоже тебя помнит, – слышит Александр обращенный к нему голос парня, стоящего между деревьями.
– Тоже, а кто еще?
– Я. Много раз слышал ваши речи.
– Ты с подготовительных курсов?
– Из подготовительного кибуца.
– Из подготовительного кибуца, – в голосе Александра сердитые нотки. – что же ты тут делаешь?
– Не мы, – понижает голос парень. Страх проступает на его лице. – Это они. Они – там, – и он показывает в сторону новой латунной фабрики.
Тем временем парень приблизился и тоже встал рядом перед объявлением, запрещающим посторонним вход на озеро.
Александру так и не удается остаться наедине с собой. Он смотрит на парня. Бледное лицо. Большие очки с черными закраинами. Острый длинный нос, который не уродует его лицо, излучающее добродушие. Прямая спина, только нервные руки все время касаются всего, что рядом, забора из колючей проволоки, ерошат шерсть пса, дергают куртку, напоминая Александру своей суетливостью Шпаца из Нюрнберга. «Шпац в еврейском варианте», думает Александр, парень ему нравится:
– Почему ты не на занятиях, как все?
– Я сегодня занят. – Легкий румянец появляется на бледном лице парня. – Я дворник. Завтра у нас день стирки. – Он указывает на большую тачку на тропе между деревьями, полную хвороста. – Я сначала его высушиваю, затем использую для топки в печи. Она старая и прожорливая, нужно много хвороста.
– Какая печь?
– Та, что в подвале.
«Боже, печь в микве – бассейне для ритуальных омовений. Они использовали ее для стирки».
– Там ты работаешь? – в голосе Александра снова сердитые нотки.
– Не только... – извиняется парень, – я также собираю мусор на ферме и сжигаю его. Я не выхожу со всеми работать у крестьян в селах.
– Почему?
– Я не очень успешен в работе, и не хочу у них позориться.
На лице парня – смущение. Руки шарят в карманах куртки.
– Как тебя зовут?
– Нахман.
– Как ты себя здесь чувствуешь, Нахман?
– А-а, – парень пытается отвернуть взгляд от глаз Александра, – я чувствую себя здесь нормально. Конечно, сейчас здесь по-иному, чем было раньше, – добавляет он, сдаваясь взгляду Александра, который явно хочет вытянуть из него гораздо больше, чем тот намеревается сказать.
– Как здесь было раньше?
– До сих пор я был студентом математического факультета Берлинского университета.
– Товарищи по движению требовали от тебя прекратить учебу, приехать сюда, чтобы сжигать мусор?
– Нет! Они от меня этого не требовали. Не следует вам думать о них так. Я, по сути, единственный в Движении, которому разрешили учиться в университете. Более того, товарищи хотели заставить меня продолжать учебу, чтобы стать учителем в кибуце.
– Почему же ты не прислушиваешься к советам товарищей?
Александр, который пытается говорить во благо парню, не чувствует, что слова его болезненно отзываются на том: лицо его белеет, и из-под очков видны темные тени под глазами.
– Нет, я не буду учителем на родине, – глаза парня расширяются.
– Но ты ведь привязан к своей учебе, – Александр хочет убедить Нахмана, – ты любишь ее.
– Очень, именно поэтому и не хочу этим заниматься.
– Но, Нахман, – Александр усиливает давление, – это же глупость, абсолютная глупость! Страна нуждается в гуманитариях, в интеллектуалах.
– Нет, это не глупость. Это мое личное дело. Не хочу больше быть интеллектуалом, как вы говорите. – И перед удивленным взглядом Александра задумывается на миг, словно решает быть откровенным. – Это вообще моя семья. Это дело между мной и моей семьей.
– Извини, если можно спросить, как твоя фамилия?
– Финдлинг.
Александру такая фамилия незнакома. Несмотря на нахмурившееся лицо парня, Александру фамилия доставляет большое удовольствие.
– Значит, выходит, ты Нахман Финдлинг.
– Не Нахман. Настоящее мое имя – Максимилиан. От этого имени я освободился тотчас же с приходом в Движение. В отношении фамилии это не так просто. Нужен перевод. А как перевести – Финдлинг – на иврит? Финдлинг это – найденыш, подкидыш. Так что – Нахман Подкидыш?
– Зачем вообще менять? Я живу в Израиле и не менял своего имени. Нет в этом никакой необходимости. Финдлинг может быть твоей фамилией и там.
– Нет! Не хочу этого. Эта фамилия просто невозможна.
– Но почему – Нахман?
– Об этом вообще не стоит говорить.
– Если тебе не трудно, я бы очень хотел об этом узнать.
Они зашли в глубину леса, нашли укрытие от ветра. За ними тянутся глубокие следы по снегу, единственные в лесу. Посреди тропы, по которой они идут возникают пни, следы рухнувших деревьев. Над ними шорох сосен и елей, словно бы принимающих участие в рассказе Нахмана.
– ... Тайна довлеет над моей семьей и портит жизнь всем ее членам. Прадед записал это в завещании, но многое нам непонятно. Прадед был родом из Моравии. Отец его был ювелиром, из очень простой семьи. Мать его была дочерью ювелиров. У прадеда было три брата, он – первенец. Отец его, , человек бедный, прилепился к новому учению Якоба Франка. Вероятно, его подозревали в темных делах и отлучили от общины. В канун субботы семья сидела за праздничным ужином, все, кроме моего прадеда-первенца который был болен и лежал в кроватке. Ели они, как обычно, в субботу, рыбу, у них начались сильные боли, и все приказали долго жить, отец, мать и маленькие дети. Шум прошел по общине, что рыбы были отравлены, и что ювелир продал душу лжемессии и его учению. Прадед осиротел когда было ему десять лет, а год был – 1812. В тот год войска Наполеона начали двигаться по всем дорогам в сторону России. Вскоре в Офенбахе, в Германии, умерла Хава Франк, дочь того лжемессии, в которого верил отец моего прадеда. Юношей прадед оставил свой городок. Ведь он был сыном совратителя душ и унес с собой тайну гибели семьи. Было у него единственное наследство – медальон в форме яйца из слоновой кости, в середине которого был портрет молодой женщины. Прадед полагал, что это портрет матери в молодости, и носил этот медальон на шее всю жизнь. От отца же он получил довольно стертые обрывки Торы, не очень понятные, которые тот слышал от своего отца. Отец его всегда грезил воинственными видениями и рассказывал ребенку о еврейской армии, которая возникнет в будущем. Потому ребенок, скитавшийся по дорогам, всегда искал укрытие в воинских лагерях и плелся за солдатами, никогда не спрашивая, откуда они и кому служат. Часто эти подразделения усыновляли его, и потому к нему прилепилось имя Найденыш, то есть – Финдлинг.
Снег падает на них с верхушек деревьев, затемняет им очки и заставляет блуждать по тропам. Это ведь тропы, по которым убегал от христиан последний царь язычников венедов Привислав. На этих тихих тропах прусские короли вели охоту. Александр оглядывается. Снег стирает их следы, словно намеревается увести их в лабиринт тропинок. Нахман идет впереди, как будто ищет затерявшиеся следы своего прадеда.
– В завещании деда не написано, как и когда он добрался до Пруссии и осел в ее столице. Понять лишь можно, что он скитался с армиями, и все, чему выучился у солдат, связалось у него с какими-то изречениями и выражениями, которые он слышал от отца. Память о родителях он хранил в душе, и все, с ними связанное, было для него свято. Тайна странной смерти членов его семьи, была неким уголком, куда можно было укрыть всякую темную мысль. Если он слышал от отца о святости греха и скверны, то вкусил в жизни от многих пороков, и с чувством святости в душе нырял в эту скверну. Если отец поучал его беззаконной жизни, лишенной всякого уважения к людям, он и жил необузданно, полагая в душе, что живет по заветам погибшего отца. Слишком был он молод, чтобы усвоить в своей душе рядом с поучениями отца, также и пророчества отца об освобождении Израиля. Несомненно, он полагал, что только благодаря той живой Торе, в которую верил отец, он и дал ему, сыну, жизнь. И потому даже усилил свое подражание отцу в его заблуждениях. Он уже был в годах, когда поселился в Берлине, женился и родил сыновей и дочерей. Жену привез из Моравии, с места, где было много придерживающихся той фальшивой веры, из-за которой лишились жизни его родители. Двенадцать детей родилось у прадеда. Войска он не оставил, став одним из первых снабженцев прусской армии. Он оставил детям большое богатство и тайну смерти свой семьи в Моравии.
Александр остановился, и с ним Нахман. Увидев сигару в руках слушателя, извлек спички.
– Что? Ты тоже куришь? – удивился Александр. И это «тоже» прозвучало так, словно он вывел Нахмана из всей компании на подготовительной ферме.
– Нет! Нет! – поторопился Нахман снять с себя это подозрение. – Нам запрещено курить. У меня всегда есть спички, чтобы поджигать мусор.
Александр возвращает сигару в карман.
– Двенадцать детей, говоришь, было у твоего прадеда?
– Двенадцать. Большое богатство оставил он им в наследство, но не историю своей жизни. Его сыновья были сторонниками эмансипации, настоящие буржуа, внешне ухоженные, воспитанные, все с высшим образованием, все достигли высоких ступеней на карьерной лестнице германского общества, и все же, не все было в порядке у сыновей прадеда. Мне трудно в точности объяснить это вам, Александр, но теория эмансипации в их душах переплелась с отравляющими жизненными принципами, которые прадед, несомненно, проповедовал сыновьям. Не знаю, нашептывал ли он им тайком о необходимости крещения, об уничтожении всех религий и о необходимости того, чтобы евреи были тайной сектой в среде христиан? Каждый из его сыновей и дочерей толковал его слова по своему пониманию. Они крестились, а так как воинский блеск и доблесть всегда были высоко ценимы в нашей семье, преклонялись перед прусской армией. Есть у меня дяди, которые в этой области сделали большую карьеру и даже начали проповедовать ненависть к Израилю. Те из детей прадеда, которые не крестились, проявили равнодушие к своему иудейству и еврейству. Теорию жизни отца наследовали не все из детей. Они были людьми культуры, и река их жизни текла по законам логики и здравого смысла. Только мой дед продолжал все более погружаться в тайны нашей семьи. Он был поздним ребенком у прадеда. Когда прадед увидел, что все его сыновья и дочери покидают семейные традиции, он решил сделать своим наследником этого позднего ребенка. Прадеду казалось, что его поздний ребенок очень похож на его отца, умершего странной смертью. Он был высок, худ, мой дед, на худощавом его лице пылали черные глаза. Прадед был погружен в воспитание младшего сына больше, чем в воспитание всех остальных детей. Беспрерывно рассказывал ему о жизни несчастного ювелира и его вере, возлагая на хрупкие плечи всю тяжесть темного знания. Дед был хирургом, и встречался со смертью почти каждый день. Человек умирал под его скальпелем, после чего он возвращался домой и писал стихи, отличающиеся мягкостью и нежностью. Он был верным сыном своего отца и уважал законы его необузданной жизни, но он впитывал в себя романтический дух своего поколения. И снова вызывает удивление, как странным образом уживались в нем еврейская мистика предков, с германской романтикой. Он достаточно был далек от приятия греха и скверны. И все же, очевидно потому что романтика поддерживала обостренность страстей и преклонение перед природой, усиление жизненных сил, необузданно вырывающихся из души человека, эта романтическая мистика смешалась с миром его детства, что привело к расширению бездны между внутренней жизнью души и реальной жизнью. И увеличило порок, в который надо погрузиться, чтобы прийти к чистым источникам души. Невозможно узнать, когда раскрылась эта бездна в душе моего деда, когда и как в нем увязалось темное знание его отца с романтикой, с хирургическим скальпелем и со смертью, тень которой он вдел изо дня в день. Мой прадед еще был жив, когда разрушительные, сталкивающиеся душевные силы стали преследовать деда. Когда его поместили в дом умалишенных, снял прадед со своей шеи медальон из слоновой кости и повесил его на шею больного сына. Прадед умер в глубокой старости, когда мне было десять лет, а дед до конца дней пробыл в сумасшедшем доме. Я еще помнил больного деда, ходил с отцом его навещать. Дед вообще с нами не разговаривал. Он не разговаривал ни с кем. Глаза его пронизывали собеседника, они словно никогда не дремали и говорили о том, что и мозг его не дремлет. Своим же молчанием он выполняет завет лжемессии своим ученикам, который, ведя их к погружению в купель, говорил: отсюда далее – последнее безмолвное странствие к могиле, молча, принимайте свою судьбу! Отец задавал деду всякие вопросы, справлялся о его здоровье, но ответа так и не удостаивался. Но всегда, когда мы вставали со стульев, он начинал сильно волноваться, целовал отца в щеку, этот поцелуй был особенно важен больному деду. Он вглядывался в глаза сына, дрожащими пальцами расстегивал пуговицы на пальто. Из-под рубахи извлекал медальон из слоновой кости, и его черные горящие глаза словно выпивали голову молодой женщины. Я, конечно же, спрашивал о ней отца, но он очень мало знал. Она была матерью прадеда. Отец говорил, что она была святой и ушла из жизни при трагических обстоятельствах.
* * *
Огромная ветвь упала с дерева и перекрыла им тропу.
– Пойдемте направо, – сказал Нахман.
– Куда скажешь.
Верхушки деревьев нависали аркой над ними. Снег падал между деревьями, бесшумно ложась на них, смягчая шум шагов, словно бы стараясь не помешать голосу Нахмана.
– Мой отец лишился матери в десятилетнем возрасте, он был единственным сыном, а бабка была слаба телом и духом. Отец не был привязан к ней. Он преклонялся лишь перед своим несчастным отцом. Отец, как и дед, учил медицину. Из любви к отцу он стал невропатологом, затем заведующим психиатрической больницей, но стихов не сочинял. В свободное время любил копаться в большом домашнем саду. Выращивал травы и съедобные растения. Он был вегетарианцем и основал союз анархистов. Неожиданно отринул всяческую сдержанность, все привитые ему правила вежливости, культуру поведения, полученную от отца, от его поколения эмансипации, и вернулся к нормам жизни прадеда, привезенным из далекой Моравии. Основанная отцом анархистская организация была весьма странной. Кроме того, что они были вегетарианцами, они еще купались нагишом вместе, мужчины и женщины, и проповедовали свободную любовь, подобно природе, без всяких сдерживающих оков. В молодости отец познакомился в семье одного врача с двумя сестрами, и влюбился в младшую, более красивую. Она же к нему не благоволила. В отчаянии, желая все же быть поблизости от нее, он взял в жены старшую, не столь блиставшую красотой, как ее сестра. Это моя мать. С отцом она была несчастной. После того, как мы родились, я и моя сестра, мать вызывала у отца неприязнь на грани презрения, и он полностью отдался своим принципам свободной любви – открыто, дома, на наших глазах. Мать не могла выдержать ни его отношения к ней, ни анархистских повадок, ни его сборищ и совместных купаний мужчин и женщин. У нее случались тяжелые приступы отчаяния. Тогда она звала меня и сестру в свою комнату, сажала за стол, открывала шкатулку с драгоценностями, и делила их между нами, и торжественно прощалась с нами, сообщая, что собирается наложить на себя руки. Мы заливались слезами, и умоляли не делать этого. Она надевала пальто, и уходила из дому, чтобы совершить задуманное, отец стоял в дверях и смеялся над ней злорадным смехом. Эта игра с драгоценностями и угрозами покончить собой длилась все мое детство и юность. В конце концов, не она, а отец покончил собой через два года после того, как дед умер в психиатрической больнице, достигнув глубокой старости. Отец поклонялся этому человеку, преследуемому странными страстями.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































