Текст книги "Дети"
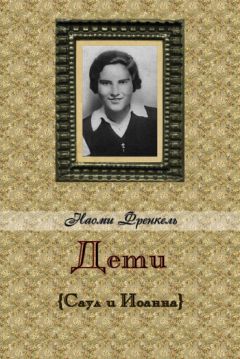
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 44 страниц)
– Тебе все равно, что делают с псом?
– Да, – сказала она голосом, столь же равнодушным, как ее лицо, – это его пес, а не мой. Он может с ним делать все, что хочет.
Я чувствовал подступающую к горлу сильную тошноту... но Дики был обворожен девицей. Это была высокая блондинка, крепкая телом, с длинными ногами, приятным голосом, красивыми руками. У нее были ленивые движения кошки, потягивающейся под солнцем. Дики сблизился с ней и много времени проводил в ее обществе. Я ничего не имею против любовных дел моего друга, но сообщил ему, что мое присутствие здесь излишне. Тотчас он вернулся к себе, стал тем же Дики, веселым и добродушным парнем. Обнял меня и начал упрашивать не оставлять его. Я бы не внял его мольбе, если бы не увидел страх в его глазах. Я понял, что мне нельзя его оставлять вопреки моему сильному желанию вернуться к тебе. Я понял, что он ищет среди нацистских лидеров родственников по фамилии Калл, сыновей майора Калла, посетить которого я тебя просил. Сыновья майора в возрасте Дики, и он всех и при любой возможности спрашивает, не знакомы ли они случайно с семьей Калл. Пока его поиски не увенчались успехом, но он уверен, что только здесь, среди нацистских лидеров, найдет их. Он ищет любой путь, чтобы добраться до своих прусских родственников, используя даже ленивую равнодушную блондинку. Думаю, что он тянется за всеми этими нацистами, ибо обнаружил склонность к ним, пруссакам в коричневых мундирах, ища среди них родичей, жаждет почувствовать, что он с ними одной плоти и крови.
Я не могу оставить здесь Дики. Я должен стоять на страже его души, и он это знает, потому привязался ко мне и не дает мне уйти.
Дорогой отец, письмо становится слишком длинным. Может быть, ты сидишь в этот момент в своем кресле у стола, размышляя над моими проблемами, а может, крутишься между рабочими, пакующими твои вещи, или у тебя уже все упаковано и закрыто в ящиках, которые ты собираешься направить по моему адресу в Копенгаген. Быть может, я добавляю тебе огорчение тем, что согласился отложить мою поездку в Копенгаген на более позднее время, ибо трудно сказать, когда дела здесь, в Мюнхене, придут к завершению. Может, из-за этого я откладываю и твою поездку в Палестину, ибо у тебя нет еще верного адреса, куда переслать наше имущество. Дорогой отец, не откладывай свою поездку в Палестину из-за имущества, с которым неизвестно, что надо делать. Прошу тебя, оставь пока все это имущество на сохранение на складе в Германии. Придет время, и я заберу его на то место, где осяду. Поверь мне, я буду как следует хранить наше имущество. Ты же уезжай, как можно быстрее. Из всего, что я тут слышал и видел, мне абсолютно ясно, что ты должен уезжать отсюда немедленно. Насколько письмо это длинно, нет в нем даже малой части того, что произошло со мной. Я тебе еще напишу обо всех людях, с которыми мы встретились и встречаемся здесь. Дики недоброжелательно относится к нашей с тобой переписке. Она против правил игры, которые мы установили. С момента нашего приезда сюда, он не написал ни единого слова. Он вычеркнул родителей из своей жизни. Я не могу этого сделать. Ведь я лишь недавно нашел тебя, отец, и не смогу прервать нашу связь даже на короткое время, даже если это только игра. Я не смогу существовать без этой связи с тобой. Сегодня вечером Дики пошел на какое-то нацистское собрание, в сопровождении ленивой девицы. Я пожаловался на головную боль и остался один в доме, чтобы написать тебе письмо, сбежать к тебе хотя бы на один вечер от всего этого нацизма, навязанного мне другом Дики.
Дорогой отец, уже за полночь. Дики еще не вернулся. Проводит ночь со своей девицей. В Мюнхене неспокойно. За окном течет поток машин и людей, возвращающихся с ночных развлечений. Мюнхен уже готовится к празднику Рождества. Мягкие и нежные красавицы Мадонны зажгли свои свечи в витринах. Праздник этот возвращает меня к матери и ее любви ко мне. От праздничных улиц Мюнхена, от коричневых мундиров, от знака свастики на обшлаге моего пальто, я убегаю в лоно Марии, склоняющей голову над младенцем. Быть может, в любви, нежной и мягкой, заключена сила моего спасения от всех ужасных отклонений в моей жизни.
С большой любовью к тебе, твой сын Ганс».
Письмо выпало из рук доктора, глаза его смотрят на листки, распавшиеся по одеялу. Губы дрожат. Эта дрожь углубляет морщины вокруг рта, заполняя все складки лица потрясением и тревогой. Глаза блуждают по комнате, словно ищут возможность убежать с охваченного страхом лица. Напротив кровати, на небольшом гравированном краснодеревщиками комоде стоит гипсовый бюст Моцарта. Он входил в приданое Гертель, и доктор так и не сумел убедить ее не ставить Моцарта напротив кровати. Но когда она покинула дом, он больше и не думал убрать гипсовую голову с комода. Однажды в рассеянности повесил на шею Моцарта галстук, и вот уже несколько лет стоит Моцарт с зеленым в черную полоску галстуком. Доктор смотрит в окно, и видит не заснеженные дома на Липовой Аллее, а лишь сына своего, Ганса, марширующего в коричневой форме по улицам Мюнхена.
– Теперь все смешалось! – бормочет доктор. И это не из-за письма сына. После встречи с ним, в разгар подготовки к отъезду в Палестину, в докторе проснулась энергия, которую он не чувствовал долгие годы. Зная, что сын его вне границ Германии, он уже не сомневался в принятом решении тоже покинуть ее. Наоборот, нечаянная радость в ожидании будущего не оставляла его все дни. Назначил день сбора и упаковки багажа, заказал место на корабле, который через месяц увезет его в Израиль. Теперь же он должен все это отменить.
– Понятно, что я не оставлю его здесь одного, в этой авантюре, куда его втянул дружок, и не уеду в ближайшие месяцы.
Горячая волна окатывает доктора с головы до ног, так, что ладони становятся потными. Он ищет платок, но вместо этого руки его натыкаются на кофейник, стоящий на столике у кровати. Во рту сухо. Он наливает полную чашку кофе, жадно выпивает, и лишь после этого отдает себе отчет, что кофе холодный и безвкусный. Медленными движениями он собирает письмо, разглаживая каждый листок, вкладывает его обратно в конверт, выдвигает ящик ночного столика и прячет письмо под старые блокноты и массу мелких вещей, чтобы, не дай Бог, оно не попало в руки Барбары.
Вскрикивает, ощутив укол в палец. Извлекает из глубины ящика брошку из слоновой кости, на хорошо сохранившейся поверхности которой – миниатюрный рисунок симпатичной головки Гертель. Каким образом эта дорогая вещичка закатилась к нему в ящик? Гертель с гордостью носила эту брошь на груди. У доктора возникло подозрение, что Гертель сама упрятала брошь в угол ящика. Многими болезненными воспоминаниями связана Гертель с этой брошью. Она получила ее в подарок от отца доктора, старого господина Блума, когда родила маленького Ганса и дала слово сделать ему обрезание, брит-милу, связав его союзом с праотцем Авраамом. Только с этого момента начал покойный господин причислять ее к женщинам семьи Блум. У всех этих женщины были такие броши. Отец доктора, банкир Блум, привел искусного художника в дом, чтобы тот изобразил головку Гертель на слоновой кости. Гертель лежала в постели после родов, которые были достаточно легкими, между белыми кружевными подушками, светлые ее волосы разметались вокруг лица, которое выглядело, как цветок, раскрывшийся навстречу солнцу. Даже на таком миниатюрном рисунке художнику удалось передать выражение счастья и чистоты на ее лице. Рука доктора прикрывает брошь. Раздается щелчок. Доктор слышит его ясно, словно старый отец вернулся, чтобы сесть у колыбели Ганса. Часами он сидел, качал колыбель внука, и пел ему колыбельную. Доктор слышит эти слова:
У колыбели сына, во сне,
Стоит ягненок, белый, как снег.
Ему идти за игрушками впору.
А сынок пойдет учить Тору.
Доктор разжимает ладонь, и оттуда на него смотрит маленькое красивое личико Гертель. Он вновь закрывает и открывает ладонь, и не может остановиться. Он пытается перестать играть рукой и воображением, но продолжает открывать и закрывать ладонь, словно разговаривает с Гертель на маленькой броши:
– Ничего в том, что он пошел к ним. Действительность и грех тоже ведут к Богу. Я это знаю.
И молится про себя, чтоб голос ветра за окнами прекратил голос отца, поющего в его душе. Но вьюга на проспекте не может заглушить отца, продолжающего петь у колыбели внука.
– Я не оставлю его здесь одного. У нас одна общая судьба, – бормочет доктор, обращаясь к Гертель и склоняя голову, словно погружаясь во всю эту сумятицу.
– Несмотря на все, мне надо немедленно сделать то, что на меня возложено.
В единый миг он осознает, что следует ему сделать в воскресенье: немедленно разыскать майора Кала и устроить встречу Дики с его прусскими родственниками. Быть может, такая встреча вернет сына и Дики на корабль, следующий в Копенгаген. Молодой человек, друг сына, найдет успокоение в душе, когда встретится с родственниками. Еще сегодня он должен встретиться с майором Калом. Время близится к десяти, следует позвонить майору по телефону. Впопыхах возвращает в ящик ночного столика брошь, потирает руку, снова извлекает брошь и кладет ее в карман утреннего халата, висящего на стуле у кровати. Он пошлет эту брошь сыну как талисман. Ведь брошь дана была его отцом жене сына в благодарность за ее согласие ввести внука в еврейство.
Нервными пальцами доктор застегивает пуговицы утреннего халата и торопится к телефонному аппарату в кабинете. Открывает рывком двери. Перед ним Барбара. Молчалива и хмура. Глаза пронизывают его, руки сложены на платье. Черную накидку она одела на розовую кофту госпожи. Доктор хочет обогнуть ее по пути в кабинет, но она встала на его пути:
– Доброе утро, Барбара! – восклицает с деланной радостью доктор Блум.
– Вы желаете мне доброго утра, доктор? – глаза как у разгневанной тигрицы, голова наклонена вперед, и золотые сережки в ушах поблескивают в свете люстры, которую она зажгла в гостиной.
– Доктор, в это утро произошло то, что произошло, и ясно, как солнце, что еще что-то произойдет то, что произойдет, Иисус Христос, и вы говорите мне просто – доброе утро.
Доктор по-настоящему изумлен. До этого момента он вообще не поинтересовался утренними событиями. Газета на подносе с завтраком. Он даже взглянул на нее. Письмо сына выбило его из обычного распорядка. Может, и вправду что-то случилось? Вчера все вечерние газеты сообщили о тайных переговорах с целью назначить Гитлера главой правительства. Забастовка также достигла пика, и граждан просят не покидать свои дома в это воскресенье. Он был погружен в свои дела, а тут – пожар в Берлине! Гитлер – глава правительства! Революция! Столкновения! По лицу Барбары он пытается определить происходящие беспорядки. Облако подозрений окутало сына, что с ним будет, если доктор не успеет сделать то, что на него возложено? Что будет с Гансом, если из-за всех этих событий он не сможет покинуть Германию, а майор Кал будет занят наведением порядка или вообще празднует приход Гитлера к власти.
– Что случилось утром, Барбара? Я даже не прочел утреннюю газету.
– Газета! – с презрением в голосе повторяет Барбара и обнажает вставные зубы, словно хочет впиться ими в это слово – газета! – Да известно ли газете все, что происходит и будет происходить? Доктор, причем тут газета? – она делает шаг в сторону доктора.
– Доктор, я спрашиваю вас, что сделает человек, решивший изменить свою судьбу, и у него достаточно причин это сделать? К сожалению, доктор, к сожалению, у него достаточно причин для этого. Так что, человек этот уткнет голову в газету, чтобы найти там способ изгнать чертей и привидений? Ни за что, доктор. Газета, как написано в словаре, изобретение римлян. Так что хорошего и полезного может прийти от римлян, этих идолопоклонников? Нет, доктор, нет! Путь к правде это обращение к душам теней, ушедших из жизни. Они знают тайну времен, они уверенно поведут вас к изменению вашей горькой судьбы.
Доктор, который только теряет время, не может ко всему еще выдержать запах анемонов от духов Барбары рядом с собой. Он решительно говорит ей:
– Барбара, что случилось утром? У меня голова болит, и совсем нет времени. Я тороплюсь.
– Ах, что случилось и что не случилось утром! Судьбоносные события! Дух событий уже захватил вас – в голове, в душе, в теле. Разве не видно, что злой дух вселился в вас? Как вы выглядите, доктор? Уши у вас горят, брови стоят торчком, щеки пунцовеют, доктор, вы ломаете пальцы. Вам нужен стакан горячего вина! Я вам сейчас его принесу!
Доктор ощупывает щеки, обхватывает уши, касается торчащих бровей, и ему действительно начинает казаться, что у него заболела голова, и он действительно ломает пальцы. Он опускает руку в карман халата и снова натыкается на брошь, вынимает руку и протягивает к Барбаре, как бы собираясь ее убрать с пути, и тут она замечает каплю крови на его пальце.
– Кровь! – в ужасе расширяются глаза Барбары. – Кровь у вас на руке, доктор. Есть что-то колющее у вас в кармане халата?
– Ничего там нет.
– Господи! Откуда же кровь? Это плохой знак. Как и все, что случилось утром у нас. Мертвый кот лежал у корзины с булочками. Его отравляющее последнее дыхание коснулось хлеба. Во дворе подохли от стужи все воробьи, разбилась солонка и соль рассыпалась по полу, пришло письмо, которое долго лежало в почтовом ящике, и дух мертвого животного коснулся и его. Кровь выступила у вас на пальце из-за судьбоносного письма.
Барбара, конечно же, не рассказала доктору, что долго подглядывала в отверстие замка за его действиями. Но и без этого с него достаточно. Старуха окончательно вывела его из себя. Не Гитлер пришел к власти в Германии, не революция произошла в Берлине, вся суматоха и паника, оказывается, из-за мертвого кота. Он скашивает глаз на шкаф, полный старой красивой фарфоровой посуды, дотошно изучает свое отражение в стекле, высасывает кровь из пальца. Глаза его не отрываются от собственного отражения. Рука его все еще дрожит, когда он берет трубку, чтобы позвонить майору фон Каллу.
* * *
Пятый час после полудня. Доктор Блум только приехал на дремотную заснеженную площадь напротив дома майора фон Калла. Утром, разговаривая по телефону, майор был вежлив и дружелюбен. Когда же он услышал, что доктор Блум хочет с ним встретиться по вопросу родственников семьи Калл из Венгрии, тут же пригласил его приехать к нему в этот же день, выпить с ним и его женой чашку кофе. Более того, было ощущение, что майор рад услышать новости о своих дальних родственниках. Доктор касается ручки ворот черного забора, но не открывает. Пять после полудня – время зимнее, уже наступают сумерки. С неба убегают дневные облака, и бледные тени падают на мерзлую белизну площади. Приближающийся сумрак острее выделяет последние лучи. Глаза доктора словно зачарованы небольшим озером между плакучими ивами, концы ветвей которых, погруженные в воду, замерзли.
Доктор испуган: не хватает одной пуговицы на шубе, и он это лишь сейчас заметил. Но сердит его не столько пуговица, а слова песни, несущиеся из дома в центре площади, ударяют его. Ветер несет через всю замершую площадь эти звуки, сотрясая воздух. Над крышей дома, из которого несется песня, развевается на ветру огромный флаг со свастикой. Песня усиливается. Голоса девушек и юношей поют с большим воодушевлением:
Наш стяг ослепляет, подобно лучу,
Мы в завтра шагаем плечом к плечу.
Свободу и Гитлера мы лелеем,
И жизнь мы за них не пожалеем.
Доктора охватывает сильное волнение, все мышцы его тела окаменели. Студеный ветер сечет лицо, подобно наждаку. Доктор не открывает калитку вовсе не из-за песни. Он уже привык к таким песням. Песни похуже звучат на улицах Германии. Просто эти громкие звуки падают на него, смешиваясь с месивом голосов, включая бубнящий голос Барбары, наводящий смертельный ужас своими предсказаниями.
Доктор Блум изумляется самому себе. Кажется ему, что с момента, как он взял в руки письмо сына, его охватило какое-то безумие. Дом майора Калла прячется в саду, покрытом снегом, между высокими соснами. Все окна прикрыли жалюзи, и только дымовая труба свидетельствует, что в доме люди. Замкнутость дома пробуждает в душе доктора уверенность, что он сможет найти покой в этом доме. Рука сама поворачивает ручку калитки, и он входит внутрь двора.
Симпатичная девушка в белом накрахмаленном фартуке поверх платья, с кудрявыми волосами, на которых приколот кружевной чепец, приветливо открывает дверь в переднюю дома майора Калла. Девушка вся светится гостеприимством. Очевидно, доктора давно ждут. Такой прием действительно может успокоить напряженные нервы доктора. Но именно, при входе в переднюю, сердце его замерло. С единственного кресла на доктора посверкивает зелеными глазами ангорский кот, и доктору кажется, что взгляд животного направлен на место, где не хватает пуговицы на его шубе, и он не может избавиться от боязни, что именно отсутствующая пуговица может его подвести. Он быстро снимает шубу и вешает ее так, чтобы не было видно оторванной пуговицы.
Майор и его жена выглядят, как брат и сестра. Оба седые, высокого роста. У обоих серые глаза с металлическим проблеском. Майор в светлом костюме, жена в шерстяной шали серебряного цвета. Что-то металлическое слышится в голосе майора.
– Имею честь...
Жена торопится пригласить к столу. В ее голосе тоже слышится более тонкий тон металла.
За трапезой доктор замечает, что блеск серебра идет не только от майора и его жены, но и от посуды на столе и вещей, стоящих на буфете, от серебряных рамок картин, развешанных по стенам. Даже пирожные госпожа фон Калл подает в плетеной серебряными нитями корзиночке. У нее холеные руки. Лицо ее ухоженное, спокойное. Лицо майора, несмотря на морщины, выказывает прежнюю красоту. Видно, что воинский режим, привычка командовать и подчиняться командам, установили на лице постоянную улыбку. И хотя майор на пенсии, но военная косточка чувствуется во всех линиях его лица. В комнате тишина. Прошло несколько минуту, но никто не произнес и слова. Только большие настенные часы стучат, и серебряные ложечки помешивают кофе. Доктору кажется, что хозяева тайком изучают его.
– Дорога к нам далека, господин доктор, – выполняя свой долг хозяина, начинает майор беседу.
– Очень тяжело, – улыбается доктор Блум, – когда транспорт бастует.
– Ах, Отец небесный, эта ужасная забастовка! – вздыхает хозяйка.
И снова тишина в комнате. Каллы, кстати, не нацисты, если с таким огорчением вздыхают по поводу нацистской забастовки. Доктор больше не стесняется и протягивает серебряную ложечку за сливками для кофе. Теперь он оглядывает комнату. Чистота и порядок, и много старых и красивых вещей. На картине напротив – одинокий лебедь плывет по синему озеру. В комнате сумрачно, отблеск серебра украшает почтенную старость хозяев. Именно, этого он ожидал в доме майора, желая успокоить таящуюся в душе боязнь. С улыбкой он слушает роняемые изредка хозяевами обычные фразы. Затем все облокачиваются на спинки стульев. Как бы давая знак, что трапеза закончилась. Хозяйка звонит в серебряный колокольчик. Появляется девушка-горничная, чтобы убрать посуду, за ней – кот, отсвечивающий серой серебристой шкуркой и уставивший глаза на доктора, как будто лишь ради него он прокрался в столовую. Доктор испуганно опускает взгляд на свой костюм, не отсутствует ли там тоже пуговица. Все на месте, лишь платок, торчащий из нагрудного кармана не столь бел, как такой же платок у майора. Глаза кота словно бы обвиняют его в этом.
– Вы не любите котов? – спрашивает хозяйка.
– Что вы, я их очень люблю.
Хозяйка улыбается, встает из-за стола и жестом своей красивой руки приглашает мужчин перейти в уютный угол большой гостиной, где на фоне темного красного цвета бархатной длинной портьеры мягко светит лампа на длинной ножке. Четыре глубоких серых кресла стоят вокруг маленького круглого столика, накрытого кружевной скатертью. Все приготовлено для приема гостя. Небольшие серебряные блюдца со сладостями и три бутылки напитков выставлены на столике, посреди которого – толстая книга , переплетенная в черную кожу. На обложке – буквы серебром – «Хроника семейства фон Калл».
Доктор воспринимает наличие книги как добрый знак. Даже кот, который не спускал своих зеленых глаз с доктора, свернулся в кресле и прикрыл глаза.
– Для вас, доктор Блум, – говорит седая госпожа, – я извлекла из сейфа нашу семейную хронику. Думаю, что вас это заинтересует. «Вас» – подчеркнула госпожа, и легкий испуг объял доктор. Обычно хроника заперта в сейфе, и не всегда ее показывают людям. Когда госпожа положила руку на книгу, шерстяной свитер на ней слегка сдвинулся с плеч. На кофточке – серебряный крест. На лице и в глазах печаль. Губы сжаты, и видно, что за ними скрыто страдание. Майор недвижно и молчаливо сидит в кресле. Его замкнутое лицо ничего не говорит о его мыслях и отношении к рассказу доктора.
Госпожа держит руку у шеи, обтянутой свитером. Ноздри узкого носа майора время от времени подрагивают, пальцы рук сжаты, руки лежат на коленях. Пару раз глаза его убегают в скрытом смущении от взгляда доктора в сторону кота, свернувшегося на кресле. Кот дремлет в полной расслабленности. Завывание ветра не прорывается внутрь гостиной через опущенные жалюзи и тяжелые портьеры. Мир снаружи погрузился в безмолвие. В гостиной слышен лишь живой рассказ. Только один раз доктор замолкает на несколько мгновений, когда настенные часы тонко вызванивают время. Взгляд его натыкается на нишу в стене, в нее встроен стенной шкаф со стеклянной дверцей. За стеклом – большая сабля, на стали которой выгравировано – «Не извлекай меня без причины. Без самоуважения не возвращай меня в ножны!» Пока доктор осмысливает сентенцию, майор и жена его обмениваются нервными взглядами. Доктор продолжает прерванный рассказ, и снова выражение внимательного дружелюбия – на их лицах. Рассказ его не прерывают пока он не говорит о том, что Дик Калл хочет познакомиться со своими прусскими родственниками, встретиться с сыновьями майора.
Мгновенно, как при электрическом разряде, меняются их лица. Майор бросает на доктора короткий решительный взгляд. На лице его жены – усталость. Глаза ее с откровенным страхом следят за мужем и возвращаются к доктору с немой просьбой: оставьте нас в покое. Не мучайте нас вашим рассказом. В комнате повисает враждебность, направленная на доктора и его рассказ. Доктор, стараясь не шелохнуться, не отрывает взгляда от лица майора, и тот отвечает замороженным голосом, словно нечистая сила сковала его члены:
– Конечно, наш дом открыт перед молодым американским господином.
Он не упоминает имя Дики, и голос его равнодушен, словно приглашение обращено к какому-то чужаку. Но, несмотря на равнодушие и отчужденность, жена устремляет на него благодарный взгляд.
– Несомненно, – говорит она, и голос ее более сердечен, – мы будем рады принять в нашем доме американского юношу в любое время. – Но сжавшиеся тонкие седые брови, придавшие лицу выражение боли, и бледное лицо майора не говорят об успехе миссии доктора.
– Дики будет весьма приятно получить такое приглашение, – говорит доктор, уверенный, что сумел придать своему лицу выражение добросердечия, чтобы скрыть им изучающий взгляд. – Дики будет невероятно рад встретиться в ближайшее время с вашими сыновьями.
Доктор внезапно чувствует, что нить, которая натянулась между ним и хозяевами дома, может в любой миг оборваться.
– Наши сыновья, – отвечает майор, и в голосе его – решительные нотки, – не живут с нами.
– Они живут в Берлине, – торопится жена ему на помощь, – но мы их видим нечасто. Трудно будет устроить им встречу с американским гостем.
– Трудно, но, может быть, все же возможно, – не успокаивается доктор.
Тонкие пальцы госпожи покраснели, словно на них плеснули вино из прозрачных рюмок. Лицо майора окаменело. Теперь – очередь доктора отступиться. Он человек мягкий, смятение собеседника смущает его самого, и он думает о том, что, может быть, ему пора встать и попрощаться. Ни к чему оставаться в этом серебряном гнезде и требовать, чтобы огорченные хозяева раскрыли сердца случайному гостю. Часы за спиной словно подтверждают его мысли. Проходит полчаса, и майор бросает взгляд на часы и саблю.
– Конечно, доктор Блум, – прокашливается майор, как бы пытаясь самого себя поддержать, – я и супруга моя понимаем, что молодого американского господина скорее интересуем не мы, а наши сыновья. Но, к сожалению, невозможно это сделать. Наш младший сын Гельмут, примерно такого же возраста, как Дики, вот уже скоро восемь лет как сидит в Бранденбургской тюрьме. Он осужден на пятнадцать лет за участие в политическом убийстве.
Майор говорит тихим голосом. Жена не спускает с него встревоженных глаз и, видя легкую дрожь, пробегающую по его лицу, говорит, как бы в его поддержку:
– Но только за участие в убийстве. Во время убийства он не присутствовал. Мой сын не убийца. – Она складывает руки на столе. Ощущение, что обращается она не к мужчинам, сидящим в гостиной, а напрямую к заточенному в Бранденбургском замке сыну.
Трудно выдержать безмолвие в гостиной, и хозяйка прерывает его низким негромким голосом:
– Но мы, я и мой муж, рады будем принять молодого господина. Давно мы ничего не слышали о наших венгерских родственниках и никого из них не видели. Последний раз встречались с ними в 1922. Это была первая семейная встреча после мировой войны. Мой муж и два наших сына участвовали в войне. Отцы и сыновья семейства Калл в Венгрии все воевали. Все ветви семьи Калл, и в Венгрии и в Пруссии, понесли ущерб. Наш сын Гельмут пошел в армию в шестнадцать лет. Он сбежал из дому, и мы не сумели его удержать. Товарищ нашего первенца, Иоахима, взял его в свое подразделение.
– Не подозревайте нас, доктор Блум, – неожиданно прерывает жену майор, – что из-за чересчур воинственной атмосферы наш сын стал таким. Это не так. Хотя я был майором, и все мои предки были военными, но сыновей наших мы не воспитывали в воинском духе.
– Никогда, никогда, – прижимает руки к груди жена, пытаясь продолжить свои слова, то ли в оправдание, то ли просто желая излить душу, – никогда мы не требовали от наших сыновей избрать военную карьеру. Иоахим этого вовсе не хотел. Ему повезло закончить еще до войны университет. Он – физик, серьезный и преуспевающий ученый. Но младший, Гельмут, сбежал из дома, потому что мы возражали против его ухода в армию в шестнадцать лет. За все годы войны он не прислал нам даже небольшой открытки, а после окончания войны он так и не вернулся к нам. Все наши усилия вернуть его были впустую. Он привязался к офицеру, товарищу Иоахима, вместе с ним пошел добровольцем воевать на Балканах. Тогда, в 1922, приехав в Венгрию, мы очень горевали по сыну. Венгерская ветвь семейства Калл тоже вышла из войны с ущербом. Дядя Дики, младший брат его отца, погиб. Мы остановились в доме его деда, человека надменного, владельца усадьбы недалеко от Будапешта. На этой прекрасной усадьбе многие годы устраивались семейные встречи. Усадьбу приобрел основатель семейства, в молодости взбунтовавшийся против своего отца-священника, перешедший в еврейство и поселившийся в Венгрии. Очевидно, доктор, этот бунтовщик привез с собой из Дрездена любовь к земле, к растениям и животным, и построил усадьбу как теплое и приятное семейное гнездо. Семейство Калл во всех поколениях хранило эту усадьбу. Дед Дики там жил последние свои годы. Старик очень страдал. Младший его сын не вернулся с войны, а первенец сменил религию и эмигрировал в Америку, и отец его тоже считал мертвым. Имя первенца запрещено было упоминать в доме, и недостаточно этих бед...
– Я должен тут упомянуть, доктор Блум, что в те годы премьер-министром Венгрии был Хорти, – прервал жену майор, считая, что она недостаточно уделяет внимания таким деталям, как политическое положение тех дней, – это он ввел юридическое положение – нумерус-клаузус.
– Да, да, точно так это было, как объясняет мой муж. Старый господин Калл, дед Дики, представил мне своего внука, двоюродного брата Дики. Парню было семнадцать лет, и он только закончил гимназию. И еще я помню как он шел нам навстречу, когда я прогуливалась со старым господином по аллее. У меня защемило сердце, до того парень был похож на моего младшего сына, только что имя его было – Авраам. Он был высокого роста, светловолосый, со светлыми глазами, узколиц и с узким носом. Ну, вылитый мой сын, но на голове у него была черная ермолка. Он строго придерживался традиций еврейской религии. Я полюбила его с первого взгляда. Дед представил его и сказал, что юноша мечтает стать врачом, но его не принимают ни в один университет в Венгрии. Я тут же решила забрать его в Германию, чтобы дать ему возможность поступить в Берлинский университет. Я знала, что мой муж не будет возражать, и тут же, на той зеленой аллее, пригласила его поехать с нами в Германию, жить у нас. – Неожиданно она прекратила рассказ, руки ее дрожали.
– Конечно, доктор Блум, – нарушил молчание майор, – я не был против приезда юноши. Наоборот, приезд Авраама соответствовали моему желанию. Не буду скрывать: втайне я надеялся, что юноша ворвется в нашу жизнь как ангел-освободитель. Авраам был серьезным и чувствительным юношей. Прямодушие его пленяло сердца. В его обществе я всегда чувствовал, что все добрые качества семейства Калл соединились в нем. В те дни мой сын бесчинствовал с солдафонами. Доктор Блум, быть может, это покажется странным. Я – человек военный. Отец и дед мой были генералами, но наш предок был священником. В семействе Калл во всех поколениях искали скрытую силу во имя спасения человеческих душ от тяжелого воинского духа. Именно, в поисках этой скрытой силы спасения начал один из наших предков писать семейную хронику, лежащую тут перед вами, доктор. Он всегда старался вернуться на путь праотца нашего – священника, который вернет нам и взбунтовавшегося сына и евреев семейства Калл. Именно, в венгерских родственниках он видел эту скрытую исчезнувшую силу, единственную, которая сможет сохранить нас от сурового воинского духа. Мы с женой всегда сохраняли и развивали наши отношения с еврейскими родственниками и отлично чувствовали себя в их среде. И мы надеялись, что Авраам сможет увести нашего сына от солдафонства.
Майор замолк.
– Да, – продолжила жена, – мы очень любили Авраама. Дом наш был пуст до его приезда. Иоахим получил должность инженера-физика у Круппа. Он человек науки, и ничто его не интересует кроме профессии. Он так и не женился, да и нам не уделял внимания. Мы были рады, что Бог дал нам сына. Авраам и в нашем доме соблюдал еврейские обряды. Мы даже отвели ему в кухне угол для того, чтобы он готовил себе еду. Год он жил у нас, и мы к нему очень привязались. В конце 1924 в нашем доме неожиданно, без всякого предупреждения, в зимний день, к вечеру, появился младший наш сын – Гельмут. Мы узнали его с трудом. Сбежал подростком, вернулся мужчиной. Более семи лет я его не видела. Он был в гражданской одежде, с уродливым шрамом на лице, но шел от него запах солдатской формы и пота, как после боя. Когда он протянул не руку, я почувствовала глубокий шрам у него и на ладони. Я обняла его, и в этот момент лицо его не было смущенным, как у блудного сына, вернувшегося в отчий дом. Только тут я поняла, что незнакомый мужчина – это сын мой Гельмут. Совсем немного времени дано мне было счастье общаться с ним без всякого подозрения. Говорили мало, но не отрывали глаз друг от друга. Тут пришел отец вместе с Авраамом. Стол был накрыт к ужину. Мой муж и Авраам только вернулись. Все, что произошло после этого, было настолько неожиданно, что я вообще не знаю, как мы влипли в эту ситуацию. «Гельмут!» – вскрикнул мой муж. «Отец!» – ответил Гельмут, их руки сошлись ладонями в рукопожатии, но взгляд Гельмута не отрывался от Авраама и его черной ермолки на светлых волосах. Ужасными словами разразился наш сын при нас и Аврааме. Мой муж почувствовал долг защитить парня. Крики неслись от отца к сыну и от сына к отцу. А я окаменела, я не могла вмешаться. Пока, в конце концов, Гельмут закричал, что даже одну ночь он не будет находиться под одной крышей с евреем. Авраам, который с побледневшим лицом слушал всю эту перебранку, поднял голову и сказал, что ни минуты не будет находиться в доме, но муж мой не дал ему это сделать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































