Текст книги "Плаха да колокола"
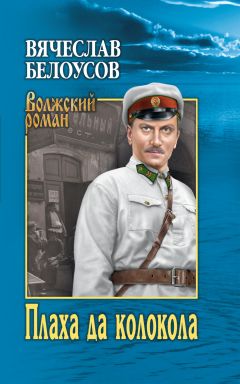
Автор книги: Вячеслав Белоусов
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Одним словом, морщился краевой прокурор, копать следует глубоко; в команду проверяющих был включён даже Отрезков, ему приказано было взять в помощники с собой Козлова с Борисовым, те как раз освободились.
Отрезков, начальник следственного отдела, на Наума косился, считая его выскочкой и за глаза величая: «непришейкногерукав». С Козловым и Борисовым Фринбергу было проще: они в нём не нуждались, сами знали, за что браться в уголовных делах, за советами не лезли.
После трагедии с Арлом Отрезков на следующий же день укатил, так и оставив в производстве Громозадова всё, что касалось губернского суда, правда, набросал тому план дальнейших действий. Остальные материалы в отношении взяток в налоговой службе, в торговом отделе и в других конторах, занимавшихся рыбным промыслом и контактировавших с дельцами-нэпманами, выделил в особое производство и передал Козлову с Борисовым – делите меж собой!
– Но там столько работы! – увидев горы бумаг, схватился за голову Фринберг. – Арёл с Туриным без разбору успели арестовать около десятка человек! Банду раздули! Среди арестованных высокие начальники, видные рыбопромышленники, есть партийные люди! Как я справлюсь?
– Они справятся, – поморщился Отрезков, кивнув на Козлова с Борисовым. – Эти двое разделят пополам ведомства, и каждому останется всего ничего.
Козлов с Борисовым снисходительно ухмыльнулись, особо не возражая, правда, Козлов подметил:
– Думается мне, десятком арестантов по таким двум делам не обойтись, не посадить бы нам в «Белый лебедь» и поболее…
– Объедините тогда оба дела в одно и навалитесь вместе, – отмахнулся Отрезков, который уже с трудом переваривал общество бестолкового Фринберга. – К тому времени Громозадов освободится, возьмёте его на подмогу.
Вроде бы миром и разрешилась ситуация, но после отъезда Отрезкова заспорили Козлов с Борисовым, кому каких чиновников брать. Козлов, загодя проведав у Турина, кто первым начал «колоться»[75]75
«Колоться» (уголов. жаргон) – давать правдивые показания на следствии.
[Закрыть] из арестованных, уцепился за взяточников из налоговой инспекции. Там инспектор Семиков на первом же допросе признался аж в трёх десятках взяточничества. Заискивающе улыбаясь, пожилой, худющий Семиков, бывший учитель географии или истории, и слышать не желал о каком-то вымогательстве; деньги, твердил, ему клиенты сами клали в карманы, не выбрасывать же обратно.
– За что клали, догадывался? – рявкнул на него Козлов.
– А чего отказываться, раз дают? – не смущался тот. – Я и преступлений никаких не совершал, услуги оказывал. У меня же детей куча и все мал мала меньше…
И остальные попались такие же, вроде придурковатых, поглядывали на старшего следователя с обидой, сбиваясь от его крика, лепетали, что семи шкур, как тот соизволил выражаться, никто с нэпманов не драл, у тех деньги для того и припасены, лишь укажи на нарушения.
Один оказался упрямым – Пётр Солдатов, самый башковитый из трёх братьев. Всё отрицал. Как ни мучился с ним Козлов, нужного не вытянул. Старший из братьев, славившийся своими промыслами на всей Волге, гордо твердил одно:
– С моими объёмами вылова да с моими доходами стыдно обременять достопочтенных государственных людей какими-либо просьбами о поблажках, не то чтобы деньгами их марать.
Но Козлов не унывал и досады не выказывал дельцу; если признались те, кто брал взятки, посмеивался он, никуда не денутся те, кто их давал.
И действительно: за Семиковым, как один, подняли руки и покрепче аппаратчики, заговорили даже такие, как зам зава Авдеев, старший инспектор Стругало да Яковлев Тимоха – губернский ревизор; Козлову вскоре сдался и сам начальник финансового отдела Адамов Анатолий Антонович, три последних года председательствовавший в губернской налоговой комиссии, а ведь она была окончательной инстанцией при разрешении жалоб налогоплательщиков.
Сложности обнаружились у Борисова, которому достались сотрудники губернского отдела торговли, совсем недавно возглавляемые Алексеем Попковым, сумевшим перебраться до возбуждения уголовного дела в краевой торговый отдел. Он и его преемник Валентин Дьяконов категорически отрицали всё с самого начала, хотя и уличали их показаниями не только нэпманы-взяткодатели, но и некоторые свои, дрогнувшие подчинённые. Интеллигент Борисов, по собственным заверениям, не любивший марать кулаки, испробовал весь набор хитроумных методов логических убеждений, психологического воздействия, даже выводил арестованного Дьяконова поглазеть на собственный дворец-усадьбу, как по мановению волшебной палочки выросшую менее чем за год, однако «невинная овечка» божилась, твердя своё: выстроен дом на трудовые сбережения, доставшиеся ещё от родителей, и приданое жены. До Попкова добраться оказалось совсем невозможно; преобразившись в недосягаемого высокого чинушу, тот стал почти неприкосновенным, вечно занятый, большую часть служебного времени проводя в столице. Делал ли это специально, оставалось неведомым.
Опытен был Борисов, нашёл бы возможность все эти крепости взломать и разоблачить именитых взяточников, но водилась за ним и мешала нелестная слава чистюли. То, что мордобоя чурался, не главное – большого достоинства и тщеславия был этот профессионал, жаждал светлой своей головой, в белых перчатках сломать противника, одержать над ним рыцарскую победу, поэтому не использовал в своей работе ни «прослушку», ни «топнутов», ни «подсадных уток»[76]76
Оперативные методы для работы с подозреваемыми, кстати разрешённые процессуальными законами.
[Закрыть]. В особенности поражало многих то, что и с сотрудниками ОГПУ, имевшими гораздо больше возможностей изобличить преступника, нежели следователь-одиночка, Борисов не водил дружбы. Так ли это было на самом деле или пущенная кем-то легенда витала над головой этого человека, никто доподлинно не разумел.
На деле же обстояло всё следующим образом: с Туриным, не объяснив причин, Борисов встретиться не пожелал, вопреки своему коллеге Козлову, однако все агентурные дела на арестованных и других подозреваемых запросил и тщательно перечитал. С вновь назначенным вместо Трубкина начальником ОГПУ Кастровым-Ширмановичем почти сразу же поссорился. «А из-за чего?.. Из-за сущего пустяка – обыкновенных кроватей!» – ухмылялся его коллега Козлов и по большому секрету рассказывал такую историю.
Борисову удалось расположить к себе опытного нэпмана Блоха, за ним начал признаваться посерьёзнее рыбный делец Кантер, арестованные оба по подозрению в даче взяток Дьяконову. Кантер и обсказал всё и покаялся уже, но в ответ попросил о малости – приостановить бесчинства, чинившиеся его семье злопамятным уполномоченным ГПУ Лисенко, проводившим ранее дознание и ничего не добившимся угрозами да насилием. Когда же дело Кантера принял Борисов и тот вдруг начал давать показания, взбешённый Лисенко с подчинёнными ночью ворвался в дом нэпмана, разбулгачил жену, малолетних детишек и, сбросив всех на пол, вывез из дома кровати, якобы представлявшие ценность, поэтому изымаемые для погашения вреда. Ценность кровати, конечно, не представляли, плевался Козлов, рассказывая, сделано было это уполномоченным в отместку прибывшему снимать сливки чужаку, лишь только Лисенко прослышал про первые серьёзные успехи Борисова.
Кантер с укоризной и слезами в глазах упрекнул не подозревавшего ничего следователя, что такими действиями тот убивает в нём всякое желание сотрудничать и признаваться. И был прав. Естественно, Борисов побежал с жалобой к Кастрову-Ширмановичу, но случившееся уже стало достоянием всех заключённых, и среди них поползла змеиная молва, что авторитет Борисова придуман, для работников ГПУ он силы не представляет, стоит им сознаться, как у арестантов начнутся неприятности похуже.
Так изобразил ситуацию Козлов, а врать он не любил без особой надобности. Борисов, конечно, пошёл дальше, так как обещавший уволить Лисенко Кастров-Ширманович попросту перевёл уполномоченного в дежурные, и тот по-прежнему вредил старшему следователю, как только мог. Борисов обратился с жалобой к краевому прокурору Берздину, известному своими связями с самим Ягодой. Кровати тут же были возвращены, Лисенко пропал с глаз долой, сам Кастров-Ширманович предложил Борисову тесное сотрудничество, каясь повинной головой, что иначе придётся ему паковать чемоданы.
Перемирие вроде бы состоялось, во всяком случае Борисов переехал в ту же гостиницу, где жил сам начальник ОГПУ. Но что Кастров-Ширманович?.. Он лишь чиновник своего уровня; в ходе следствия Борисов наткнулся на другого ушлого уполномоченного, только по фамилии Афанасьев, и скрытая война разгорелась с пущей страстью.
Афанасьев бесчинствовал, не зная предела; он пьянствовал с преступниками, подозреваемыми в различных махинациях, покрывал нэпманов и прекращал за взятки дела, заводимые на них другими сотрудниками. Нагло, в открытую крутил с проститутками в кругу тех же нэпманов на их деньги. Установив всё это следственным путём, Борисов уже не стал тревожить Кастрова-Ширмановича. Понимая бесполезность таких мер, он направил все выделенные в особое производство материалы на поганца в вышестоящее ГПУ, приложив собственноручно составленное постановление о привлечении Афанасьева к уголовной ответственности за все его художества; однако постановление до нужного адресата не дошло, неизвестно кем изъято из материалов, а проверку поручено было проводить тому же Лисенко, но оказавшемуся уже в кресле повыше. Естественно, Афанасьев был оправдан.
Преступник возвратился назад, занялся прежними делишками, и стоит ли подсчитывать, сколько времени и новых усилий понадобилось Борисову, чтобы всё же восстановить справедливость, прежде чем Афанасьев понёс заслуженное наказание!
Появлялось ли желание лезть в эту драку, влиять на порочную ситуацию у Наума Фринберга, ведь он не пешкой оставлен был в этом городе грозным Берздиным? При всей убогости юридических знаний и опыта правильного совета старшему следователю Борисову дать он не мог, смелое решение принять боялся, опасался и жаловаться наверх, чуя, что кара падёт прежде всего на его голову: Берздин жаждал первой его ошибки после трагедии с Арлом. Создавалось такое впечатление, что Фринберг глубоко проникся заключительными словами уехавшего Отрезкова: «Эти двое справятся!» – и надежды на лучшее связывал лишь с Борисовым и Козловым. Исполняющий обязанности губернского прокурора постепенно удалился от исполнения своих прямых обязанностей, скоро он потерял власть не только над подчинёнными ему следователями, но утратил контроль и над когда-то покладистым Громозадовым, совершенно не вникая в то, чем тот занимается. Подчинялась и слушалась его одна Сисилия Карловна, которая всегда исправно подавала чай с сухариками утром, к обеду и вечером, следила за состоянием его здоровья, вовремя сообщала о конце рабочего дня. Кроме того, вскоре она подыскала исполняющему обязанности губпрокурора подходящую жилплощадь, предоставив светленькую уютную комнатку в доме, где проживала с престарелой матерью и младшей сестрой, собирающейся выйти замуж и перебраться к мужу. Для Наума Фринберга как-то сразу после переезда к Сисилии Карловне прежние тревоги потеряли былую актуальность, домашний уют, постоянные заботы Сисилии Карловны, а главное, её игривые глаза развеяли всё; вместе они по случаю какого-то праздника однажды были приглашены в семейство добряка Сергиенко, заместителя председателя губисполкома. И прекрасно провели время. Хохол Сергиенко много смеялся и шутил, стараясь развеять угрюмость и замкнутость Наума, советовал ему больше интересоваться историей города, познавать людей; знания, покрикивал он, откроют глаза на многое непонятное в этом восточном древнем ауле, облагородят душу и непременно изменят настроение.
Вернувшись к себе, Наум полазил по редким книжным полкам Сисилии Карловны, ничего интересного не нашёл и забыл затею, но однажды в ненастный вечер, когда загрустила, особенно затосковала душа, наткнулся в потрёпанном журнале на странную статью. Лёг на кровать, от безделья полистал, полистал и не заметил, как заснул. С тех пор, казалось, он обрёл панацею от всех тяжких забот.
Журнал оказался толстым, литературным, что Наума никогда не привлекало. Но другого ничего не нашлось и Фринберг, мучаясь, поглощал страницу за страницей, пока сон не брал своё. Так у него развился особый интерес: на какой странице заснёт он в очередной раз, как быстро сморит сонная нега, как?..
Журнал был в его руках, он принялся читать, но вдруг отложил потрепанный раритет. Слова, только что прочитанные, взбудоражили сознание. Он даже вскочил с кровати. Уронил на пол журнал. Стал подымать его судорожно, поднёс к глазам. Буквы плясали: «Астрахань тягостна. Астрахань безнадёжна. Она лежит, как раскалённый жёлтый камень…» «Что это? – подумал он. – Как точно поймал автор мои вечные мысли, вечную тревогу за будущее! Как!..»
Он лихорадочно растрепал листы, пытаясь найти название журнала, потом искал начало очерка, конец его, фамилию автора, но не удавалось – журнал был сильно повреждён, многие листы вырваны. Он отчаялся и вернулся к тому, с чего начал.
«…Солнце жжёт, и город, состоящий из непросыхающей грязи, низких домов без лица и без возраста, из камня и печали, пыли и зловония, развалин и пустырей, с трудом переводит дыхание, – глотал Наум жёсткие, пугающие слова и опускался без сил на колени, пока совсем не очутился на полу, прижавшись к кровати, чтобы не свалиться. – Только ночью начинается жизнь. Лица, изнурённые лихорадкой и дневным жаром, так странно бледны… светится освещённый изнутри большой стеклянный гроб, до краёв полный цветами…»[77]77
Текст из очерка Л. Рейснер «Астрахань».
[Закрыть]
Его забил непонятный страх, но, странное дело, он ничего не мог с собой поделать. Спасло, что в дверь мягко постучали.
– Наум Иосифович? – заглянула Сисилия Карловна в лёгком халатике, ахнула и бросилась его подымать. – Что с вами? Вы так бледны!
– Не надо. Я сам, – пытался подняться он, отбросив журнал, но не хватило сил.
– Помогите! – крикнула хозяйка; в приоткрытую дверь вошёл нежданно-негаданно Турин, одним движением подхватил прокурора и усадил на кровать:
– Плохо? Обморок?
– В мозгах какая-то путаница, – пожаловался Наум, не отрывая рук от головы. – Чертовщина! Гроб… цветы… журнал этот дьявольщиной напичкан! Будь он неладен!
– Перетомились за день да ещё взяли в руки эту чертовщину, – нахмурился Турин, приметив дряхлые обрывки его чтива.
– К чёрту всё! – Наум пнул журнал ногой. – Сергиенко надоумил. Какое-то колдовское наваждение, право… Вы ко мне?
– Может, я утром в прокуратуру зайду? – сомневаясь, спросил Турин. – У меня новости тоже не ахти.
– Конечно, конечно, – стала подталкивать Сисилия Карловна Турина к двери. – Вы же видите его состояние!
– Ничего! – встрепенулся, как петушок, Фринберг, его заметно ободрило появление Турина. – Говорите. Что случилось?
– Да что говорить… – Турин уже был у порога, – действительно, до утра подождёт.
– Говорите, раз пришли! – вздёрнул подбородок Фринберг, как непослушный мальчишка, и очки слетели с его длинного носа.
– Джанерти заболел… – нерешительно начал Турин.
– Да, да, – не видя ничего, Фринберг шарил по полу руками. – Он предупредил меня, что завтра не выйдет на работу.
– Заболел, – продолжал Турин, с какой-то тоской и любопытством наблюдая за неудачными попытками Наума отыскать очки. – К нему домой медик прибежал из бюро экспертиз, разгильдяй. Завалялся у него акт о вскрытии трупа Губина, умершего несколько дней назад в тюрьме. Вот его обнаружив, и рванул к Джанерти прямо из морга.
– Из морга! – схватился за кровать Фринберг и побледнел опять.
– Да не волнуйтесь вы, ради бога! – замахал руками Турин, запереживав и сам. – Взгреть, конечно, надо как следует этого Бульдогина! Шалопай, а не эксперт! Забыть про такое?! Но теперь-то чего людей булгачить? Какой толк? Новость со старым хвостом… Губин-то когда отравился… и я закрутился с Козловым.
– Я не в курсе? Что за Губин?
– Это случилось перед приездом вашей комиссии.
– А в чём же дело?
– Оказывается, не своей смертью умер Губин, а отравлен был. Подозрения и ранее имелись. Докопался об этом Бульдогин, но с большим опозданием; к Джанерти прибежал оправдываться, что, мол, затянул с заключением, пытаясь определить вид яда. Но, увы… Джанерти же сам в постели мучается, приболев, однако до меня дозвонился… теперь вот ещё гадает: кто лишил его возможности допросить Губина? А ведь тот мог открыть глаза на многое в убийстве Брауха.
Турин поморщился, нагнулся в угол, подал Науму завалившиеся очки, покачал головой с досадой:
– Несмотря на поздний час, попросил он меня к вам зайти, доложить немедленно. Сам-то встать не может. С температурой.
– Срочно зайдите ко мне по этому вопросу завтра, – водрузив очки на нос, ожил Фринберг и притопнул ножкой. – Утром! Обязательно утром!
– Теперь срочно или мигом – один хрен… – двинулся за порог Турин. – Проворонили момент.
IV
Когда был оглашён приговор, адвокат Кобылко-Сребрянский, блистая морщинистой лысиной и стерев платком пот, катившийся по изрытой жирными угрями красной физиономии, кое-как вытиснул обширный живот из-под крышки столика, перевёл дух с облегчением и, задиристо подскочив, прокричал с петушиным задором, что будет подана жалоба. Однако закончить начатую реплику не успел, запнулся и резко сел, будто ему подрубили ноги. Трое судей сделали вид, что ничего не слышали, ушастый председатель Пострейтер не оторвался от очков, лениво наводя на стёклах чистоту, прокурор Гуров что-то писал или рисовал в блокноте, чем занимался почти весь процесс, и лишь общественный обвинитель от завода имени III Интернационала Гурьев зорко стрельнул глазками по залу, поискал, порыскал смельчака, крутя лохматой головой, но адвокат уже прирос к столику всей грудью, прихваченный кем-то сзади.
Потом за кружкой пива с дружком-коллегой он делано обижался, что дёрнул его за пиджак, высунув лапу из клетки, сам Глазкин да ещё засверкал на него глазищами так, что у него язык отнялся, садись, мол, нечего злить народ. А народ действительно словно с ума все посходили, лишь меру наказания прослушали, орут, тычут транспаранты и плакаты, чуть на трибуну не лезут, а на плакатах жуть читать: «Смерть продажным судьям! Председателя Глазкина расстрелять!» – да похлеще ругательства и проклятия.
– А Глазкин мне шепотком-то, шепотком, – оторвал губы от кружки Кобылко-Сребрянский, – червонцем отделался, считай, дело выиграно, своё получил.
– И он прав, Модест Петрович, – выуживая нос из пивной пены, соглашался запьяневший коллега-дружок, адвокат Звонарёв-Сыч. – Мой подзащитный Френкель гусь тот ещё, взятки драл, паразит, не пропуская ни одного клиента, а, извиняюсь, баб!.. Баб скольких поимел на той же ниве, шельма!.. Подумать только, уборщицей семидесятилетней и той не побрезговал!
– Слышал я про твоего шалуна и не то, – ухмыльнулся Кобылко-Сребрянский, – девиз над своим столом смастерил, чертяка: «Не пропущать и мухи, ежели ещё шевелится!»
– Брешут!
– Брешут, конечно.
И оба расхохотались.
– А ведь старушенция – иуда, нет чтобы посчитать за праздник, его же и сдала! – стихая, напомнил Звонарёв-Сыч. – Как она его драконила на скамье подсудимых! Считай, всё дело повернула с вашего Глазкина на старого ловеласа, а?.. Разбудила судей, которые засыпать начали. Какова каналья!
– Да, да. Забавная особа.
– Не будь охраны, последние волосы с его плешки повыдёргивала бы!..
– Ну ты ещё скажи – гуси спасли Рим.
Они ещё посмеялись. Звонарёв-Сыч полуобнял старшего коллегу, насколько позволила рука, поцеловал бы в щёчку, но не дотянулся.
– И всё же с задачей мы справились. Победа бесспорна! Моему, правда, тоже червонец отмерили да пять по рогам…[78]78
Присудили 10 лет лишения свободы с поражением в правах на 5 лет (уголов. жаргон).
[Закрыть]
– Недоволен?
– Ну, Модестушка, дорогой мой учитель, твой всё-таки председателем губсуда значился. Всем заправлял, всеми командовал. Про него свои же судьи трепались: и указания давал, какое делишко похерить, начальника какого из дерьма вытянуть… Лизали ему ножки судьи, никуда не попрёшь.
– Вот воспитал я себе преемника! – грохнул по столу кружкой Кобылко-Сребрянский. – Вот очакушил ты меня, молодец, так очакушил! Не ожидал сей благодарности.
– Так это ж конкретное дело, Модест Петрович! – расплылся в любезностях его младший товарищ. – Я ж это вроде для разборки ситуации. А так я вам век благодарен! На вас, можно сказать, как на икону молюсь. В каждом судебном процессе каждое ваше слово ловлю, записываю в книжечку специальную, чтоб не забыть.
– Вот сукин сын! – покачивал лысой головой тот, ещё не остыв и отхлёбывая из кружки. – Вижу, как ты мне благодарен, пивом поганым поишь, вместо того чтоб коньячку поднести или водочки. С клиента своего, еврея, мало содрал?
– Да я… да вы… – совсем смутился оплошавший ученик.
– Так ты моего Пашку Глазкина председателем смел назвать?! При мне, который, ты знаешь, до сей адвокатской каторги два десятка лет настоящим председателем суда оттрубил? Какой, к чёрту, он председатель?! Забулдыга и бабник! Сам же, дурак, признавался. Помнишь, что он Пострейтеру отвечал про себя?
– Как же! Конечно.
– Ничего ты не помнишь! – снова грохнул по столу кружкой товарищ. – Сначала козырять вздумал балбес: «Бывший член партии, отец из кузнецов, сам пролетарского происхождения…» Да кому это нужно? Кого разжалобить хотел? Пострейтера, зубастую акулу, который таких, как он, в своей практике видал-перевидал. Даже тот гадёныш с завода, как его?..
– Общественный обвинитель Гурьев, – подсказал ученик.
– Обозлил и против себя его настроил. Бестолочь! Вот кто мне в подзащитные попался! В растрате признался, на водку стал валить да на новую невесту свою, умницу. Она – золотце, светлая голова! Она ему, подлецу, конечно, этого не простит. Бросит его, и правильно сделает. Она ведь столько деньжат на него угробила и своих, и отца! Да что ей деньги!.. Она с местным актёришкой Задовым два или три раза в столицу моталась к дружку их общему – важному человеку в самом Кремле. Тот в этом городишке губернским комитетом большевиков командовал.
– Важная птица! – охнул ученик.
– А я что говорю! – отхлебнул пива учитель, прополоскал подсохшее горло. – Только тот секретарь бывший, став большой шишкой в Москве, наклал на них обоих, и на актёра, и на Глазкина, выгнав Задова, наказал носа больше не совать, чтобы репутацию ему не подмочил.
– Кем же он там в Кремле?
– А тебе зачем?
– Ну…
– Вот и не нукай. Мы для них – грязь под ногами.
– Извини, Модест Петрович, – видя, как разговорился учитель, как покраснели его глаза, младший заёрзал на стуле. – Может, закажу я ещё по кружечке?
– Закажи… чего ж… – всё хмурился тот, не остывая. – Мой клиент много корчил из себя, как я его ни уговаривал… Дурак! Могли бы и на меньший срок надеяться…
– Неужто?
– Сомневаешься?
– Я, право…
Принесли свежую порцию пива.
– Вот и помалкивай, звонарь! – отпил из новой кружки Кобылко-Сребрянский. – Гонорар я полностью с его невесты ухватил. Знаю этих дамочек, влюблённых по уши до поры до времени, а рак на горе свистнет, они в обратную сторону. Круто разворачивают. После того как на суде Глазкин ей в душу наплевал, я копейки больше не получил… А ведь обещала, если срок удастся снизить…
– Да и так ухватили куш вроде ничего…
– Это для тебя ничего, а по моей мерке!..
– Это понятно, – смутился ученик и забеспокоился: – Я со своего тоже всё заранее оттянул, теперь вот премиальные с брата бы этого Френкеля сдырбанить.
– Сдырбань, сдырбань! – взыграл опять старший его коллега. – Ты, Аркашка, как был мелким карманником когда-то, так ничему у меня толком и не научился. Словечки воровские свои и те не забыл, так и вставляешь от случая к случаю. Велел я тебе Цицерона да Плеваку читать?
– Ну, велели…
– А ты?
– А-а-а, – махнул тот рукой, – одна мутота.
– Вот твоё нутро! Ничем его не выскребешь!
– Тише, тише, Модест Петрович, – забеспокоился Звонарёв-Сыч и оглянулся. – Угомонитесь. Не одни мы здесь.
– Что – тише? Дурак ты, Аркашка! – сменил Модест тон, но не успокоился.
На шум подбежал официант «Богемы», где они засиделись, скромно отмечая успех дела. Уставился, пригнувшись.
– Чего тебе? – буркнул на него Кобылко-Сребрянский.
– Звали-с?
– Иди! – погнал он его.
– Учусь, учусь, – будто не слышал обидных упрёков, пододвинулся к старшему товарищу Звонарёв-Сыч. – Набираюсь ума-разума, но ты понимать должен, Модестушка, нелёгкое это занятие.
– Не тяжелей того, чем ты в молодости занимался, – зло отбрил учитель. – Одна разница – в наименовании профессий, а средства и цель те же – объегорить клиента да очистить его карманы, голову задурив.
– Это вы про себя так?
– Юродствуй, сатана! Не обижусь. И я далеко от тебя не ушёл, как с мантией судьи расстался, – допивая кружку, мотнул тот головой, а в глазах стыла тоска, да и хмель начал одолевать сознание. – Не выиграли бы мы дело, если б не подсуетился я, не подмазал кого следовало…
Звонарёв-Сыч пугливо оглянулся.
– Ну? Чего замолчал? Ни за что бы не выиграли!
Две их персоны в строгих столичных одеждах заметно выделялись среди прочей пёстрой публики. На них давно поглядывали, некоторые даже тыча пальцами, откровенно перешёптываясь. На судебном процессе народа перебывало много, их узнавали.
Подскочил снова официант, но уже другой, понахальнее:
– Чего изволите-с, господа-товарищи? Может, покрепче что? Или свеженького пивка ещё по кружечке? У нас селёдочка, севрюжка холодная в малосоле?..
– От вашей селёдки я весь провонял, – сердито хмыкнул Звонарёв-Сыч. – Вернусь в Москву, Дарья Ивановна дверь не откроет, погонит назад муженька выветриваться.
– Нет уж, дружок мой закадычный, – прихлопнул его по плечу старший товарищ, а официанту подмигнул, поманив: – Принеси-ка, голубчик, на этот вот стол графинчик сполна! Что-то душа моя запросила, затосковала. И севрюжку тащи, да поболее. Только картошечки горячей к ней не забудь, чтоб парок над ней подымался. Понял меня?
– Может, пора нам в гостиницу? – забеспокоился сразу Звонарёв-Сыч, заёрзал на стуле. – Поздно уже, Модест Петрович. Засиделись мы, а у меня билет на завтра заказан. Вроде договаривались уезжать?..
– Кто договаривался? Врёшь, Аркашка! И не трясись! – строго осадил его товарищ. – Сегодня я расплачиваюсь, бес с тобой. Сейчас у нас серьёзный разговор только начнётся. Много я тебе хотел сказать, да всё не о том трепались.
– Что такое? – встрепенулся ученик, ещё тревожнее в учителя всмотрелся.
Товарища своего он изучил вдоль и поперёк; горазд был тот на всякие причуды, велеречив и высокого о себе мнения; кроме всего прочего, поволочиться за приглянувшейся юбчонкой был готов, все дела забросив, или запить на неделю-две, если удачу явную проморгал в судебном процессе…
– Не едем мы никуда из этого гадюшника! – брякнул учитель и выставил на ученика оба немигающих чёрных глаза, словно заклиная. – От билета откажись, если заказан.
– Нет! Как же так? А Дарья Ивановна? Я и телеграмму дал!
– Не говорил я тебе до поры до времени про договорчик, что заключил ещё в столице с одной дамочкой. А гонорар большой, обоим нам за глаза и сверху!
Ученик явно не слушал, он обмяк за столом в полном расстройстве. Наконец рот его полуоткрылся, и он с трудом залепетал:
– А я сижу, догадываюсь… как в воду глядел. То-то ночью плохо спал, сон приснился… Будто юбка тебя поманила, Модестушка! – всплеснул руками, схватился за голову, только не плача, так велика была боль в его глазах. – Не выбраться теперь нам отсюда!
– Не психуй, дурак! – пристукнул кулаком по столу старший. – Не понял ты ничего, Аркашка! Я в полном разумении. Разлей-ка нам по рюмашкам и слушай внимательно, что скажу.
Подлетел, будто ждал команды, официант, расставил принесённое на стол и, уши навострив, снова застыл в ожидании, но Кобылко-Сребрянский погнал его от стола.
– И где глаза мои были? – ругал себя и причитал Звонарёв-Сыч. – И о чём думал? Вроде и выпили всего ничего, а когда развезло тебя, не уследил. Быть беде…
– Молчи и слушай! – прикрикнул тот строже и опрокинул водку в необъятный рот. – Большое дело намечается здесь к рассмотрению. Такого масштаба, что попадём мы с тобой в герои великие, даже его и не выиграв.
– Загадками говоришь, Модестушка, – покачивал головой, словно больной, его товарищ, недоверие не покидало его. – Ни о каком деле я слыхом не слыхивал, хотя, лишь приехал сюда, в канцелярии всё разнюхал, со всеми перезнакомился.
– Не там нюхал, дурачок. Секретное то дело, да и нет его ещё в суде. В прокуратуре оно с обвинительным заключением. Обсуждается начальством.
– Ну?.. Чего ж за него балакать, раз оно и не назначено.
– А то, что собираются на это дело, как мухи на мёд, наши московские засранцы! Слыхал про Оцупа да Комодова? Гришку Аствацурова не забыл? Все эти асы столичных адвокатур сюда слетаются. Наняли их уже жёны да родственники будущих подсудимых. А подсудимые – не простые люди. На высоких должностях сидели. Рыбным делом правили-вертели, куда хотели. Вот на взятках все и погорели. Гнойником великим назвал это дело сам товарищ Сталин!
– Да что ты говоришь, Модестушка?! Сам!.. Сам Иосиф Виссарионович прослышал!
– Слушай и внимай, Аркашка! Мой клиент, дамочка та, она оказалась женой попавшегося рыбопромышленника, такое мне рассказала, что ой-ой-ой! – Опорожнил вторую рюмку тот. – Сказывает, послал Сталин сюда своего писаку, известного журналиста Мишку Кольцова репортажи с процесса писать. Московские издательства публиковать будут. Тут такой шум подымется! На всю страну прогремим! А кроме того, авторитет себе скуём.
– Заработать бы удалось…
– Дурачок! О чём думаешь? Деньги на голову сами валятся. Я уже свой куш отхватил с той дамочки.
– Со мной-то как, Модест Петрович?
– Сколько подсудимых намедни в рулетку с судьбой играло?
– Что?
– Сколько в нашем деле их было?
– Двадцать два голубчика.
– А по тому делу в шесть раз больше уже арестовано. Их в «Белом лебеде» набито больше той вонючей селёдки, которую ты за всё время здесь с пивом съел.
– Не может быть?!
– От нэпманши, что договор со мной заключила, деньгами за версту прёт! Не зря все они за столичными адвокатами кинулись. Местным веры нет. Так что и твоя помощь понадобится. Возьмём на двоих ещё человек пять-шесть, у них же интересы разные – препонов для защиты по закону никаких.
– Как я вам благодарен, Модест Петрович! – поднял и свою рюмку Звонарёв-Сыч, не сводя умилённых глаз с благодетеля. – Только вот закавыка, сколько же нам жить здесь придётся, процесса дожидаючи? Спустим всё заработанное…
– Я без дела сидеть не собираюсь. И тебе не позволю, – протянул учитель своему ученику газетку. – Прочитай-ка на последнем листе объявление.
Тот схватил листок. «Коммунист» – гласило название. Далее большими буквами следовало:
Приговор по делу бывших судебных работников
После длительного совещания, продолжавшегося почти около суток, Выездная сессия Нижне-Волжского краевого суда под председательством тов. Пострейтера, вынесла приговор…
– Ты не с той стороны начал. Вишь, как быстро строчат писаки, – отобрал газету из рук растерявшегося приятеля Кобылко-Сребрянский, перевернул листок и сунул другой стороной: – Вот здесь глянь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































