Текст книги "Плаха да колокола"
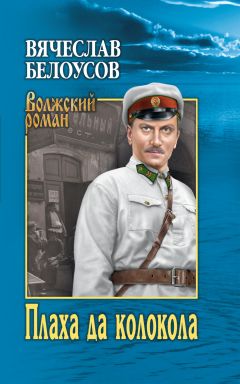
Автор книги: Вячеслав Белоусов
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
– Это не суд, Паш? – дрожа всё сильней, прижалась Татьяна к мужу, и глаза её совсем округлились от страха.
– Не суд, Тань. Это дурачки какие-то! Скаженные! Кто их пустил?
– Скаженные! Скаженные! – закричала она, тыча на прыгающих мужиков. – Вон! Вон, нечистая сила!
– Это придурок Усков с бондарного завода! – засвистел кто-то из зала. – Долой! В шею!
– Это смерть, Паша! – вдруг тихо произнесла Татьяна и, ойкнув, схватилась за низ живота, стала сползать с кресла на пол, в лице ни кровинки.
– Да что ты, Танюша? Что с тобой?! – рванулся к ней Павел, поднял на руки и заметался, не зная, куда бежать.
– Спаси меня, милый, – шептала она, – умираю…
– На воздух её тащи! – подтолкнул Павла к выходу кто-то. – На воздухе легче станет! И медики там на «скорой помощи».
Расталкивая любопытных, Павел бросился к выходу.
– Третья в обморок падает! – орали сзади. – Подохнем все в духоте! Требовали же вентиляцию наладить!
– Беременная она! – кричал Барышев с балкона, видевший всё это, он тоже рванулся вниз, но пока продрался, плутая по этажам, никакой «скорой помощи» и следа не было у подъезда.
– Родня, что ли? Увезли их, – посочувствовал кто-то.
– В роддом. Она за живот хваталась, – подсказал другой.
– Ну попадись мне этот чёртов Усков, я ему кишки пущу здесь же, – ругался Барышев, закуривая.
Милиционеры подхватили его под мышки, поволокли за угол, и спокойствие было восстановлено…
Через несколько часов в Зимнем театре председатель судебного заседания закончил оглашать приговор. Разобравшись, отпустили к этому времени и Барышева, тут и толпа повалила из театра. Барышев, расспросив про роддом, понёсся что было духу на Красную набережную. С моста сбежал, как учили, враз увидел Павла, согнувшегося на ступеньках здания. Охнул, закурил папироску и, уже не спеша, тяжело передвигая ноги, приблизился.
– Ну что? – присел рядышком.
– Дай закурить.
Барышев поднёс горящую спичку, не спуская глаз с его мокрого от слёз лица.
– Как там Татьяна?
– А я знаю?.. Меня выгнали, как привезли… её унесли. Кричала она, дядя Степан, ох как кричала!.. – И Павел, не сдерживаясь больше, зарыдал, ткнувшись головой в его колени.
Перед рассветом выглянула в дверь медсестра, старушка:
– Сидите ещё, мужики?
– Да уж искурили все, – ответил Барышев, Павел боялся двинуться, не то чтобы спросить.
– Ты отец?
– Отец рядом, я родственник.
– Ранёхонько заспешил на белый свет твой детёныш, папаша, – подошла старушка к Павлу, погладила его волосы, всплакнула. – Не захотел жить в этом мире.
Павел, дёрнувшийся ей навстречу, зашатался и упал бы, не подхвати его Барышев.
– А мать, мать жива?
– Татьяна Андреевна в тяжёлом состоянии, но жить будет, у нас доктора умелые, чудеса творят. – И дверь захлопнулась. – Шли бы, сынки, домой.
– Вон они, ваши чудеса, – рванулся к двери Павел и забарабанил кулаками. – Отдавайте мне сына!
– В своём уме, папаша, – не открывая, ответили ему. – Моли Бога, что мать спасли.
– Крепись, Павел, – обнял его Барышев, утирая слёзы с глаз, оторвал силком от двери, увлёк за собой с лестницы. – Вы оба молодые, крепкие. Наражает тебе Татьяна кучу ребятишек, и Славок, и Сашек… Береги только её от таких вот судов.
– Боялась она туда идти! – стонал Павел. – Чувствовала плохое…
– Успокойся, сынок, – поддерживал его Барышев. – Мне тоже несладко. Я ж её в этот город привёз, с меня тоже родительский спрос будет. А что отвечать?..
– Не хотела она идти… Это я во всём виноват! – твердил, не переставая, Павел.
– Да в чём же твоя вина, голова дубовая! – успокаивал его Барышев. – Тут вон забегаловка имеется. И народ, смотрю, уже крутится. Пойдём, помянем твоего сынка да пожелаем выздоровления Татьяне.
Они завернули в светящееся с ночи шумное заведение, нашли свободный столик, Барышев спросил подбежавшего молодца:
– По мерзавчику[121]121
Мерзавчик – небольшая бутылка водки объемом 100 граммов.
[Закрыть], наверное, мало будет?
Тот учтиво помалкивал.
– Неси по чекушке[122]122
Чекушка – небольшая бутылка водки объемом 250 граммов.
[Закрыть], только в графин не разливай. Стаканы неси, – погрозил пальцем. – Ну и огурчиков солёных с пяток.
Они помянули мальца, мёртвым родившегося, выпили за мать, чтоб быстрее на ноги встала да народила здоровеньких… кончились их четвертинки, взяли они уже и полную, а затем заказали и графин.
– Не любила она суд… – время от времени повторял Павел, склонив голову на стол.
– Вот тебе и суд, – поддакивал Барышев, хрустя огурцом. – А ты говоришь, Слава… Четырнадцать главных к расстрелу приговорили, остальных к неволе на разные сроки от десяти и по рогам[123]123
Присудили по рогам (жаргон) – поражение в политических и гражданских правах.
[Закрыть].
И они выпили, не чокаясь:
– Вечный покой…
XIV
Если инструктору Филову подфартило – по поручению секретаря Нижневолжского обкома партии Шеболдаева, он успешно справился с обязанностями общественного обвинителя на процессе и в курилке комитета посмеивался, как «лихо отбрехался в суде», то инструктору Люберскому повезло меньше; вторую неделю, не разгибаясь, корпел он над статьёй «Уроки «астраханщины» и, проклиная всё на свете, не видел конца. Единственная тщеславная мысль успокаивала его – доклад предназначался для закрытого чтения на партийных собраниях во всех организациях области, а может, и за его пределами. В случае удачи его ждали не только благодарность начальства, но и значительные продвижения по иерархической лестнице.
Лёва Люберский, спец по аналитике, что называется – «большая голова». Однажды его писанина попала на глаза секретарю губкома, который подметил незаурядные задатки автора из ста выдавить двести. Ценились такие способности в зарождающемся советском аппарате на вес золота. Не в каждом портовом грузчике или рыбаке сидел Мартин Иден[124]124
Герой одноимённого романа Джека Лондона, литератор.
[Закрыть]. В губернском комитете Лёва тогда быстро завоевал популярность. О нём скоро прослышали наверху, так как, кроме всего прочего, умел он красиво подать написанное, прочесть с трибуны, перекрикивая любую орущую публику. Поэтому выдвинули из губкома в крайком, и открылся пред ним путь прямой и лучезарный.
Работая над собой, Лёва создал из талантливой способности культ, каждое задание обдумывал глубоко и тщательно, научившись разбираться в желаниях начальства и угадывать, от кого из них веет верным курсом партии, особо равняясь на большевиков.
В этот раз он не поленился съездить с Филовым в Астрахань, ознакомиться с объёмными томами уголовного дела и даже прилежно высидел на некоторых судебных заседаниях, дождавшись оглашения приговора.
Только после этого, целиком окунувшись в материал, он сел за стол и с головой ушёл в работу, лёгкая его рука замелькала над чистыми листами бумаги, как чайка над волнами, рождая события, образы героев и врагов; карандаш едва успевал догонять мчащуюся стрелой мысль – Лёва страсть как любил творить твёрдым, остро отточенным карандашом, это было верной приметой, что народится шедевр, и в подтверждение тому листы, полностью заполненные красивым его почерком, один за другим слетали на пол. Лёва их не подбирал, он не прерывался ни на секунду, устилая всё вокруг себя результатами творчества, замирая лишь на мгновения, чтобы заострить бритвой притупившийся грифель, жадно поджидавший своего момента.
Он начал к вечеру, когда в коридорах комитета сравнительно затихло и, забыв о времени, витал в благости творчества, кое-где сочиняя своё, навеянное увиденным и услышанным, кое-где фантазировал, додумывая за персонажей – без этого было нельзя, создать пафос трагической романтики, а история, которую ему необходимо было создать, требовала того, иначе она бы вязла в ушах обывательщиной, сводила скулы от скуки, скрипела на зубах затхлой пылью.
Одним словом, он творил и вдруг – о, ужас! – вздрогнул и замер от резкого щелчка – в спешке за мыслью он неосторожно налёг на карандаш, и тот переломился…
Это было бедой. Большой бедой, ибо уже от одного этого щелчка Лёва утратил хвостик мысли и ощутил тьму. Ему пришлось всё бросить, опуститься на колени и, ползая по полу, лихорадочно собирать всё написанное, сортировать в потёмках лист к листу, чтобы, найдя первый лист и зачитав его, приняться за поиски следующего, попытаться отыскать и его, пока не восстановится созданный общий каркас повествования. Иначе он не мог писать далее, так как напрочь забывал всё, что до этого создал.
Случалось, не помогало. Тогда приходилось прибегать к неприятному, но неизбежному – читать заново всё от первого до последнего листа, где прервалась мысль. Было ли это болезнью, рождённой бесконечной писаниной?.. Когда такое случилось впервые, Лёвик поспешил назвать это странностью собственного творчества, мог же его громадный мозг уставать и своеобразным образом требовать разрядки, питая сигналом мускульную силу, которая ломала орудие труда – единственное средство приостановить весь процесс. Ужасной казалась эта догадка, но другой не находилось. И Люберский, помучившись и подминая страх ужасного, назвал открытое в себе новое качество феноменом творчества. Сказал же Ломброзо в одной из великих работ, что гениальность и помешательство – ветви пограничные в тонкой психологии великих людей, к которым, несомненно, Лёвик себя относил. Книжка та, ещё в переводе Тетюшиновой, изданная в 1892 году, была случайно куплена им в антикварном магазине. Хозяин, седой старик, бросил её на край такого же древнего стола, видно, создавая общий антураж, но ему, юному гимназисту, отдал почти задаром, когда, случайно забежав, тот обратил на неё внимание, а открыв, увлёкся. Теперь она постоянно хранилась вместе с редкими раритетами в его шкафу тут же, в кабинете; порой он брал её в руки и перечитывал, в который раз поражаясь судьбе великих людей…
Найдя, наконец, первый лист рукописи и пробежав глазами содержание, он убедился, что главная мысль задуманного постепенно возвращается к нему. Он принялся отыскивать второй, третий лист и, закрепляя схваченное, начал цепко поглощать текст страницу за страницей:
«…Во всех уже оконченных следственных делах проходят свыше двухсот человек и большое количество членов партии. Каждый день за тюремные решётки садятся вновь изобличённые вредители, предававшие оптом и в розницу интересы партии и советской власти частнику и кулаку. Процесс очистки астраханского советского аппарата при помощи развёртывающейся пролетарской самокритики ускоряется. Прокуратура, в делопроизводстве которой находится свыше семидесяти больших и малых дел, не поспевает очищать Астрахань от падали, купленной частником и кулаком…»
Мысль оборвалась на краю листа, Люберский вновь опустился на колени, не замечая, что забыл включить электрическое освещение. Но вот капризная бумага оказалась в руках, и он продолжил чтение:
«Дело судебных работников явилось первым тревожным сигналом, что в советском аппарате неблагополучно. Начатое летом 1928 года, оно было бы, несомненно, смазано и ограничилось бы стрелочниками, если бы не вмешался краевой следственный аппарат. В результате прошло дополнительно восемнадцать человек во главе с председателем губсуда Глазкиным и его обоими заместителями. Из классового органа суд превратился в пьяную лавочку, где за недорогую цену можно было купить любой приговор. Растраты, взятки, понуждение женщин к сожительству, дискредитация советской власти, открытые пьяные оргии с нэпманами и прочими чуждыми элементами – всем этим пестрят приговоры по делу губсуда и нарсудов…
Несмотря на судебный процесс и чистку, в аппарате суда и в особенности нарсудов сохранились до сих пор взяточники и неприкрытые подкулачники…»
Теперь, твёрдо ухватив линию повествования, автор читал отрывками, торопясь наверстать упущенное:
«Дело финработников… Массовая продажность финансового аппарата началась с 1925 года. Частному капиталу удалось купить весь налоговый аппарат, ревизорский, губналогкомиссию и значительную часть экспертизы бухгалтеров… Всего привлечено 32 работника во главе с заведующим и его заместителем. Кроме того – 55 нэпманов-взяткодателей… Серьёзный характер имеют преступления в коммунхозе, где незаконно демуниципировались дома, совершались безобразия при распределении квартир… Исправительный дом (тюрьма) поощряет снабжение заключённых водкой, опиумом; охрана его превращается в решето, из которого в любое время может выйти всякий преступник, подкупив работников деньгами и даже продуктами питания…»
Люберский передохнул, он приближался к главному, которое заключалось в раскрытии причин разложения партийной организации, здесь как раз треснул и сломался карандаш, здесь оборвалась мысль, но он уже ухватился за неё и, бросившись к столу, скорчился, поспешил записать:
«Перерождению советского аппарата, превратившегося в агентуру частного капитала, сопутствует разложение партийной организации, в особенности её руководящего актива…»
Рука его снова летала над страницами, и мысль билась в черепной коробке, словно пытаясь выскочить, но он уже обхватил голову другой рукой, стараясь крепко удержать содержание…
Разрешено ли было Шеболдаевым зачитывать впоследствии доклад на партийных собраниях, или ждал его суровый нож цензора, – теперь истину узнать невозможно, однако достоверно известно, что имя Люберского скоро затерялось среди имен множества партийных аппаратчиков. И забылось совсем, а вот труд его остался жить и долго еще мутил и путал умы многим.
Много судебных процессов, втянувших в себя, как губка, сотни людских судеб, трясли город, словно тяжёлый приступ злокачественной лихорадки. В тюрьме скопилось чрезмерное количество арестантов, заключённые спали на нарах по очереди. Враз увеличились болезни, регулярными стали разборки среди уголовного контингента, заканчивающиеся массовыми драками. Во избежание худшего Кудлаткин завалил ходатайствами начальство и всевозможные инстанции наверху о скорейшем этапе осуждённых. Пугал неподдающихся бюрократов бунтом. Нагнетаемый ужас наконец сработал: распорядились этапировать и тех, кто не успел получить ответы на жалобы по объявленным приговорам. В спешке, один за другим стали назначать и рассматривать дела, покатили за Урал, застучали по рельсам состав за составом, напичканные зэками.
Готовился к этапу и Турин. Из их группы по приказу Кудлаткина на хоззоне при тюрьме был оставлен лишь Абрам Шик. Чуял Кудлаткин, что не переживёт старик этапа, к тому же его интересовало, чем завершатся события в чудной книжке, над которой старик трудился день и ночь и никак не мог приблизиться к долгожданному окончанию. Турин и тот подшучивал над новоявленным летописцем:
– Чем завершать станешь свой фолиант, Абрам Зельманович?
Кипа писанины набралась внушительная, сохранив однако при этом прежнее наименование: «Ксива про отважных уркаганов…», сам Кудлаткин, изредка тешась над её страницами, не черкал ни слова, щадя автора.
– Хотя бы седины постыдился, – бурчал Турин на Бертильончика. – Втемяшилась тебе в голову эта «ксива», других названий придумать не в силах?
– Правдой отдаёт, – отвечал Шик.
– Да какая же правда, если многие заключённые, читая, вырывают страницы о себе? Или ты неправду лепишь, или они правды о себе боятся.
– Пусть рвут, значит, проняло зэков, посветлело на душе, а я как раз этого и добиваюсь.
– Так от твоей писанины ничего не останется. Ты подумай, надо ли давать её всем для читки?
– Просят.
– Ну, как знаешь, – хмурясь, отходил от него Турин. – Пустое занятие затеял.
– Не пустое, Василий Евлампиевич, – поманил его с лукавинкой в глазах старик. – Одному тебе признаюсь: я рукопись свою в двух экземплярах стряпаю. Первый, нетронутый, у Ивана Кузьмича хранится при моём личном деле, а вторым желающие пользуются. Мне и самому так легче. Я враз угадываю: вырваны листы, значит, ничего в них я не соврал.
– Резонно, – хмыкнул Турин. – Ну ты, Абрам Зельманович, голова! Хитрец, каких поискать! Кто ж тебя надоумил?
– Жизнь, Василий Евлампиевич. – Старик потряс сединой.
В дверь камеры грохнули сапогом, откинулся тут же глазок, рявкнул охранник:
– Турин, на выход!
– Василий Евлампиевич! – ахнул Шик. – Не на этап ли?
– Да поздно уже… Утром этап ушёл. Ночь на дворе. – Спокойными были глаза Турина, однако руки выдавали, подрагивали пальцы. – Чего-то попутали служивые…
Дверь распахнулась, на пороге предстал сам Кудлаткин с неизвестным сотрудником ОГПУ, к тому же явно неместным. Козырек его фуражки был низко надвинут на лоб так, что сурового лица не разглядеть.
– Никакой путаницы нет! – выругался вошедший оперуполномоченный, отчего вздрогнул и сам Кудлаткин, а чужак уже тряс наганом под носом Турина. – Ты и так лишнего сидишь! Прижился, вошь буржуйская!
– Вот бумага. – Кудлаткин в растерянности держал перед собой лист постановления. – Предстоит тебе, Василий Евлампиевич, не этап, а конвоирование в места особые.
– Что за вольности? – рявкнул опять опер, толкнул Турина наганом в спину. – Спелись, гляжу!.. Заключённый Турин, и нет больше у него имени! – зло зыркнул на начальника тюрьмы. – А далее на номер свой будет отзываться. Шаг вправо, шаг влево – попытка к побегу, а значит, стреляю без предупреждения!
– Да куда же я в тюрьме побегу, – буркнул Турин, нагнувшись за собранной давно котомкой. – Если только команда дадена пристрелить меня?..
– Не дерзить! – взвизгнул опер, погнал Турина перед собой, успев отшвырнуть бросившегося попрощаться Шика. – Не горюй, старик. Скоро встретитесь у чертей на сковородке.
И долго ещё его идиотский хохот эхом перелетал по тёмным коридорам тюрьмы.
Во дворе двое лихо подхватили Турина и, бросив на заднее сиденье легкового автомобиля, запрыгнули следом по бокам.
– Ворота! – потряс наганом опер перед Кудлаткиным. – Что за разгильдяйство?
– Раскрыть ворота! – рявкнул тот опешившему постовому и, когда автомобиль скрылся, выругался: – Сумасшедшая братва в этом ГПУ, а эти аж из Москвы примчались! Зачем им понадобился Турин? Важная, конечно, птичка, но чтоб интересовались оттуда?.. Не иначе в расход спешат, чтоб не сбежал.
Однако звонить в верха побоялся, чтобы не накликать беды похлеще, бумагу подшил о выдаче осуждённого конвою и лишнюю заботу свалил с плеч. Кончились его треволнения с этой проклятой «астраханщиной», других забот ворох…
Турин закрыл глаза, оказавшись в автомобиле, вдыхая после вонючей камеры приятный запах бензина, кожи от тужурок конвоиров, дыма от ароматных папирос… Чист всё же воздух на воле!
– Закурить-то не хочешь, Василий Евлампиевич? – не оборачиваясь, вдруг спросил изменившимся голосом забиравший его полоумный с наганом.
У Турина перехватило дыхание.
– Неужели так и не признал? – резко обернулся тот, скинув фуражку, и зубастая улыбка расползлась по его лицу до ушей. – В штаны-то от страха небось наклал?
– Ангел! Мать твою!.. – не дав договорить, охнул Турин и затискал, зацеловал Ковригина так, что водитель, гнавший машину по пустынному городу, вынужден был резко затормозить:
– Василий Евлампиевич! Расшибёмся! И живым вас не довезём…
– А это кто же?.. Маврик! Ты, Павлушка? Ах вы, черти мои! – кидался от одного к другому Турин и поглядывал на рядом сидящих. – А этих ребят не знаю…
– Наши, – коротко бросил с переднего сиденья Ковригин. – Я, Василий Евлампиевич, потом всё тебе расскажу, а сейчас срочно из города надо выбираться.
– Куда же?
– Да тут недалеко, – засмеялся Егор, – километров сто, но и там не задержимся.
– Интересно?
– Перекинем в машину казну воровскую, которую Браух сторожил, Копытов ограбил, а наш Маврик отыскать сумел, и махнём в края необитаемые, где нас никто искать не захочет.
– Не в Сибирь ли собрались?
– А почему нет? Отдышимся, отлежимся, а там видно будет.
– Ладно. Делай, как задумал, – улыбнулся ему Турин, – мне пока в себя прийти надо да расспросить тебя.
– А чего расспрашивать-то, Василий Евлампиевич? Думается мне, вы уже всё скумекали, – хохотал Ковригин. – Обменял я Серафиму на бумагу, которую Богомольцев на конвоирование ваше в неведомые края добыл.
– Вон оно как… – примолк Турин и испытующе глянул на Егора. – Жалеть не станешь?
– А нечего жалеть, – хмыкнул тот. – Серафима мне и подсказала.
– Сама Серафима?! – вспыхнул Турин.
– Сама, – сжал губы Ковригин.
– Это что же такое меж вами произошло?
– А ничего. Стар Богомольцев. Да и дела осложнились в верхушке. Генрих Гершенович почти всё к рукам прибрал. Богомольцев молит Бога, чтоб уцелеть. Ему не до Серафимы. Числится она у него домохозяйкой до сей поры, ну а её вы знаете, прикоснуться к себе не позволяет, если сама не захочет.
– Вон оно что… – затянулся папироской Турин и надолго закашлялся. – Я так понимаю, что на этих условиях вы с ней и сговорились? – наконец смог он выговорить.
– Верю я ей, – сверкнул глазами Ковригин. – А с Богомольцевым что случится, она нас найдёт.
– Адрес знает?
– Забывать вы её стали, Василий Евлампиевич, Серафима в адресах не нуждается.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































