Текст книги "«Строгая утеха созерцанья»: Статьи о русской культуре"
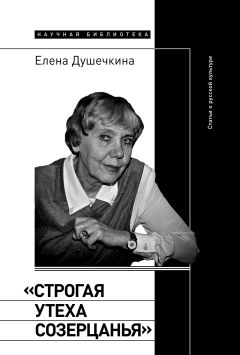
Автор книги: Елена Душечкина
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 46 страниц)
ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ
В основе понятия гетеротопия лежит представление о «другом месте». Однако поскольку «другое место» всегда является другим по отношению к любому соседнему или отдаленному от него, то из этого следует, что всё (то есть каждое место) может быть, в зависимости от ситуации, названо гетеротопией. Это понятие отличается крайней степенью субъективности его восприятия. Быть или не быть ему «другим местом», зависит не столько от самого места, сколько от воспринимающих его личности или социума. В сознании оно запечатлевается как некоторая часть пространства, занятого чем-то или обладающего какими-либо особенными чертами, что и делает его отличающимся от всего того, что в данный момент может быть названо фоном. Я не исключаю того факта, что Мишель Фуко, употребив в одной из своих лекций 1967 г. слово гетеротопия995995
Фуко М. Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3 / Пер. с фр. Б. М. Скуратова; Под общ. ред. В. П. Большакова. М.: Праксис, 2006. С. 191–204.
[Закрыть], вполне сознательно не стал разрабатывать его как термин и практически никогда к нему не возвращался996996
Второй раз Фуко использовал слово гетеротопия при сравнении утопии и гетеротопии в литературе. См.: Фуко М. Слова и вещи / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой; Вступ. ст. Н. С. Автономовой. М.: Прогресс, 1977.
[Закрыть]. Мне представляется, что это слово было придумано им (заимствовано из медицинской терминологии) почти случайно и оттого впоследствии неоднократно порождало сбивчиво-путаные толкования и разноплановые его использования. Однако слово понравилось и, несмотря на то что аналогия с медицинской его трактовкой (где гетеротопия относится к врожденным аномалиям развития организма) представляется весьма сомнительной, было подхвачено гуманитариями, превратившись в термин и породив к настоящему времени достаточно обширное поле исследований.
Рассмотрим это понятие на простейших примерах. Лужа, например, – это «другое место» (гетеротопия?) по отношению к сухим поверхностям вокруг нее; и наоборот – сухие поверхности могут восприниматься как гетеротопии по отношению к луже. Все зависит от того, что в данный момент важнее и содержательнее для воспринимающего, на что обращено его внимание в первую очередь. По какой причине возникает концентрация мысли именно на этом «другом месте», почему сознание выбирает именно его, далеко не всегда объяснимо и не всем бывает понятно. Так, выведенный на прогулку двухлетний мальчик, только что начавший говорить, всякий раз, увидев очередной канализационный люк, останавливается и, вдумчиво вглядываясь в него, повторяет: «Люк… Люк… Люк…». Для окружающих это фон, часть тротуара или мостовой, обычно не привлекающий к себе внимания (в том случае, конечно, если этот люк закрыт и не представляет опасности). Для ребенка (в нашем примере) – это, безусловно, самое что ни на есть «другое место», непонятное, отличающееся от всего иного и в высшей мере загадочное или таинственное, а может быть, и таящее в себе некую опасность. И потому понятие гетеротопии можно считать понятием субъективным и в определенной степени условным.
И тем не менее, включаясь в игру «в гетеротопии» и принимая правила этой игры, я выдвигаю понятие сезонной гетеротопии как одной из ее специфических разновидностей. В данном случае гетеротопия оказывается обусловленной временем года или каким-то определенным периодом, что отличает ее от других, безразличных к сезону явлений с характеризующими данный сезон климатическими признаками и календарными отличительными особенностями. Это позволяет назвать сезонными гетеротопиями такие пространства, как каток (если это не искусственный каток), пляж, места проведения календарных праздников, ярмарки и фестивали, устраивающиеся в одно и то же время в одном и том же месте, что, кстати, уже не раз рассматривалось без привязки ко времени997997
См., напр.: Хачатуров С. Гетеротопия в полемике с утопией. Arterritory.com. 2012. https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/recenzii/4137-geterotopija_v_polemike_s_utopiei/; Шумихина Е. Место гетеротопии в современной архитектуре. 2010 и др.
[Закрыть]. Сезонные гетеротопии, тесно связанные с календарным периодом, могут эволюционировать, меняя свое пространство, расширяясь или сужаясь, либо вообще исчезать навсегда или же на какой-то период. Так, в дохристианскую эпоху в культуре германских народов можно отметить сезонную гетеротопию, обусловленную обязательным наличием в ней елового дерева. В день зимнего солнцестояния люди приходили в лес и, найдя подходящую елку, совершали возле нее новогодние обряды. Нет необходимости обозревать все этапы европейской по происхождению сезонной гетеротопии, связанной с елью (равно как и с любым другим деревом или растением в неевропейских культурах). Пространство в лесу вокруг ели, где производились обрядовые действа в языческие времена, помещение с поставленной на стол елкой с горящими на ней свечами в начальные годы христианства, городская площадь с установленной большой елью – все это однородные сезонные гетеротопии. Их родственность обусловлена обрядовой функцией ели, одинаково важной для каждой из них. Наличие дерева в «другом месте» в определенное время годового цикла и составляет его суть, делая его «другим» на фоне окружающего «безразличного» пространства. Меняется место (лес, помещение, городская площадь), но остается время (дни зимнего солнцестояния) и предмет почитания (елка).
Так, в Петербурге в течение первых десятилетий XIX в. на святках «другими местами» в основном были дома петербургских немцев, составлявших в те годы едва ли не треть населения столицы. По преимуществу только в этих домах в Рождественский сочельник устанавливались елки и устраивались торжества для детей в ее честь. Именно эта картина изображена А. Бестужевым-Марлинским в повести «Испытание»:
На столе, в углу залы, возвышается деревцо <…> Дети с любопытством заглядывают туда <…>. Наконец наступает вожделенный час вечера. – Все семейство собирается вместе. Глава оного торжества срывает покрывало, и глазам восхищенных детей предстает Weihnachtsbaum в полном величии…998998
Бестужев (Марлинский) А. Испытание // Бестужев (Марлинский) А. Ночь на корабле: Повести и рассказы. М.: Худож. лит., 1998. С. 22–82.
[Закрыть]
На протяжении 1830‐х гг. в российской столице постепенно происходит изменение (и расширение) пространства «присутствия елки». Известные немецкие и швейцарские кондитеры (Вольф, Беранже, Пфейфер, Доминик и др.) начинают организовывать продажу елок, уже, так сказать, готовых к употреблению – с висящими на них фонариками, игрушками и произведениями так называемой кондитерской архитектуры. Именно кондитерские заведения в этот период принимают на себя роль наиболее заметных и значимых для населения столицы сезонных гетеротопий. Разумеется, такие елки по причине их дороговизны раскупались в первую очередь членами состоятельных семей. Судя по откликам в печати и в литературе, петербургские кондитерские, продававшие елки, несомненно, были «другими местами», привлекавшими к себе в предрождественский период повышенное внимание публики и воспринимавшимися как особые на привычном фоне пейзажа и интерьера «святочного» Петербурга. Об этом ежегодно в декабрьских номерах своей газеты «Северная пчела» писал Ф. Булгарин, превращая свои заметки в рекламу елок, активно входивших в моду:
Место не позволяет гг. Вольфу и Беранже иметь готовые елки, но у гг. Доминика, Излера и Пфейфера они удивительно хороши и богаты <…> чего тут только нет!.. Картонные игрушки, называемые сюрпризами, отличаются ныне удивительным изяществом. Это уже не игрушки, а просто модели вещей, уменьшенные по масштабу. Елки у г. Пфейфера с транспарантами и китайскими фонарями, а у гг. Доминика и Палера также с фонарями на грунте, усеянном цветами. Прелесть да и только!999999
Северная пчела. 1840. № 290. 23 дек. С. 1.
[Закрыть]
Если желаете иметь елку великолепную, так сказать, изящную, закажите с утра г. Излеру, в его кондитерской, в доме Армянской церкви, на Невском проспекте. Тогда будете иметь елку на славу, которою и сами можете любоваться. Обыкновенные, но прекрасно убранные елки продаются в кондитерской г. Лерха…10001000
Северная пчела. 1842. 4 янв. С. 1.
[Закрыть]
По мере того как в России распространялся обычай использовать елку в качестве атрибута рождественской обрядности, места их продажи менялись, умножаясь и распространяясь по всему городу. Уже к концу 1840‐х гг. основным местом торговли елками становится пространство больших площадей, куда крестьяне привозили деревья из окрестных лесов. До поры до времени площади являлись просто пунктами торговли елками, не выполняя при этом никаких дополнительных функций.
Все изменилось к концу XIX в. Рубеж веков оказался периодом расцвета елочных базаров и в Петербурге, и в других крупных городах Российской империи. К этому времени елка окончательно вписалась как в домашний праздничный интерьер, так и в рождественский городской пейзаж. «<…> В настоящее время и праздник не в праздник без красавицы елки»10011001
Петров-Водкин К. Хлыновск // Петров-Водкин К. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. [Л.:] Искусство, 1970. С. 108.
[Закрыть]. Утвердилось представление о том, что разукрашенное еловое дерево испокон веков было обязательной принадлежностью русского Рождества: «Елка в настоящее время так твердо привилась в русском обществе, что никому и в голову не придет, что она не русская», – писал В. В. Розанов в 1906 г.10021002
Розанов В. В. Около церковных стен. В 2 т. СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1906. Т. 1. С. 152.
[Закрыть] В начале XX в. под этими словами могли бы подписаться многие: привычность елки, ее освоенность привели к тому, что она стала восприниматься как народный по своему происхождению обычай. Кроме того (что очень важно), именно в этот исторический период праздник Рождества, долгое время отмечавшийся в России как сугубо религиозное торжество, выходит за пределы православного храма (куда елка не допускалась), превратившись в светский праздник, в котором елка заняла центральное место. С рубежа XIX и XX вв. и вплоть до Первой мировой войны в конце декабря елочный ажиотаж ежегодно охватывал людей всех поколений и всех сословий столицы. Рождественский сезон с непременной елкой изменял привычный ход жизни, сказываясь на атмосфере, настроении, деятельности, материальном положении людей. Елка всех втягивала в сферу своего влияния: наступало ее время, начинались «деятельные приготовления на елку»10031003
Бахтиаров А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. СПб., 1994. С. 192.
[Закрыть] (Бахтиаров 1994: 192).
Елочные базары, или, как их еще называли, елочные торги притягивали к себе всеобщее внимание, превращая их в особые, «другие места». Площади, на которых продавались елки, по вполне понятным причинам оказывались в центре предпраздничной жизни города – с них начинало формироваться «другое», рождественское и новогоднее городское пространство. Наличность елочных базаров в тех местах, где их не бывало в другое календарное время, дает право назвать их главными сезонными гетеротопиями святочного периода.
Говоря о елочных базарах, следует указать на то, что в создании особой атмосферы этих гетеротопий принимали участие все слои городского (а часто и пригородного) населения. Крестьянам необходимо было обеспечить город достаточным количеством деревьев на любой вкус и на любой спрос. Заготовка елок начиналась за неделю до Рождества. Для лесников и крестьян из пригородных деревень продажа елок превращалась в один из сезонных заработков: «Лесники потирают руки…»10041004
Там же. С. 192.
[Закрыть]; «Рубит мужик елку; / Продаст в городе за полтину…»10051005
Горянский В. Перед Рождеством // Поэты «Сатирикона». Л.: Сов. писатель, 1966. С. 149.
[Закрыть]. Рискуя быть оштрафованными за порубку чужого леса, крестьяне все же не упускали случая «украсть в лесу несколько елок», дабы не остаться на праздниках «не только без водки, но даже и без хлеба»10061006
Будищев А. В зимнюю ночь // Посильная помощь: Сб. в пользу пострадавших от неурожая. С. 138.
[Закрыть]. Порубщики подтаскивали деревья к саням и увозили их из лесу так, чтобы к рассвету все было завершено. Наутро они уже продавали в городе свой «зеленый товар»10071007
И. Грэк <Билибин В. В.> Святочные рассказы // Осколки. 1900. С. 5.
[Закрыть].
Доставленные в город елки свозились на места торга, которые и представляют для нас особый интерес в свете сезонных гетеротопий. В больших городах такие места не были единичны. Обычно они возникали на многолюдье: у гостиных дворов, на площадях, на рынках. В Петербурге главный елочный базар вначале был у Гостиного двора, а позже – на Петровской (Сенатской) площади. Однако обзавестись елкой можно было и на Сенной, и на 4‐й линии Васильевского острова (возле Академии художеств), и в ряде других мест. Потребность в елках была столь велика, что торговля ими стихийно возникала во многих местах. Торговали елками и лавки – зеленные, мелочные и даже мясные. Привезенные деревья выставлялись у входа правильными рядами, часто уже поставленные на крестовины, а иногда и наряженные.
Елки предлагались на любой вкус: и маленькие, разукрашенные искусственными цветами, и «елки-великаны», которые «гордо возвышались» «во всей своей естественной красе», и никогда не видавшие леса искусственные, неестественно яркие «елки-крошки»10081008
Бахтиаров А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. С. 193.
[Закрыть]. Елочные базары привлекали к себе внимание и вызывали интерес всех слоев городского населения. Здесь шла особая жизнь, рождались свои, связанные с продажей елок, сюжеты, велись разговоры, возникали ссоры и даже ругань, завязывались знакомства и пр. Около деревьев толпились мужики в тулупах, ревностно следя за сохранностью своего «имущества». В ожидании покупателей они жаловались на питерскую слякоть, говоря, что такую погоду, конечно же, «послали немцы» и что будь сейчас мороз, елки бы раскупались лучше10091009
Лейкин Н. Около елок. (Сценка) // Петербургская газета. 1880. С. 1.
[Закрыть].
На елочных торгах устанавливалась особая атмосфера, отличающая их от других мест города, – радостная, возбужденная, но вместе с тем и деловая. Продавцы любыми способами стремились перебить покупателей у соперников, торговались, сбивали цены или же, наоборот, повышали их10101010
Лейкин Н. Елки покупают // Осколки. 1894. № 52. С. 3–4.
[Закрыть]. Дольше всех, судя по замечаниям в прессе, «торговались купцы <…>, приобретавшие елки по самой низкой цене»10111011
Пазухин А. Елки: Картинки и сценки // Московский листок. 1894. 358. 25 дек. С. 6–7.
[Закрыть]. По рынку, примериваясь и прицениваясь, сновали покупатели. Приезжали «дамы в соболях» и чиновники, приходил «рабочий люд» купить елочку «на праздник детям»10121012
Лукаш И. Возвращение Рождества // Возрождение (Париж), 1965. № 157. С. 8.
[Закрыть]. Между деревьями ходили сбитенщики, предлагая своим горячим напитком согреть замерзших покупателей. Всюду горели костры, дым стоял столбом. Знакомые места вдруг совершенно преображались, становились неузнаваемыми: здесь неожиданно вырастал настоящий лес, в котором можно было и заблудиться.
Повсюду среди елок шныряли дети, для которых в предрождественские дни елочные базары становились любимым местом гулянья, о чем сохранились многочисленные воспоминания русских писателей о рождественских переживаниях своего детства:
<…> Приснилось, что потерял шапку и хожу среди рождественских елок у Академии Художеств, – по еловому лесу <…>. Впрочем, елки и наяву продавались у Академии Художеств, на 4-ой линии. Мелкие, жидкие снизу, воткнутые в деревянные кресты, стояли на дровнях, другие, перевязанные мочалками, были повалены друг на друга в снег, и высились чащей большие ели, перекладины которых были из бревен10151015
Там же. С. 10.
[Закрыть].
Бедняки покупали маленькие, дешевые, увешанные бумажными цепями елочки на деревянных крестиках и уносили их домой под мышкой. Большие елки развозились по домам на извозчиках или же разносились босяками, нанятыми за четвертак. Крупные деревья обычно несли вдвоем: один держал обструганный колом конец ствола, второй – вершину и под мышкой деревянную перекладину.
Елочные базары, босяки, несущие елки, дети, везущие небольшие елочки на санках, засыпанные хвоей тротуары, царящее повсюду оживление, всеобщее возбуждение – все это неузнаваемо преображало город:
Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам…10171017
Куприн А. Чудесный доктор // Куприн А. Собр. соч. в 9 т. М.: Худож. лит., 1971. Т. 2. С. 269.
[Закрыть]
А в окнах домов уже видны были наряженные елки, которые казались «громадной гроздью ярких, сияющих пятен»10181018
Там же.
[Закрыть].
Около залитых блеском витрин толпилась детвора, останавливались взрослые полюбоваться и прицениться. Магазины с утра и до позднего вечера были заполнены покупателями и покупательницами, выбирающими игрушки на елку, подарки, книги в затейливых переплетах, которые сотнями выпускались к празднику.
У всех было то особенное доброе, предпраздничное настроение, полное предвкушения чего-то светлого, радостного, необыкновенного. Делались покупки, и деньги на них тратились радостно…10191019
Потресов С. Рождественский рассказ (Посвящается собратьям по перу) / Публ. Е. Душечкиной, X. Барана // Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 212.
[Закрыть]
Судя по количеству продаваемых перед Рождеством деревьев, по информации в газетах, по фотографиям в журналах и, наконец, по литературным произведениям можно утверждать, что к рубежу XIX–XX вв. праздники елки стали проводиться в большинстве домов самых разных слоев городского населения. Сезонная елочная гетеротопия («другое место»), таким образом, расширяла свои границы, распространяясь на все пространство города, как бы поглощая его. В эти годы елка стояла в доме в течение достаточно ограниченного времени – только на Рождество, в крайнем случае – до Нового года. После этого деревья выбрасывались, и город постепенно начинал принимать свой прежний вид.
Начавшаяся война внесла серьезные коррективы в «елочную» сезонную гетеротопию рубежа веков, сузив ее и пространственно, и эмоционально, придав ей щемящую тональность и трагизм. Война как бы расколола «другое пространство», разведя людей на тыл и фронт, что особенно остро переживалось на Рождество:
В центре нашего внимания не случайно оказался рубеж XIX–XX вв. Такой силы накала сезонной «праздничности», начинавшейся с продажи елок на базарах и продолжавшейся в течение всего рождественского сезона, Петербург (а вместе с ним и другие крупные российские города) не переживал больше никогда.
Сезонные гетеротопии, одна из которых рассмотрена в настоящей статье, возникая в один и тот же календарный период, представляют собой такие места, которые вносят врéменные, но кардинальные изменения в пространство города, делая его «другим». Они меняют внешний вид города, они сказываются на деятельности и настроении его жителей, формируя специфическую ауру, присущую только данному календарному периоду, создавая особое отношение к жизни, ее ценностям и особое ее восприятие.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА У CАЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
<ФРАГМЕНТЫ>
<…> По первоначальному замыслу «Губернские очерки» должны были включать в себя значительную группу текстов, составляющих особый раздел под названием «Народные праздники». Салтыков-Щедрин предполагал создать серию картин «не столько церковного, сколько народного календаря, основанных на поверьях и обычаях»10211021
Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1965. Т. 2. С. 534 (Примеч.). Цитаты из очерка «Елка» приводятся нами по этому изданию.
[Закрыть], – масленицы, вешнего Егория, Ильина дня, местных праздников и др. Намеченный план остался неразработанным. Писатель ограничился лишь двумя праздничными зарисовками (Рождества и Пасхи), объединив их в небольшой раздел «Праздники». Оба эти текста к народному календарю имеют косвенное отношение, но как оригинальная разработка праздничных сюжетов и мотивов они представляют несомненный интерес.
Первый очерк этого отдела («Елка») и станет предметом внимания настоящей заметки. Он представляет собою зарисовку рождественского сочельника, будто бы пережитого рассказчиком в Крутогорске. Форма повествования в настоящем времени и от первого лица способствует созданию иллюзии сиюминутности происходящего, благодаря чему читатель «втягивается» в художественное пространство, становясь свидетелем изображаемых событий. Отсюда же впечатление достоверности, позволявшее иногда говорить о документальной основе зарисовки. Это впечатление, видимо, не совсем обманывает читателя.
По крайней мере, что касается изображения праздника рождественской елки, то очерк этот вполне может служить иллюстрацией к истории елки в России. Именно в середине 1850‐х годов «рождественское дерево», «освоив» Петербург, становится популярным в чиновничьих и купеческих домах губернских городов, откуда уже в следующее десятилетие мода на него распространяется по уездным городам и помещичьим усадьбам. Эту растущую популярность елки и отмечает рассказчик:
Просвещение проникает все более на восток <…>, – с иронией пишет он, – чиновники, которые в Крутогорске плодятся непомерно, считают непременною обязанностию купить на базаре елку и <…> презентовать многочисленным Ваничкам, Машенькам…10221022
Что касается праздников, то в этом отношении провинция, действительно, старалась не отставать от столиц: «Чванясь друг перед другом, „первые лица“ губернии, – пишет вятский краевед, – закатывали пиры почти на столичный манер» (Петряев Е. Д. М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке. Киров, 1980. С. 81).
[Закрыть]
Чем состоятельнее дом, тем роскошнее в нем елка. О «хоромах одного крутогорского негоцианта» рассказчик сообщает: «И тут тоже елка, отличающаяся от чиновничьих только тем, что богаче изукрашена…». Оставаясь в рамках документального повествования, Салтыков-Щедрин, однако, опирается и на определенную литературную традицию.
Ко второй половине 1850‐х годов, т. е. ко времени написания «Губернских очерков», в литературах ряда европейских народов, усвоивших обычай рождественской елки, появилось множество произведений, в сюжетном повествовании которых елка, представленная в качестве главного атрибута рождественского праздника, играла важную роль. Символизируя собою «неувядающую благостыню Божию», елка либо репродуцировала рождественскую утопию, либо обнажала трагический разрыв, существующий между этой утопией и реальностью. По мере роста популярности елки в России, «елочные» тексты путем переводов и подражаний начинают осваиваться и русской литературой. Очерк Салтыкова-Щедрина, носящий, на первый взгляд, вполне мемуарный характер, со всем основанием может быть отнесен к этой литературной традиции.
Здесь детский праздник изображен со стороны: рассказчик, не являясь его участником, рассматривает елку извне – через оконное стекло. Чувство горечи, одиночества и неприкаянности, которое он испытывает в связи со своей непричастностью празднику, выливается в традиционной ламентации: «Я один как перст в этом мире; нет у меня ни жены, ни детей, нет ни кола, ни двора…» и т. д. Тем самым повествователь оказывается аналогичным одному из характерных для «елочных» произведений персонажей – одинокому и обездоленному, лишенному семьи, родных и елки, особенно остро ощущающему свое сиротство при виде чужого праздника.
Однако позиция внешнего наблюдателя предоставляет рассказчику и определенные преимущества. Благодаря этой позиции ему удается увидеть то, что скрывается от участников праздника, вовлеченных в действие, и, с этой точки зрения, рассказчик представлен в тексте как традиционный автор «физиологий»: он тщательно рассматривает елку, он внимательно следит за поведением детей и взрослых, хозяина и хозяйки. И замечает то, чего не замечают другие. Отсюда ироничные строки о «негоциантах», «не теряющих золотых мгновений» и беспрерывно подступающих к круглому столу, который «ломится под тяжестью закусок и фиалов с водкой и тенерифом», и о равнодушии к елке детей, заинтересованных прежде всего в приготовленных для них подарках: «…дети чинно расхаживают по зале <…> выжидая знака, по которому елка должна быть отдана им на разграбление». Тон повествования и сентиментален, и ироничен одновременно. Сентиментальность вызвана самой героиней торжества елкой («В пространной зале горит это милое деревце, которое так сладко заставляет биться маленькие сердца»), а ирония – несоответствием смысла праздника в ее честь тому, что совершается в крутогорском доме. На празднике действуют те же самые законы, что и в будничной жизни; ведь «Елка» – еще одна иллюстрация крутогорских нравов, изображенных в «Губернских очерках», представляющих собою «монографическое исследование разных явлений современной жизни»10231023
Макашин С. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–1860 годов: Биография. М., 1972. С. 122.
[Закрыть]. Дети, для которых якобы и устроен праздник, оказываются под стать взрослым: хозяйский сын бьет «Оську рядского», в то время как Оськина мать, желая угодить хозяевам, старается «прекратить всхлипывания» своего сына «новыми толчками». Рождество, праздник, во время которого должны царить «мир и в человецех благоволение», Крутогорску неизвестно. Салтыков-Щедрин вполне мог бы ограничиться фиксацией этих наблюдений: он выполнил свою задачу, изобразив крутогорский праздник. Но очерк продолжается.
Очерк продолжается описанием новых, также вполне мотивированных крутогорской реальностью событий, и мало кто замечает, что писатель приступает к разработке известного литературного сюжета – сюжета о ребенке, рассматривающем через оконное стекло елку в богатом доме. Произведения о «чужой елке» на страницах рождественских номеров массовых и детских периодических изданий с середины XIX века становятся обычным явлением. Этот нехитрый сентиментальный сюжет разыгрывался в нескольких вариантах.
Первый вариант представлял смотрящего через окно на елку в богатом доме ребенка-сироту, который, замерзая, в предсмертном сне видит свою умершую мать, бабушку или Христа. Самая известная русскому читателю разработка этого варианта – «Мальчик у Христа на елке» Достоевского (1876), который, неоднократно перепечатываясь в сборниках, адресованных детям, заслужил репутацию образцового рождественского рассказа <…>. Несмотря на трагический конец (смерть ребенка), этому варианту свойственна светлая тональность: страдания ребенка на земле сменяются блаженством вечной жизни на небе и воссоединением его с родными. <…>
Второй вариант отличается от первого лишь отсутствием мотива предсмертного сна-видения: ребенок замерзает, и утром люди находят его трупик. Такая концовка придавала тексту безнадежно трагическую окраску <…>.
В третьем варианте этого сюжета ребенок не умирает: он с восторгом рассматривает елку в окне, мечтает о такой же елке для себя и бредет дальше своей дорогой. <…>
И наконец, еще один, четвертый, вариант сюжета о ребенке, рассматривающем в окне чужую елку. В этом случае замерзающего у окна ребенка подбирает прохожий, приводит его к себе домой, кормит, поит, укладывает спать и иногда оставляет его у себя навсегда. Концовка текстов, разрабатывающих этот вариант, совпадает с известным «Сироткой» («Вечер был; сверкали звезды…») <…>.
К концу XIX века избитость сюжета о замерзающем ребенке (иногда с елкой в окне богатого дома, а иногда и без елки) достигла такой степени, что без отсылки к нему не обходилась ни одна пародия на рождественские тексты. <…>
Возникший в «елочной» литературе начала XIX века сюжет о елке в богатом доме и замерзающем ребенке, став в полном смысле этого слова интернациональным, с успехом прошел по всем странам, усвоившим обычай рождественской елки, и быстро превратился в затасканное клише. Как правило, это были однообразные и мало оригинальные тексты, которые из года в год появлялись в праздничных номерах массовой периодики. Но русскому читателю этот сюжет «подарил» два шедевра – «Елку» Салтыкова-Щедрина и «Мальчика у Христа на елке» Достоевского.
Мы не владеем сведениями о том, какие именно произведения русской или, скорее всего, европейской литературы, использующие сюжет «чужой елки», были известны Салтыкову-Щедрину. Однако прочтение щедринского текста на фоне этого сюжета демонстрирует не только факт знакомства с ним писателя, но и полемически заостренное манипулирование его ходами и мотивами.
Рассматривая елку в окне богатого дома, рассказчик вдруг замечает рядом с собой замерзшего («подскакивающего с ноги на ногу») мальчугана, внимание которого также приковано к елке. Мальчик подплясывает «на одном месте, изо всех своих детских сил похлопывая ручонками, закоченевшими на морозе». На первый взгляд, мальчик этот напоминает знаменитого «малютку»: он замерз, он один поздним вечером на улицах пустого города, он с завистью смотрит на «чужую елку» и мечтает о такой же елке для себя («– Вот кабы этакая-то елка… – задумчиво произнес мой собеседник»), и этим его мечтам, подобно мечтам других «малюток», также не суждено сбыться («– А дома у вас разве нет елки? – Какая елка! у нас и хлеба почти нет…»).
При виде мальчика рассказчик, «имея душу чувствительную», настраивает и себя самого, и своего читателя на сентиментальный лад. Но тут же оказывается, что крутогорский мальчуган – это отнюдь не традиционный «малютка»: он вовсе не «голодный и холодный» сирота, а вполне «домашний» ребенок – у него есть отец, мать, сестры, он одет в дубленый полушубок, а на далекой темной улице оказался по своей собственной вине, за что его «тятька беспременно заругает». Реплики мальчика свидетельствуют о том, что его интересует не только елка, а может быть, даже не столько елка, сколько происходящие внутри помещения события отнюдь не праздничного характера. С живым любопытством наблюдая за тем, как хозяйский сын «задирает» Оську рядского, он ни в малейшей степени не сочувствует Оське: «…Ишь разревелся смерд этакой! Я бы те не так еще угостил!» Вместо ожидаемой солидарности с обиженным бедным мальчиком, он презирает его: «Эка нюня несообразная! – прибавил он с каким-то презрением, видя, что Оська не унимается». Более того, он сам испытывает желание «задрать» бедного Оську: «Я бы еще не так тебе рожу-то насолил! – произнес мой товарищ с звонким хохотом, радуясь претерпенному Оськой поражению». Так под пером Салтыкова-Щедрина традиционный «малютка» превращается в энергичного, знающего себе цену и умеющего постоять за себя мальчика, вполне уверенного в себе и отлично ориентирующегося в окружающей его обстановке. Этот маленький герой – будущее губернского города – менее всего способен вызвать чувство умиления10241024
Показательно, что в первом и втором издании «Губернских очерков» этот текст назывался «Замечательный мальчик».
[Закрыть].
Рассказчик, как кажется, получил предупреждение. Но, все еще погруженный в «праздничную ауру», он, не доверяя своему впечатлению, совершает шаг, который вполне соответствует сентиментальной схеме: подобно старушке из стихотворения «Сиротка», он, проникшись «состраданием к бедному мальчику», приглашает его к себе домой. «Елочный» сюжет, как кажется, развертывается в соответствии с четвертым вариантом: «малютка» подобран.
Однако вместо ожидаемой идиллии и перед рассказчиком, и перед читателем развертывается отнюдь не безмятежно идиллическая сцена. В гостях мальчишка ведет себя крайне развязно и насмешливо по отношению к взрослым: он тут же залезает с ногами на диван, «минуя сластей, наливает в рюмку вина и залпом выпивает ее». Разочарованный рассказчик с горечью констатирует: «Мне становится грустно; я думал угостить себя чем-нибудь патриархальным, и вдруг встретил такую раннюю испорченность». То «патриархальное», чем намеревался «угостить» себя рассказчик, – это и есть ожидаемый финал нашего сюжета. Если бы мальчик, благодарный за приют и угощение, «улыбнулся, закрыл глазки» и т. д., рассказчик получил бы то, на что он себя настроил. Но вышло по-другому, и, испытывая чувство стыда и досады, он отправляет домой «почти пьяного» мальчишку. Традиционный сюжет и традиционный образ оказался не соответствующим реальности10251025
Щедринская разработка сюжета о «чужой елке» предвосхищает вопрос, поставленный Достоевским относительно героя «Мальчика у Христа на елке»: «На другой день, если бы этот ребенок выздоровел, то во что бы он обратился?» И сам отвечая на него, писатель с горечью констатирует, что со временем «эти дети становятся совершенными преступниками» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1981. Т. 22. С. 14).
[Закрыть].
Таким образом, у Салтыкова-Щедрина схема сентиментального рождественского сюжета подвергается существенной ломке. Автор как бы играет «в обманки» с читателем. Он создает знакомую ситуацию и тем самым подсказывает ее развитие. Но следующий за нею сюжетный ход не соответствует привычной схеме, и в результате читательское ожидание оказывается обманутым. Эта «игра в обманки» ведется не только с читателем, но и с героем-рассказчиком: жизнь предлагает ему не предсказуемый литературный вариант, на который он было настроился, но «суровую реальность».
Салтыков-Щедрин высмеивает и развенчивает как банальный сюжет «чужой елки», так и своего героя-рассказчика, увидевшего в ребенке «достаточную жертву для своих благотворительных затей». Истинное милосердие обернулось здесь пустыми «благотворительными затеями», а сам ребенок превратился в «жертву благотворительности». Отсюда и то чувство стыда, которое испытывает рассказчик после пережитого им инцидента: «Мне ужасно совестно перед самим собою, что я так дурно встретил великий праздник». Отсюда и заключающие очерк слова его молитвы, представляющие, как убедительно показал М. В. Строганов, реминисценции из стихотворения Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны…» и молитвы Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего»10261026
Строганов М. В. Три заметки к текстам Салтыкова-Щедрина // Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина в историко-литературном контексте. Калинин, 1989. С. 58–66.
[Закрыть]. Так рождественская елка, призванная на Рождество для того, чтобы люди не забывали закон любви и добра, милосердия и сострадания, через очерковое нравоописание ее празднования в Крутогорске и через своеобразное разыгрывание сюжета о «чужой елке» привела автора к осуждению своего собственного праздномыслия и к необходимости проникновения истинным, а не показным (или, скорее, здесь – самопоказным) милосердием и «деятельною, разумною любовью», которые только и дают право на проникновение «в сокровенные глубины <…> души».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































