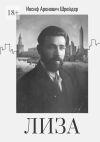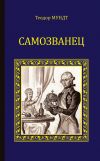Текст книги "Смертию смерть поправ"
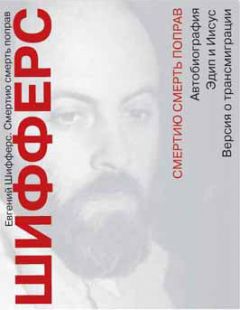
Автор книги: Евгений Шифферс
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Второе письмо к Ирине
Ирина, девочка моя, у меня к тебе просьба, ты должна бросить сейчас же все дела, пойти и найти одного японца, его зовут АКУТАГАВА, ты должна сказать ему, что я послал тебя, он вряд ли спросит, кто именно, а если и спросит, ты скажешь, что там в конце должна быть подпись, в конце записки к нему, которая написана на синей бумаге и которую я не стал запечатывать, потому что ты все равно бы прочла без спроса, а так читай, только найди, его, слышишь, найди, я узнаю сразу, что вы встретились, быть может, дождусь еще, чтобы узнать, ты спеши, мышонок, спеши-поспеши.
Глава шестнадцатаяЗаписка на синей бумаге
Тебя-то мне не обмануть, АКУТАГАВА, ты кончил быть и там, куда ушел, сказав, что видишь лишь два выхода: самоубийство или сумасшествие, но ты перестал быть и там, тебе показалось и там скучно, и бабочки, и колеса вертелись без звука и там, и ты решил уйти и оттуда, кончить свою смерть САМОВОСКРЕШЕНИЕМ, как твой двойник из СТРАНЫ ВОДЯНЫХ, твой поэт со странным именем ТОКК. Тебя-то мне не обмануть, АКУТАГАВА, ведь ты с тоски там решил кончить САМОВОСКРЕШЕНИЕМ, ты сделал это, ты воскрес во мне, у меня вертятся зубчатые колеса, и колит, и спазмы, все ты передал мне, все, кроме ЖАЖДЫ писать, все, кроме этого, и я лишь спасаюсь от скрежета колес, от скрежета зубовного, АКУТАГАВА, спасаюсь, лишь рву веревку, а вовсе не пишу Шелестящие бабочки с красными глазами стучат-скребут лапками по стеклу на свет, когда я сяду, сяду писать, чтобы не повиснуть, висеть-качаться, да и ты ведь сам, АКУТАГАВА, ушел и оттуда, ушел, СПАСАЯСЬ, и не подумал обо мне, о судьбе твоего спасения, значит, и мне повторить такой путь, а что будет уж с тем, в кого, разлюбив быть мертвым, воскресну покорно я? В кого спасусь? Я пишу эту записку на синей бумаге, я даже послал Ирину искать тебя, чтобы передать мои слова, но тебя же ведь нет там, АКУТАГАВА, и Ирина не найдет тебя никогда, и я никогда не узнаю, не смогу дождаться, что она нашла тебя, что вы встретились с ней, что прочел ты мой упрек; и она, ИРИНА, хоть и будет знать, ведь прочтет она мою записку, хоть и будет знать, что никогда не найдет тебя, АКУТАГАВА, все же будет проклята искать тебя, потому что я попросил, я, и зачем? Зачем услал я ее к тебе, зачем теперь уже ОНА пошла все же выполнить мою волю, раз знала уже ОНА, что не сможет?
Ты не знаешь, АКУТАГАВА, кем стала дочь сумасшедшего с вечно прохладным лицом, и неужели и ЖЕНЩИНА твоя, АКУТАГАВА, воскресла вместе со мной в мою?
Тебя-то мне не обмануть, АКУТАГАВА, ты знаешь, что решил я, и потому я просто хотел узнать у тебя, неужто ты не решился покориться, не решился сойти с ума и испытать, что это такое, и решил умереть, неужто из страха, из людской гордости, из людской морали? Что пугало тебя в сумасшествии? Шелест бабочек и панический страх, который бьет снизу между ног вверх по позвоночнику, срывая в холод голову? Физическая боль? Или все же людской страх быть идиотом, чтобы текла слюна и дрожала рука с пером? Как узнать мне, что было с тобой, почему ты не подумал обо мне, ведь ты знал, что не сможешь протянуть долго и там, ты забоялся, АКУТАГАВА, или ты решил, что должен породить меня, и потому умер, зная, что скоро решишься воскреснуть? Если это так, пусть будет тебе это вечным упреком, и ты услышишь его, узнаешь его вечность, я ж дойду до другого, хочу разобраться, что это значит СОШЕЛ С УМА, что это значит быть СУМАСШЕДШИМ, и потому, АКУТАГАВА, мне не обмануть тебя, ты знал всегда, что я решил.
Глава семнадцатаяБлагословите, пастырь, благословите
И все-таки у Фомы было совсем крохотное шевеление, шевеление-чуть-чуть, что отчим заговорит, Фома не торопил его, это свое знание, не торопил и не гнал, а смотрел на него, как оно там постукивает, слушал его незаинтересованный тук-перетук. Уж слишком отчим горячо молчал, что исповеди не надо, что не жаждет ПРЕСТУПЛЕНИЯ, уж слишком горячо, так, что в этом нежелании говорить, в этом нежелании исповеди и слушателя было уж свое, другое ПРЕСТУПЛЕНИЕ, другое, даже более сладкое в своем молчании; и придумал Фома, что такому вот ИСХОДУ отчима все же нужно понимание, нужно, чтобы приняли, поняли всю его сложность, печаль, но и гордость, потому Фома ждал, немного пугаясь этой сложной игры молчания, ждал, хотел зачем-то покорить отчима, приказать ему просить, как и все, венчания, а не дать ему как заслуженное, как награду и признание, хотел все же, чтобы тот поломал себя и попросил, и вот если бы не было гордости в молчании отчима, он, быть может, и сделал все сам, но теперь ждал, словно ему было очень важно это зачем-то, может быть, он хотел правды, как платы и искупления своего урока быть пастырем, хотел, чтобы все было честно и по правилам, чтобы оставлять себе толику мысли, что вот его просили, очень просили и он сделал, не устояв, а не потому, что есть в нем, в Фоме, сладкая гордыня решать других.
Так, нехорошо зная все друг о друге, они сидели у мокрого костра. Стало утро, и мальчик, спаситель Фомы, принес из дома герань в горшке, большой рыхлый цвет; принес, прижав к животу, и листья качались туда и сюда. Принес он и детскую лопатку, которую засунул на ремень саблей, чтобы мешала быстро идти, чтобы не дала бежать от погони, саблей-дырой в стопах, чтобы не бежать любви и камней. Он присел и поставил горшок рядом, стал рыть ямку, чтобы прикрыть притихшую собаку геранью, чтобы потом приходить сюда и лить в нее воду, мокрую воду памяти и испуга смерти живого у тебя на глазах; он, мальчик, помнил, как однажды в деревне у его бабки не могла разродиться кошка, очень плакала, потом умерла, а в нем осталось ее прощение, укор ему, что вот он есть и смотрит, и в боли может позвать на помощь и объяснить свою боль, а она вот нет, и он, только он виноват в этом, и собака, он знает, он знает, думала, пока летела к земле, то же самое. Мальчик принес с собой и маленькую лейку, которая текла через дно, и полил герань водой, а потом как-то недоумевал, что вот все быстро сделалось, а облегчения нет, и что бы еще сделать, а потом увидел недалеко жетон-собачий номер, который, видно, оторвался при ударе, взял его, почистил от грязи, подошел к отчиму спросить, пусть он будет ему на память, увидел отчима, принес ему в своей лейке воды умыть лицо и руки, и отчим сделал это, потом мальчик снял с него кулечки носков Фомы, лил высокой и длинной струйкой на ноги, а отчим тер их пальцами, а Фома смотрел на них и ему ничего больше не хотелось на свете, только бы не прекращалась эта игра, только бы не скончалась. Потом Фома увидел, как вдруг отчим взял свое плечо и прижался щекой, утихнув, а мальчик льет воду наземь и в ней крошится солнечный луч, Фома обернулся, и золотое горе ударило его по глазам; мать, мать и жена, пришла к ним, пришла к ним двоим и к мальчику тоже, но он, мальчик, не знал, что этот луч был раньше матерью человека, которого он прикрыл от ударов, и женой вот этого старика, у которого разбился пес и который не хотел уйти от его могилы, чтобы одеться и умыться он, мальчик, сощурился лучу и стал в него греться.
Фома знал, что отчим ждал мать с вечера, ждал утра и солнца в нем. Отчим Фомы улыбнулся лучу, улыбнулся Фоме, что прав ты, Фома, я ждал и я дождался, ты описал меня в своей пьесе «КРУГИ», Фома, ты все рассказал обо мне и себе, все хотел рассказать, лишь одного не открыл ты и потому сотворил ложь, Фома, большую, несправедливую ложь, Фома, ты не сказал, что я любил ее, очень любил, а она изо всех сил хотела отблагодарить меня за тебя, за себя, она так старалась полюбить меня, чтобы мне было хоть чуть легче, так старалась, что говорила во сне мне, что я твой отец, Фома, она никогда не могла забыть его, была благодарна мне, хотела помочь мне, и ранила нестерпимо. Твой отец, Фома, говорил, что берет меня в свою ватагу, потому что я никогда не смогу стать взрослым, потому что первая моя ребячья любовь так и осталась одной, ты будешь у нас счастливцем, кричал он, смотри, Арахна, воистину любящий, не любимый, а любящий, счастливец, смотри на него, Арахна, быть любимым большое горе, Арахна, а этот, посмотри на него и запомни, этот не любим, но любит. Однажды я сказал ему, ведь я психолог, Фома, профессор психологии, Фома, я сказал твоему отцу, что люблю женщину, которая была прежде его женой и помнит только его; тебя, пастырь, помнит и любит она. Что мне до того, ответил он, почему ты, а не я, и почему я, а не ты, проклят в иное венчание, проклят пить ЖАЖДУ, а не любить женщину, не любить пахнущего сына, а только потом повиснуть у нее на ограде раньше тебя, слышишь ты, много раньше тебя повисну я на ее могильной ограде. Так мне сказал твой отец, Фома, пастырь нашего списка. Твоя мать любила в нем эту вечную неуемную тоску быть одиноким, она узнала всю меру ее, всю неподвижность этой тоски, всю безмерность дыры, которую хотела залатать, и так всегда, Фома, любящий не пресытится, потому что пьет он ЖАЖДУ другого испить, невозможную, сухую ЖАЖДУ, только иногда кажется людям, что вот и все, вот им отпущено сполна, но ошибаются, или не хотят узнать, что и им не удалось обмануть других, не суметь уйти от себя. Я ж, Фома, задохнулся своей любовью, задохнулся, и тогда твой отец посмотрел на меня серьезно и сказал, что если у него достанет силы, он благословит меня первого, ибо много претерпел, пусть отдохну, он хотел отпустить меня первым, без очереди, и не успел сказать тебе, а ты был у Арахны и у Надз, и только вчера набрел на меня, я уж пса послал сыскать тебя, его дома неделю не было. Ты знаешь, Фома, в твоей пьесе «КРУГИ» есть много пристойной психологии, неужто и ты, Фома, любишь покорно женщину? И она не любит тебя? Ведь Ирина любит? Хотя я должен тебе сказать, Фома, что все свои лучшие работы по психологии, те, от которых, как ты пишешь, у меня розовеют щечки, я написал, когда сильно, почти невозможно тосковал о твоей матери, которая старалась, так старалась показать, что уже стала немного любить меня и ласки ее несут и ей радость. Ирина не любит тебя, Фома, не любит, слышишь, она любит ЕГО, и ты знаешь это, знаешь, что проклят любить и потому отец передал тебе паству свою, потому, что проклят ты все же любить женщину, и хоть много в тебе от отца твоего, все же сын ты, Фома, своей матери, а ее проклятье было любить отца твоего, любить, зная все наперед, любить его тоску по ласке в невозможном одиночестве, так и ты, Фома, проклят любить Ирину, сестру твою, проклят любить ее тоску по НЕМУ. Вот почему так ранили тебя слова матери о «КРУГАХ», нет, тебя не волновало ее мнение о стиле и слоге, нет, заболел ты, когда она сказала, что надо бы просто повалить в сено, но как повалить, если сено возможно лишь в жаркую одурь, а где ж ее жаркая одурь, если все время с вами лежит третий? И она старается, твоя Ирина, хочет изо всех сил пожалеть тебя, и даже легла с тобой у Арахны, и пришла к тебе, и просила, чтобы помог ей после смерти отца, как когда-то она тебе, но нет, ты сам знаешь, что запродана она, как и ты, совсем другому, она дочь твоего отца, слышишь, она дочь отца, и только питие ЖАЖДЫ ЕГО может насытить ее, потому и легла при мертвом. Нет, нет, не уходи, Фома, не уходите, пастырь, ты понял теперь мою тоску, мне не надо просить благословения, судьбу всех я ношу в себе, я давно задохнулся своей и только чужие жизни живут во мне, а я уж больше не могу их терпеть, как вот твою, Фома, и Ирины, и пса, и мальчика, который спас тебя, а не знает, что еще ему предстоит, лучше б бил бы тебя со всеми, потому что не знает пока он, что ляжет вместе с ЖАЖДОЙ пить песок, когда ты закроешь могилу, а я не могу жить, зная и это, я давно уж, слышишь, давно захлебнулся своей водою, и отец твой знал это, и обещал отпустить меня, оформить просто мой уход. Мы с тобой сидим и молчим, твоя мать пришла, Фома, к тебе, понимаешь, опять к тебе, хотя села на мое плечо и греет меня, и изо всех своих прежних сил хочет помочь мне, хочет сказать, что любит меня, вот и грею твое плечо, и сквозь пальцы пробьюсь-проберусь, и сломаюсь огнем в воде; но все же, Фома, пришла она последить, чтобы я не слишком-то просил тебя, то есть не слишком бы много рассказал тебе о тебе и Ирине, пришла она, чтобы прожечь мне кость, если я посмею забыться в своих просьбах, если вдруг обижу тебя, Фома, тебя, ЕГО СЫНА. И Арахна, и даже Надз были сразу запроданы в их ватагу, сразу запроданы быть детьми и созреть в зрелость к смерти, понимаешь, Фома, сразу, это было естественно для них, они немного куражились, но уходили просто и спокойно, немного волнуясь, конечно, но не больше, чем дрожит мальчуган, голый мальчуган перед первой своей голой девчонкой. Я ж, Фома, принял эту запроданность в себя через иное, я умер, Фома, хотя вовсе не хотел этого, мне было больно, Фома, я уж давно повенчан, Фома, как и ты, понимаешь, ты тоже уже повенчан, мой пастырь, и повенчали тебя не мольбы твои о полной мере, и не мольбы твои о слабости, вроде сильный ты, и печален своей силой, а повенчан ты, как и я, Фома, нерешенной своей любовью, потому и не хотел быть пастырем, потому и не мог спокойно принять свою паству, как взял ее твой отец, избранный, а их немного, Фома, раз и два, и не они суть, а вот мы, подстреленные влет, мы ведаем, что с нами, а те и не ведают, что творят. Отпусти меня, Фома, пусть я больше ничего не буду молчать, ты убей мой мозг, Фома, потому что все равно, молчи-не молчи, ты знаешь другой язык, ты умеешь, тебе не надо слов, и если ты не отпустишь меня, то пойми, пойми мою муку, твоя мать пришла лучом сюда, чтобы сжечь меня, понимаешь, сжечь, если буду просить тебя нестерпимо, а я не могу не просить, я ж не волен не думать, я волен молчать, я молчу, но не думать не волен я, она пьется, ЖАЖДА моя, дай мне, пастырь, благословение, нестерпимо жжет твоя мать, и не боль эта обидна мне, а то, что она, понимаешь, она, пришла опять защитить тебя и убьет все во мне сейчас, и не смерти своей боюсь я, но обидна мне смерть от нее, помоги мне, Фома, отпусти меня, Фома, я же люблю ее, мне обидно, Фома, смерть принять от нее, отпусти-помоги мне, Фома. Отпусти меня, Фома, Ирина твоя ушла из дома, ушла с запиской от НЕГО к Умершему японцу, понимаешь, ушла искать по воле ЕГО то, чего никогда не найти, и все же ушла, оставив тебя, убей же меня, Фома, за такую весть, убей-избавь от смерти, от любимой моей избавь, видишь, вот дыра открылась-прожглась у шеи вниз, прямо к сердцу трудится она, не дай мне принять и эту обиду, спаси, унеси меня, Фома, убей мой мозг, чтобы он замолчал, чтобы ты не слышал меня, может быть, тогда и она не услышит, и перестанет, ой, больно мне, Фома, старый пастырь, приди ко мне, старый пастырь, спаси меня, это несправедливо. И снег пришел, он погасил луч, он успокоил своего внеочередного, присыпал его, сровнял с собакой, которая тихо и ласково заскулила, видно, нашла и дождалась его там, видно, стала лизать.
Глава восемнадцатаяПойдешь, Фома, пойдешь
Этот срок пришел, Фома, срок свидания, срок ПРЕДАНИЯ, ты пойдешь к нему и скажешь, чтобы шел на суд, я встретил Ирину, Фома, твою жену и сестру, и мою дочь, она бежала в светлом лице, в руке у нее была драгоценность, она прижимала руку к горлу, она бежала, она спешила, она ЗНАЛА, куда и зачем торопится. Твой отчим,
Фома, сказал, что она несет записку умершему по ЕГО поручению, но он не сказал, что в этой записке, а я только раз видел такое лицо у Ирины, только раз, когда по ней в детстве в деревне в жару скреблись цыплята, и белые царапки оставались ее коричневым ногам и плечам в память, у нее, совсем маленькой тогда, было тихое лицо, лицо встречи и утоления стражды, и такое же лицо было в ее беге. ОН взял ее себе, Фома, и ты скажешь, чтобы он шел на суд, и ты сейчас готов судить, потому что Ирина обидна тебе, ты будешь много жаден до истины, потому зови ЕГО на суд, а я созову судей. Все готово к ПРЕДАНИЮ, Фома, а ведь и все мы, и ОН тоже, лишь и нужны, чтобы понять свою готовность к нему, чтобы суметь оставить его, ПРЕДАНИЕ, иным, кто захочет его узнать потом, кто захочет открыть его внове. Потому, ты беги.
Глава девятнадцатаяБольшое объявление на столбе
На высоком столбе в центре города можно было всем, кто хотел, прочесть следующие слова:
Читатель! Читатель! Читатель!
Ирина еще не вернулась, и потому я сам написал эти строки от руки, и привесил вот здесь на столбе, чтобы каждый, кто хочет прочесть, прочел, и понял, что происходит и произошло. Сегодня в полночь ко мне придет посланник Фома, чтобы звать меня в суд, где он будет председателем, и где вся паства отца его будет судьями, знакомыми судьями, потому что, мне кажется, я представил их достаточно полно, чтобы вы, зрители и слушатели суда, знали, с кем имеете дело, ведь вы обязательно прибежите пораньше занять хорошие места, чтобы было и видно и слышно, и вам надо знать о судьях много, чтобы делиться жадно вестями. Этот суд я задумал давно, я не знал, как к нему подступиться, потому что во мне было много обиды и горечи, и я боялся, что суд превратится в одинокий, тонущий плач, но потом постепенно я понял, что мне надо СОЗДАТЬ достаточно серьезных судей, чтобы я мог защищаться, мне представляется, что присяжные интересны, быть может, правда, я заблуждаюсь, но это мой суд, суд надо мной, и у меня нет отвода. Итак, все, что вы терпеливо узнали на прежних страницах, были сведения о суде, ведь всегда надо знать, кто будет судить, может быть, и сам попадешь к ним в лапы, потому я и старался представить их вам достаточно полно, быть может, и вы однажды ночью, оглядываясь, в нижнем белье, приклеите к столбу мокрым хлебом свое объявление, что завтра прозвенит и ваш суд, ваш черед, а в нашем местечке они, и только они, будут присяжными, других не сыскать, вот я и думал о них, думал и узнавал. Быть может, правда, у каждого из нас свое местечко, своя земля, и мои присяжные не пригодятся другому, кто вольно или невольно попадет под процесс, ну что ж, тогда просто из любопытства, человеческого любопытства, приходите на суд в другой стороне, а если придете, то ведь вам надо знать об обычаях этой страны, и тем более надо было прочесть краткие сведения о составе суда.
Председательствующий Фома, он и главный обвинитель. Присяжные: отец Фомы, мать Фомы, отчим Фомы, Арахна, Надз, Ияса, Мышь, Ирина, Мальчик, Эдип, Сфинкс, поэт Токк.
Глава двадцатаяЯ немного стоял у столба
Я немного стоял у столба и незаметно слушал кое-какие разговоры, и тихо заплакал, когда услышал, как один хорошо одетый господин, которого знали и уважали в городе хорошие люди, сказал, что все это самонадеянный бред, претензия на универсальность, эпигонство, не сам, не сам, не сам, перепевы зарубежных веяний. Этот господин много раз бывал за рубежом и, судя по его наряду, действительно много узнал там, но о нем хорошо говорили хорошие люди, и я незаметно, обидно заплакал, тихо заскулил себе сзади, а он обернулся и спросил, чего ж это я плачу. Я сказал, что мне жалко того, кто повесил это объявление, в нем мелькнула жалость к моему убожеству, он похлопал меня по плечу, сказал, чтоб я больше читал, чтобы был, так сказать, в курсе, тогда мне не будет жалко этих эпигонов, этих… господин ловко прищелкнул пальцем, убивая меня щелчком. Но я сказал, что мне все равно его жалко, такого, какой он есть, потому что он рвется и рвется наружу, он хочет встречи, болеет сам, и заставляет болеть и умирать меня, если я долго не зову его, чтобы поболтать, чтобы он мог немного поправить миром, своим миром, царствием своим, где он царь, но только тогда он царь, когда я, много переболев, устало отворяю его тюрьму, чтобы он вышел на прогулку, чтобы построил в моей тюрьме свое царство, чтобы зазвенели у него детские дуделки караульной службы, чтобы сменялись там люди на вахте друг у друга. Вы, видно, его хорошо знаете, спросил господин, потому и плачете, но я вот лично не знаком, и потому могу быть достаточно объективным, и не ищу сочувствия к нему. Я сказал, что вовсе не знаю его, что узнаю о нем только по тем коротким страницам, которые он оставляет на мощеной мостовой тюремного двора, но что очень, очень жаль его, потому что я могу убить его совсем, если не буду открывать ворота, а у меня совсем уж нет сил, нет сил поднять звенящую связку ключей, я плачу, что вот он придумал этот суд, и всех судей себе придумал, судей своего царства, своего местечка, как он говорит, а вдруг у меня завтра не достанет сил снять ключ и выпустить его на прогулку, и тогда его суд, его справедливое судопроизводство не состоится, и вот такие господа, вот такие, как вы, хороший господин, отнимаете у меня силы, вы это делаете хорошо, потому что вам-то не нужно присяжных, вам не нужен он, ведь у вас никогда не будет суда.
Ха-ха, сказал господин, о котором хорошо говорят хорошие люди, ха-ха-ха – всеобщее чувство вины, читайте, молодой человек, читайте, необразованность задушит Россию.
Я тихо стоял у своего столба и плакал в утро на рассвете.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.