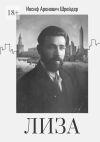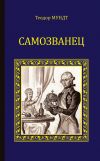Текст книги "Смертию смерть поправ"
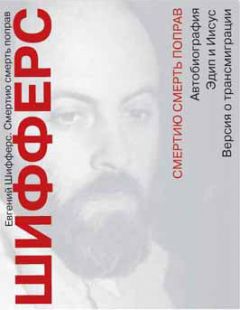
Автор книги: Евгений Шифферс
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
Глава девятая
Тотем
Шаг хозяина закручивал тропу все вверх и вверх и правым боком все ближе к плечу горы, чтобы не упасть влево и вниз, чтобы не повернуть голову на отчаянный крик остающихся маленьких, чтобы не забыться в этом повороте, чтобы не бросить свою тоску по ним назад в долину, чтобы идти вверх и вверх, туда, где горькие травы и гомон тонких рек. Он шел, прикрыв левый глаз, потому что был очень старый и у него у самого кружилась голова от высоты, но нельзя было сделать вида, потому что и так уже многие бабы ворчат, что он стал слаб, что его не хватает на всех весной, что надо бы молодого с большим неуемным желанием взять в хозяева стада, пусть дерутся насмерть, как это всегда было определено законом; но он, старик, и уходит-то, бросая детей, потому что самки становятся на ноги быстрее и ловче, а самцы, которые могли бы подрасти и вступить с ним в бой, еле-еле умеют свои первые шаги, и их он бросает в долине. Он шел, прикрыв левый глаз, и терся боком о камень справа, и тяжелую голову клонил тоже вправо, и большой рог острился о камень, о, он очень старый и очень многое знает, он хитрый старый козел, он знает, где свернуть с этой усталой тропы, чтобы найти соль, и смотреть, как они все будут забывать оставленных, как будут толкаться задами, чтобы лизнуть местечко получше, и никто из них не заметит, что он бродит среди дошедших маленьких, нюхает их, ищет СЕБЕ подобного, ищет свой запах, и если находит, то бьет своим заточенным рогом по стопам его, и сбрасывает вниз, к ручью, или просто отходит, а тот уж не может встать и кричит, кричит, но стадо, пьяное солью, уж не будет слышать его, а будет бежать вверх и вверх по тропе, вверх, где оно слышит реку, тонкими струйками молока начинающую свой путь. Нет, до весны, до этого безумия, они будут в узде у него, вот весной, когда он усталый будет не хотеть их, они будут роптать, и кусать его, и ему будет страшно, по-настоящему страшно с ними, он будет бояться, что может самая горластая столкнет его прочь и станет хозяином стада, вот какие глупости будут приходить ему на ум от большого страха и стыда, что он уж не может работать свое дело по закону. И тогда он будет торопить снег, чтобы тот пришел еще пораньше, чтобы бросить еще маленьких, потому что все многих и многих приходится ему добивать в пути, пусть лучше остаются сразу, потому что он стал замечать, старик, что они вроде знают там у соли, что он подходит к ним убить, пробить наточенным рогом стопу и сбросить прочь, что они знают, и молча ждут его удара, а он, под этим их ожиданием, уж промахивался много раз, а соли все меньше и меньше в его секрете, а другой жилы он не знает и прежнего чутья на влагу и запах соли, пряный и пьяный, у него нет тоже, как нет спокойствия смотреть обоими глазами, чтобы не кружилась от высоты голова, чтобы не тянуло все слаще и слаще влево, влево и вниз, прочь с усталой тропы, где стираешь старые ноги в кровь, и лезут камни осколками боли в трещины старых копыт, в нежное, еще молодое там, за укрытием, мясо. Он шел по тропе, и точил, как старый точильщик в наших дворах из детства, свой нож о стену скалы, и искры летели влево и вниз, а сам он шел все вверх и вверх, туда, где горькие травы, где скоро соль, и хоть на время крик почета ему от баб, крик утехи и вроде покоя, крик, который глушит его страх перед глазами следующего, которого он ударит ножом, старым ножом, заточенным длинной тропой. А тропа, помощница хозяина в его делах, делалась все уже и круче, и каждый, кто падал теперь от усталости там сзади хозяина, мешал идущему следом, и его сбрасывали вниз, чтобы не пасть самому, и эти уставшие были все те же малыши, которые могли бы вырасти и победить старика, и утихомирить орущих по весне баб, и даже измучить их своим желанием. Но этого никто не знал в стаде, и оно шло, шло себе вверх по тропе, у которой, видно, тоже был сговор со стариком, с хозяином, как и у снега, и как у соли, которая открылась ему, тогда молодому и сильному, откуда-то много знавшему все, что он теперь забывает. Он шел, потому что ему невозможно было остановиться, он был обязан нести ритм своего шага, он мог замедлить его или ускорить, но никогда – прекратить. Он шел, потому что ходьба умело гнала кровь туда и сюда, умело гнала страх остановки крови в каком-нибудь месте, если он остановится передохнуть сам, скорей, скорей тропа веди меня вверх, где справа, я знаю, должен быть пряный запах соли, и тогда все кинутся к ней, а я смогу заняться своими делами, смогу открыть оба глаза, потому что там нет обрывистой высоты.
Он шел, чтобы прогнать страх, что соль потерялась, потому что вот этот и этот запах говорили, что она где-то рядом, а он все шел и шел, и маленькой тропы вправо в лощину все не было, и в нем узнавалась беда, которая двигала ноги вслепую, чтобы только не остановиться, чтобы только не встретить ее глаз в глаз, чтобы не признать беду, а идти и идти, напрягшись жилами, идти-может-быть-обойдется. Он пересилил боязнь высоты и оглянулся влево на свое стадо, оно шло, и маленькие все же были еще в нем, маленькие, пухлоногие, голенастые, кривачи, ЭДИПЫ. Если бы их не было, он бы плюнул на эту проклятую соль и шел бы себе вверх, и все бы шли за ним БЕЗ СОЛИ, но он не может привести туда в горы молодого пухлоногого, который вырастет к весне и под улюлюканье баб бросит старика прочь, идите, ноги, идите, ищи, нос, соль и найди, вон там сзади, один идет как-то странно ковыляя, все больше на задних вроде лапах, я помню, он остро пах будущим сильным, где ты, тропа к соли, где же ты, ужели тебе незнаком этот страх старости, когда надо, пока еще есть силы, пробить тому пухлоногому стопы и сбросить его с обрыва, пока бабы будут лизать пьяную соль, помоги мне, тропа, помоги, он совсем не устал там сзади, он даже играет с кем-то и совсем не боится высоты, и уже сейчас поднимается на баб своими короткими передними лапами, и ему удобно покрыть бабу из-за длинных своих задних. Старик выдавил наружу свою просьбу и стадо ответило разными голосами.
И тропа к соли услышала старика, она открылась за углом, спасла старика от позора и ожидания, зимнего холодного ожидания боя по весне, спасла, потому что сама была стара, или потому, что не могла противиться этой истории, которая сейчас только начиналась, и которую никто, как бы он ни хотел, не мог изменить, не мог оттянуть и остановить, она была не подвластна никому, потому что она была всегда, а сейчас просто настало ВРЕМЯ ЭДИПА, пухлоногого, которому пробьет стопы старик-хозяин и бросит его в молоко ручья, чтобы он напился там вволю, чтобы задохнулся от этой пищи.
Бабы толкались задами к совсем узенькой полоске соли, ворчали, пьянея. Маленький со странными ногами ждал старика, и старик сразу же это понял, потому что маленький лежал и смотрел на него все то время, что старик, расталкивая баб, шел к нему, к нему первому, чтобы избавиться от него, а потом уж искать и нюхать других; он лежал и смотрел на старика, а потом встал на свои проклятые длинные, пухлоногий, и сделал передними несколько движений, просящих движений, вроде просил не убивать его. Старик испугался его и этого танца, потому что никто, кроме него и снега, не знал о страхе старика быть убитым молодым, никто, откуда же этот знает, неужели снег проболтался, будет теперь с ЭДИПОМ морока, еще побежит куда-нибудь в сторону, не станет, НЕ ЗНАЯ, ждать старика и хвалиться, что дошел до отдыха, как это всегда делали другие, когда старик обнюхивал их и бил их, открытых, ножом. Маленький смотрел старику в глаза и старик знал, что тот все читает, что двигается в голове старика. Старик попытался изобразить некоторую нежность, потряс смешно бородой и рогом копнул землю, но маленький от этой игры старика прянул в сторону; эге, шевельнулся старик, нечего с ним хитрить, надо догнать и все.
А Эдип прыгнул в толпу, которая лизала соль, но он всем мешал там, и они выбросили его наружу, выбросили к старику, потому что им надо было лизать и лизать, а там уже соли мало, а тут еще он топчет ее, и нечего кричать, пошел вон. Старик рассмеялся, когда увидел, как тот пытается спрятаться в толпе, э, совсем еще маленький, совсем дурной, ищет, чудак, защиты. Эдип опять встал на свои длинные задние и повертел около носа короткими передними, опять попросил старика не убивать. И тогда старик ударил его, нагнул голову и ударил правым наточенным ножом снизу вверх, услышал крик и запах крови и ударил еще и еще, зная, что попадет. В последний удар его нож зацепился за пробитую кость, и старик потащил маленького к обрыву, и там долго тряс головой, пугаясь, что скатится вместе с ним вниз, долго тряс и наконец сбросил, смотреть вниз не стал, потому что боялся высоты и пошел назад, и нюхал еще двух, но те приняли смерть покорно, не ведая дел старика. Потом он растолкал зады баб, и они уже хихикали в играх с ним, и сам стал жадно лизать и лизать, забывать стал старик о сделанном, и только красный его нож мешал покою; но вот он копнул им соль и кто-то из стада облизал ее, вымыл красноту стариковских страхов. Старик лизал и лизал, и ему было хорошо и покойно, потом он пошел в сторону и лег на камни, и прикрыл правый глаз, который устал от долгой тропы и работы, и открыл левый, чтобы тот смотрел тревогу, и отдыхал тоже, потому что устал быть испуганно прикрытым. Бабы полегли вокруг хозяина и стало тихо, только вода где-то внизу и вверху стучала-стучала камни.
Глава десятая
Веселые параграфы
§ 1.
При половом акте, акте исторжения себя из себя, акте разложения себя, разложения какой-то массы по формуле Эйнштейна Е=МС2, выделяется энергия – ЖАЖДА жить и множить рожденный, СЫНОВНИЙ мир, жажда всего живого, которая, конденсируясь, вяжет массу плода.
При половом акте смерти, акте исторжения себя из себя, акте разложения себя, разложения массы белка, по той же формуле должна также выделяться энергия, ПСИХИЧЕСКАЯ энергия, продукт прожитой жизни с ее потрясениями и страхами, продукт индивидуальной жизни, и качество этой энергии находится в прямой причинной связи с жизнью конкретного субъекта. Эту энергию надо бы зафиксировать и измерить, потому что мне кажется, что она находится в непосредственной связи с зарождением сознания первочеловека и с каждым все новым и новым рожденным в мир.
Если найдутся ученые, которые поймут меня до конца, я готов предложить для этого опыта себя.
§ 2.
Макс Планк открыл, что атомы излучают и принимают энергию всегда только порциями, ПРЕРЫВНО, а именно определенными квантами, квантами энергии. Далее было открыто, что свет также состоит из квантов, движущихся со скоростью света.
Гейзенберг и Дирак ввели понятие «соотношения неопределенностей», которое говорит о том, что нельзя одновременно определить положение электрона в атоме и его импульс, чтобы не нарушить какую-то из этих координат. Более того, они вместе с Нильсом Бором говорят, что это невозможно еще и потому, что существует неконтролируемое взаимодействие между объектом и прибором, что средства измерения влияют на качество измеренного, изменяют его, и потому необходимо говорить о статистической вероятности полученных данных в их приближении к некоей истине, о превращении и замещении частиц, а не их соединении и расщеплении.
Вероятно, формулу Эйнштейна, что невозможно для нашего прекрасного научного сознания, надо бы записать без знака равенства, целиком ЕМС2, потому что ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА возможного в действительное неуловим, и мы говорим вместе с Максом Планком о скачкообразном развитии мира и всегда будем упираться в то или иное СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ, пока будем разделять физический и психический мир, живое и неживое, организм и среду.
Но если бы мы смогли записать и понять эту формулу неделимой в своей бесконечности, то тем самым записали бы формулу нашего процессуального бытия, где все мы, и земля наша, существуем в солнце, исторгнуты из него, и потому берем для нашего прекрасного научного мышления его скорость, скорость света, как ПОСТОЯННУЮ. Мы записали бы формулу нового крещения и нового учения: Идите, научите все народы, крестя их во имя ОТЦА и СЫНА и СВЯТАГО ДУХА, как об этом рассказывает Матфей в жизнеописании Иисуса Христа.
Во имя ТРОИЦЫ.
Мы записали бы формулу живого, когда все в каждую секунду и ТО и уже НЕ ТО, и несет уже в себе отрицание себя, и утверждение вновь, потому что отрицание также отрицается изнутри в себе заложенным новым отрицанием.
§ 3.
Жизнь – это и есть возникновение ЖЕЛАНИЯ ИСТОРГНУТЬ СЕБЯ ИЗ СЕБЯ в едином, где и желание это также внутри, а не извне.
Но ведь желание ИСТОРГНУТЬ СЕБЯ ИЗ СЕБЯ – это и смерть. Нету жизни И смерти, есть жизнь ИЛИ смерть, эти понятия адекватны, они вызваны единством антимонии сознания. БОГ в человеке – это спокойное ощущение неделимости понятий жизни и смерти, ощущение собственного бессмертия в сравнительных понятиях человеческого языка и его этики.
§ 4.
Познание может освободить людей.
Именно осознание собственной процессуальности, существования в ТРОИЦЕ, может изменить соотношение сил между людской оценкой понятий ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ, которые суть все же главные для людей, как бы глубоко и талантливо они не переплавлялись в неведомые сплавы сознанием.
БЛАГОДАТЬ БОГА все больше и больше отнимается у земли наших веков, эта сублимированная религиозность неистово уничтожается. Поэтому, и именно поэтому, взяв в себя истину иррационального, поэтического, мифического знания, имеет смысл попытаться разобраться в ней, сделать ее ПОЗНАЮЩЕЙ, расшифровывать ее, то есть вечно творить БЫТИЕ, оплодотворять его и рождать СЫНОВНИЙ мир ТРОИЦЫ; но никогда, никогда и никогда не надо, пытаться оторвать его, возвеличить и признать вершиной сыновнюю явь человека в мир, пытаться остановить ТРОИЦУ и убить процесс.
Расшифровывать БЫТИЕ, быть в нем, человек, его сознающее Я, может только средствами своего опыта, своего эксперимента, своего контура, своей схемы – так коротковолновый приемник не расшифровывает хаоса длинных волн, – то есть, только средствами и понятиями человеческого существования-пространственно-временными, зрительными, звуковыми и т. д. И психическая энергия, и энергия мышления будет квантоваться сокращениями гортани в слова, а мы будем фиксировать этот феномен, будем долго и упорно отрицать бессознательное-ноумен, который дает нам феноменологию слов, или признав его, будем пытаться отделить его в противоположность, опять пытаться остановить процесс, остановить время, ибо время – это и есть, вероятно, желание пространства исторгнуть себя вовне. Мы говорим о едином четырехмерном континууме физического мира, но все же не только ФИЗИЧЕСКОГО, мы по-прежнему отделяем себя-СЫНА– от-бытия-ОТЦА, все же хотим в своей пустой гордыне буржуа остановить ТРОИЦУ, обожествить лишь одну ее ипостась – СЫНОВНИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА, обожествить или проклясть за трагизм или бессмыслицу.
Мы боимся смерти, но не хотим подумать, что, быть может, без этого полового акта в бытие, без выделения нашей индивидуальной энергии не будет зачатия в новое сознание человека, в нового малыша, как и не было б сознания прачеловека, сознания человечества, без многих смертей иных живых до нас и вместе с нами?
Каждая смерть человека есть одновременно рождение кого-то другого на этой земле, и так во веки веков, пока мы все, человеки, не уйдем в ИНОЕ, как уходили воды и травы, и звери, и солнце-В-ИНОЕ-В-НАС.
§ 5.
Нынешняя привязанность философии к религиозному, антираци-оналистическому мироощущению, и далее вообще к ценности иррационального познания мира, познания озаренной записью, есть, вероятно, осознанная или неосознанная до конца потребность в избавлении от страха ИНЦЕСТА (Фрейд), страха кровосмешения, сублимированием, а не, скажем, собственно психоанализом в расширительном смысле этого понятия. Ибо психоаналитическое освобождение от страха ИНЦЕСТА способом расшифровки и познания приведет и приводит к ТРАГИЧЕСКОМУ ощущению бытия-в-ничто в тех нравственных ценностях, которые освоены и чтимы человечеством, и к предложению переоценки этих ценностей, которые самому индивиду, самому автору, кажутся безумием или иронией, которые одинаково парализуют мозг и волю к жизни.
§ 6.
Послание апостола Павла к римлянам, глава 6, стих 3: неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во ХРИСТА ИИСУСА, в смерть его крестились?
§ 7.
14.000 детей убил в Вифлееме и его окрестностях царь Ирод, ища младенца Иисуса. Поэтому, когда он, Иисус, вернулся в Назарет, окрестность Вифлеема, там совсем НЕ БЫЛО ДЕТЕЙ и все евреи любили и смеялись, боготворили его, ТВОРИЛИ БОГА. Что делаем мы с нашими детьми?
§ 8.
Интересно, во всяком случае мне интересно, что рука моя, так или иначе причастная к фиксации этих раздумий, все больше и больше болит, сводится судорогой, я не могу написать больше трех-четырех строк подряд, чтобы не быть вынуждену прерваться и мять пальцы. Когда же я сажусь за машинку, то через час-полтора нестерпимая боль между лопатками, вроде грудной жабы, изводит своей покорной незаинтересованностью и длительностью, гонит встать из-за стола. И если к этому прибавить постоянную, все парализующую тоску или иронию, плач обиды и одиночества, то картина войны, которая идет скрытно в моем бессознательном, чуть-чуть приоткрывается. Плюс: головная боль, горечь во рту, спазмы кишечника и поносы, страхи. О, эта прекрасная война уж очень напоминает мне симптомы Акутагавы в его ЗУБЧАТЫХ КОЛЕСАХ.
Глава одиннадцатая
Тотем
Эдип остался жить, потому что в эту историю никто не волен был вмешаться, ни острые камни, которые били его при падении, ни смерть, которую он мог принять от их ножей или от испуга, или от голода, или от много раз утоленной жажды, да, да, даже смерть не смела в этот раз своевольничать, ибо настал час ЭДИПА, и все в мире это так или иначе знали и ждали.
Он открыл глаза и увидел перед собой странных коз, которые стелились по земле и шипели; что-то, что он уже давно знал, говорило ему об опасности этого шипа и этих разрезанных пик, которые бегали туда и сюда из их маленьких безрогих головок, что-то звало в нем ринуться прочь и бежать, высоко поднимаясь в прыжке над землей, бежать, боясь укуса, и не смотря им в глаза, ни в коем случае не смотря, потому что тогда не захочешь бежать, а ляжешь и будешь ждать яда, как избавления от всей этой беготни; все кричало в нем об опасности этой встречи, но или он слишком устал, чтобы еще куда-то смочь бежать, или уже и в себе ЗНАЛ он, что наступил его час, который так просто не может кончиться, что все еще впереди. Он смотрел на этих странных коз и они смотрели на него.
Потом он отвернулся и стал лизать пробитую заднюю, она свербила и лежала отдельно от всех, от него, от его усталости, от змей, которые собрались посмотреть, отдельно от собственной боли и недоумения. Длинная задняя лежала и имела в своей стопе дырку, и это было несправедливо, это было плохо, в дырку набились осколки горы и травинки, которые торчали букетиком, и Эдип даже съел одну или две из них, из этих странных травинок с вырванными белыми корешками в красноватой земле. Потом к ноге подползла одна старая змея и приложила к дырке какую-то травку, сделала она это очень осторожно и умело, а потом обернулась несколько раз бинтом, чтобы трава не опала, не потерялась. Вероятно, Эдип был совсем маленьким малышом, потому что даже и в этот раз, когда змея обняла его, он не умер от страха, а скорее даже обрадовался, что вот кто-то позаботился о его ноге, что-то с ней сделал, сделал уверенно и просто, и болеть уже сейчас стало меньше.
Он лизнул несколько раз змею, он сделал это просто и хорошо, он ПРИКОСНУЛСЯ к ней, как много раз касался запаха, откуда шло молоко и тепло, и смелость иного, возле которого он лежал, пока не знал ходьбы и равновесия; он не юлил, не искал слабости, он тронул языком существо, которое сделало ему легче, тронул, как благодарность, и не более.
Змеи удивлялись ему.
А когда немного погодя, пока менялась травка в дырке, он стал на свои длинные задние и поднял опять передние к носу, двигая их сжатыми вперед к собеседнику, молодые змейки стали тоже вставать деревцем вверх, держась лишь на кончике хвоста, изгибаясь к нему головой, как он к ним своими руками. Это было удивительно печально и светло, это было хорошо, и многие змеи, старые и недвижные в песке, пришли и застыли смотреть в разных щелях и расщелинах, и птицы повисли в солнце, как звезды висят в ночах, и брызги ручьев спешили сюда и ломались, смеясь, в луче света, и ПРИКАСАЛИСЬ к Эдипу и змейкам, и студили смех стариков. А потом приползла та старая змея, которая лечила Эдипа, и увидела, что у него из стоп опять капает красное, так лихо он отплясывал в круге, и зашипела старая, чтобы убрать безобразие, ведь больные должны лежать-не-плясать, зашипела и треснула Эдипа хвостом по заду, чтобы ложился и не дурил. Маленькие змейки от шипа притихли, Эдип от шлепка свалился в тень горы, птицы подняли вверх свой гомон, что не обидно все это, что хорошо; и шип старухи и затрещина малышу, ты бы ведь тоже дала своему по заду, если бы он больной полез из гнезда, ведь дала бы, вот и старуха также, она не обижала его, вовсе нет, это нам всем ясно, она как мать имеет право дать ему хорошенько, раз он такой несмышленый и неслух, умора, как он двигал ножками и как те вертелись перед ним, но и мы хороши, смеялись, а у него кровь открывалась в стопах.
В тени горы ему опять положили на дырку траву, и еще ОЧЕНЬ СТАРАЯ змея полизала ему вокруг раны, и кровь испугалась прочь сразу; это была одна из самых старых змей и все очень обрадовались, что и она хлопочет возле малыша, что тоже ПРОЯВЛЯЕТ заботу, хотя вечно лежит в песке и молчит, хоть гори ты тут все огнем. А когда она встала перед малышом огромным серым столбом в небо и подвигала ему головой туда и сюда, то маленькие вылезли из себя от восторга и стали скручиваться и прыгать пружиной вверх и шлепаться влежку вниз, а Эдип опять захотел выкинуть свой фокус, но уже держал его крепко в землю ремешок сиделки-змеи. Потом ОЧЕНЬ СТАРАЯ поползла на свое место как-ни-в-чем-не-бывало, и сразу устроила серый свой бок в песок и солнце, и голову хитро упрятала от перегрева в собственную тень хвоста. Эдип узнал перед собой траву из долины, которую он дергал за зеленую зелень наружу, узнал другую траву, потому что эту принесла старая змея про запас, чтобы лечить его, чтобы не ползать каждый раз вниз, Эдип признал эту траву и стал ее легонько нюхать и не бояться, а потом попробовал хрумкнуть ее в себя, не горька ли, оказалось, что нет, и он подъел неторопливо весь запас своей старой тетки, которая свернулась у него на задней ноге и ничего не видела. Когда Эдип съел все, ему захотелось еще, и он попросил, прокричав об этой просьбе своим неумело громким криком, и маленькие змеи тихо прошипели ему КАК надо просить, но за травой охотно пошли, потому что слышали озабоченность взрослых, чем же кормить веселого плясуна, а тут вот все вышло само собой славно, и мы видели, что он ел траву и просил еще, и принесли ему, мы маленькие, которых вы все в грош не ставите и только шипите страшно и все, и слова доброго от вас не допросишься. Старая тетка лежала тихо, будто ничего не ведая и не слыша, будто она притомилась и уснула на солнце, лежала тихо и тихо смеялась говору малышни и добру и ЖАЛОСТИ, которые открывались в ней к этому чужому зверю, которых она много душила и пила раньше, а теперь вот греется изнутри любовью к этому, который смешно так двигает своими торчками, и глаза не отводит в сторону, а смотрит и смотрит сам, словно прощая за тех многих, которых задавила и выпила я до него. Это странное тепло изнутри грело ее старый бок, где были шрамы, грело как-то по-другому и дольше, чем греет и успокаивает солнце, о котором всегда знаешь, что оно уйдет на ночь, и к утру все равно будешь стылой на стылых мокрых камнях; а это тепло изнутри, наверное, будет сидеть сиделкой и ночью, потому что оно ВО МНЕ, а ведь я не ухожу никуда от себя на ночь. Пусть малыши принесут побольше мокрой травы, и пусть этот поест себе вволю, ЖАЛКО смотреть на него, как громко шумит, не умеет, не знает, видно, что тишина и шелест – это правильные вещи, не знает, дурачок, ЖАЛКО его. От этих неторопливостей внутри тепло разгоралось постоянством и вечностью, видно, и ОЧЕНЬ СТАРАЯ приняла в себя этот огонь, видно, ждала и дождалась, потому и подошла тоже, чтобы лизнуть, хотя я и без нее бы вылечила своего малыша; нечего лезть, но она ОЧЕНЬ СТАРАЯ, и ей нельзя перечить, да и ЖАЛКО ее тоже, ведь не может она теперь быстро-быстро искать теплые камни в темноте, и совсем седой, совсем белой лежит тихо в утре, совсем белой от мокрых вод на ней. Как это правильно, что есть, что берутся откуда-то малыши среди нас, как это правильно, как справедливо, потому что это они не ДАЛИ схватить теплого пришельца кольцом, схватить и выпить, как прежде, это они не дали, и теперь вот какое тепло зреет внутри нас всех, какое вечное-где-то-в-нас-скрытое добро и ЖАЛОСТЬ. Эге, даже ОЧЕНЬ СТАРАЯ выкинула номер, ишь ты, ОЧЕНЬ СТАРАЯ, а ничего еще себе, молодец, умеет над собой посмеяться, не стала камнем, о который бьешь лоб, даже ты бьешь лоб, не только что маленькие, которые вон и правда углядели, что ест пришелец, и пошли себе далеко вниз ему за травой, надо будет сказать всем на совете, чтобы поменьше шипели на малышню, а то вдруг разобидятся и уйдут, что тогда будем делать; да, да, так и припугну всех, скажу, что слышала, как они собирались уйти и решили в последний раз нас проверить, когда замкнулись стенкой вокруг упавшего сверху и не дали всем нам по очереди попить его, а стали тоже шипеть на нас, и мы тогда рассмеялись все, и не стали, и оставили жить упавшего сверху, да еще и он сам был какой-то чудной, совсем нас не боялся и смотрел в глаза; и тогда мы немного стали его бояться, потому что он умел незащищенность, умел ЖАЛОСТЬ к нам, сильным, что вот сейчас сомкнем его прочь и выпьем, а зачем и не знаем сами, да, да, он умел ЖАЛОСТЬ к сильному, а мы еще только учимся ЖАЛОСТИ к слабому, а уж и то, какое тепло внутри сеет она. Надо будет сказать, чтобы поменьше шипели, но, конечно, вовсе им дать волю тоже нельзя, хотя, э-э, кто это знает, что можно и что нельзя, может, нам-то и след слушать их волю.
А этот малыш, который упал сверху, быть может, тоже обиделся на своих стариков, на их шип, и ушел от них, оступился и упал вниз к нам? Как же те, которые остались без НЕГО, как же они? О, сердце, верно, разнесется по ветру, когда увидишь, как прыгают вниз от нас наши маленькие змейки, как одинокими черточками будут они пытаться соединить верх и низ, да, да, надо будет обязательно сказать на совете, чтобы перестали шипеть на них хотя бы на время, а потом, быть может, и навсегда, потому что уже они, маленькие, станут стариками и, наверное, будут помнить, как им было обидно в детстве и как их уважили, и будут теперь сами чтить этот новый закон. Старая змея усмехнулась и потянулась, и сделала больно Эдипу своей натянутостью, и он опять лизнул ее, что не надо, ты делаешь мне больно, и зачем? Конечно, может быть, эта малышня, которая станет стариками, будет долго помнить о своих детских обидах и решит не обижать новых МАЛЕНЬКИХ, конечно, очень может быть, но и нам, когда мы были маленькими, казалось, что мы навсегда сохраним в себе справедливость и жалость ко всем, но как-то постепенно эта ПАМЯТЬ истекала из нас, и мы не помнили напрочь своих детских клятв вечерами, когда старики уже свертывались в спираль, не помнили-позабыли, а то и старались НАРОЧНО забыть, потому что иногда все же всплывали они теплыми упреками, теплыми и светлыми, тягучими на одной протяжной ноте, которую надо скорее убить, скорее раздробить на знакомые звуки, пусть тоже страшные, но все же не так, как вот эта долгая и непрерывная печаль о невозможности сделать то и то, что тебе казалось надо обязательно сделать, непременно, сию секунду, а если не удастся вот сейчас, то и прыгнуть вниз маленькой гордой стрелкой, гордой стрелкой, прямой и не покоренной никем. Э, наше время, судя по всему, идет к вечеру, надо помочь малышне, и перестать сейчас шипеть на них, а то они будут делать друг другу клятвы, как мы, и не выполнять их, как мы, и печалиться старыми вечерами, как мы. Надо помочь им, надо собрать совет и просто так спросить их всех, белых и неподвижных, разве не помнят они, как болели в детстве от своих стариков, так зачем же забыли об этом, ведь это нехорошо и несправедливо, вон это к чему приводит, малыш-то, наверное, ушел от обиды вниз и только странно спасся, странно был спасен. Она им расскажет всем про их клятвы, она многих помнит еще узкими и вертлявыми, которыми все мы были, почти всех в совете помнит она неумелыми, вот только ОЧЕНЬ СТАРАЯ была уже тогда СТАРОЙ, и она всегда ее помнит белой в пыли и малоподвижной, и малоблестящей. Она посмотрела вниз и увидела, как маленькие тащат на себе траву, увидела и рассмеялась опять, и хотела потянуться, но вспомнила, что может сделать Эдипу больно, и остереглась. Маленькие стали в пары и нагрузили на себя поперек длинные травы, и двигались, косясь друг на друга, в одном ритме одного движения, и очень это было им по вкусу, такая совместность в заботе о другом, очень это было по вкусу, потому что иногда они СОГЛАСНО подпрыгивали вверх над тропой, и это было очень смешно, почти так же смешно и печально, как танец, который устроили они тут с пришельцем в кругу, и как танец Урии и Хаи, когда они отплясывали, хлопая друг друга по заду, у ворот дома Захарии, когда пришли забирать девочку свою Марию прочь из недоброго дома учения в свой стариковский с сумасшедшими запахами и историями, которые рассказываются друг другу тайно во сне по ночам.
Когда они поднесли свой МАЛЕНЬКИМ стожок травы к упавшему сверху, они, это хорошо видела старая змея, хихикая, спрятались сами в него, спрятались, стали травинками. Эдип стал жевать траву и очень испугался, когда они вдруг со смехом и шипом зашевелились у него во рту и стали лезть прочь, очень испугался, весь передернулся и обмочился на старую змею. А малышня хихикала уже над старой змеей, которая растерялась и не знала, что делать, хихикала и потешалась, замирая пасхальными свечками, и скоро Эдип тоже начал, с перепугу громче чем надо, а потом свободно и лихо смеяться, и старая змея тоже, и ОЧЕНЬ СТАРАЯ сверху, она, как видно, тоже следила за всеми этими делами и играла перед сном. Эдипу нельзя было вставать на ноги, так он разлегся на брюхо и стал поднимать-опускать свой хвостик, а змейки плясали рядом и было очень весело всем, разгульно весело, вроде и не будет впереди темной темноты с ее страхами, словно опять наступит сейчас утро без бездны, и солнце опять блеснет в глаза светом и теплом, что живы мы, что прожили детскую ночь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.