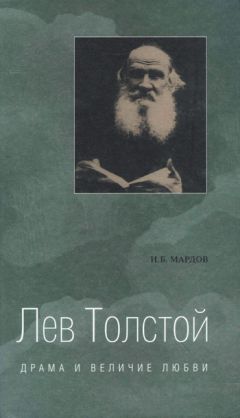
Автор книги: Игорь Мардов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 46 страниц)
3(27)
Есть люди, которые и в погибели остаются «живыми». Главная черта таких людей, определяющая работу их душ и их личную одухотворенность, – чистота души. Но не та чистота духа, которая достигается действием очищения, преодолением прельщения или антикармическими духовными усилиями. Это та «Божественная чистота», с которой, как много раз говорил Толстой, человек был прежде, чем родился, и с которой он рождается на свет. Редчайшие из нас сохраняют что-то от изначальной детской чистоты души. В последние десятилетия жизни Толстой особенно ценил и любил таких людей, которые, видимо, представлялись ему избранниками Божьими.
Плотские силы в избранниках духовной чистоты бушуют обычно не слишком сильно. Таков был Толстой. Но есть и другие, наделенные могучими силами чувствилища плоти, противостоять которым даже им не в подъем трудно. Это всегда фигуры трагические. Им на земле уготованы муки. Людей таких совсем немного. Можно подумать, что наша земная Обитель не предназначена для их духовной работы.
Чистота души уходит куда-то вместе с детством и опять возвращается в человека при душевном рождении, но уже в качестве чистоты духа. Духовная чистота – свойство, вносимое эденским существом в душу человека. Поэтому до душевного рождения люди духовной чистоты мало проявляют себя. И брат Льва Николаевича Дмитрий Толстой «рос незаметно, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими, большими карими глазами» – вспоминает его Лев Николаевич. «Я помню, что он не влюблялся, как я и Сережа, не любил особенно ни танцев, ни военных зрелищ, о которых расскажу после, и учился хорошо, усердно… Кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, мужественен и то, что делал, доводил до предела своих сил». И при этом он был человеком буйного темперамента и мог исколотить любого, кто осмелился оскорбить его.[102]102
В «Воспоминаниях» Толстой рисует одну такую сцену.
[Закрыть]
Дальнейшая путевая судьба людей такого вида одухотворенности во многом зависит от того, насколько широко потребность в чистоте правит их повседневной жизнью. У Дмитрия Толстого она управляла всем и вся.
«Особенности его начались со времени вступления в университет (в 1842 году, в 15 лет. – И.М.)… Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь. И он предался ей, как он всё делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и еще строже стал к себе в жизни… Особенность его первая проявилась во время первого говенья. Он говел не в модной университетской церкви, а в казематской церкви… В остроге тогда был особенно набожный и строгий священник, который, как нечто непривычное, делал то, что на Страстной неделе вычитывал все Евангелия, как это полагалось, и службы от этого продолжались особенно долго. Митинька выстаивал их и свел знакомство с священником. Церковь острожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Один раз один из колодников что-то хотел передать причетникам: свечу или деньги на свечи, никто из бывших в церкви не захотел взять на себя это поручение, но Митинька тотчас же с своим серьезным лицом взял и передал. Оказалось, что это было запрещено, и ему сделали выговор, но он, считая, что так надобно, продолжал делать то же самое. Мы, главное – Сережа, водили знакомство с аристократическими товарищами и молодыми людьми, Митинька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым, и мы, жалкие ребята, находили это забавным и смеялись над Митинькой). Он только с Полубояриновым дружил и с ним готовился к экзаменам».
Другой эпизод.
«К нашему семейству как-то пристроилась, взята была из жалости, самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка, не знаю, какую ей дали фамилию. Любовь Сергеевна была плод кровосмешения Протасова… Это было жалкое, кроткое, забитое существо. У нее была комнатка, и девочка ей прислуживала. Когда я узнал ее, она была не только жалка, но отвратительна. Не знаю, какая была у нее болезнь, но лицо ее было всё распухлое так, как бывают запухлые лица, искусанные пчелами. Глаза виднелись в узеньких щелках между двумя запухшими, глянцевитыми, без бровей подушками. Такие же распухшие, глянцевитые, желтые были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту, вероятно, была та же опухоль. Летом на лицо ее садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть. Волоса у нее были еще черные, но редкие, не скрывавшие голый череп… От нее всегда дурно пахло. А в комнате ее, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-та Любовь Сергеевна сделалась другом Митиньки. Он стал ходить к ней, слушать ее, говорить с ней, читать ей. И – удивительное дело – мы так были нравственно тупы, что только смеялись над этим, Митинька же был так нравственно высок, так независим от заботы о людском мнении, что никогда ни словом, ни намеком не показал, что он считает хорошим то, что делает. Он только делал. И это был не порыв, а это продолжалось всё время, пока мы жили в Казани (то есть около шести лет! – И.М.). Как мне ясно теперь, что смерть Митиньки не уничтожила его, что он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился, и есть теперь, после того, как умер». Далее в рукописи стоит вычеркнутая Толстым фраза: «Как, где – я не знаю».
Брат Дмитрий со времен духовного рождения Толстого стал чуть ли не его путеводной звездой, кем-то впереди его шедшим, его ведшим, увлекающим за собой. Когда в трактате «О жизни» Толстому нужно было примерами подтвердить положение, по которому жизнь умерших людей не прекращается и в этом мире (гл. XXXI), он вспоминает брата, который был прежде рождения и есть после смерти.
«Та сила жизни, которая была в моем брате, не только не исчезла, не уменьшилась, но даже не осталась той же, увеличилась и сильнее, чем прежде, действует на меня. Сила его жизни после его плотской смерти действует так же или сильнее, чем до смерти, и действует как все истинно живое… Могу сказать, что не вижу того центра нового отношения к миру, в котором он теперь; но не могу отрицать его жизни, потому что чувствую на себе ее силу… Но, мало того, эта невидимая мне жизнь моего умершего брата не только действует на меня, но она входит в меня. Его особенное живое Я, его отношение к миру становится моим отношением к миру. Он как бы в установлении отношения к миру поднимает меня на ту ступень, на которую он поднялся, и мне, моему особенному живому Я становится яснее та следующая ступень, на которую он уже вступил, скрывшись из моих глаз, но увлекая меня за собой» (26.413).
Дмитрий Николаевич был человек одной вершины жизни – вершины духовной чистоты. Чистейшую, преисполненную любви и сострадания душу брата Дмитрия исподволь, но постоянно молотили могущественнейшие силы плоти. При отсутствии и аналитического и отвлеченного ума ему нечем было остужать это нестерпимое пламя борения плоти и духа в себе. Яркость его духовного сознания, к несчастью, была не такова, чтобы помочь ему. «Очень слабый ум, большая чувственность и святое сердце. И все это свяжется таким узлом, что нельзя распутать – и разрывается жизнь» (63.105). Так впоследствии понимал драму его жизни Лев Николаевич.
«После выхода его, да и моего, из университета я потерял его из вида, – продолжает Толстой. – Знаю, что он жил тою же строгой, воздержной жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни, главное, женщин до 25 лет, что было большою редкостью в то время. Знаю, что он сходился с монахами и странниками».
В молодые годы Дмитрия Николаевича сверстники прозвали «Ноем», тогда как этой натуре с ее первозданным напряжением более подходило другое имя – Адама. Чтобы пришла беда, достаточно было разбудить его плоть, поднять бурю страстей в нем.
Грехопадение Дмитрия Толстого произошло в 24 года, то есть как раз тогда, когда он по нормативной кривой Пути восхождения должен был быть в низине жизни.
«Кажется, я был тогда уже на Кавказе, когда с Митинькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Как это с ним случилось, не знаю, я не видал его в это время. Знаю только, что соблазнителем его был очень внешне привлекательный, но глубоко безнравственный человек, меньшой сын Исленьева. Про него расскажу после, если успею. И в этой жизни он был тем же серьезным, религиозным человеком, каким он был во всем. Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он (словно следуя проповеди брата Льва. – И.М.) выкупил и взял к себе. Но вообще эта жизнь продолжалась недолго. Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба, укоры совести убили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой, уехал в деревню, лечился в городах и слег в Орле, где я в последний раз видел его уже после Севастопольской войны. Он был ужасен. Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было – одни глаза и те же прекрасные, серьезные, а теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал, и не хотел умирать, не хотел верить, что он умирает. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним».
Любимый дядя Софьи Андреевны, ее «дядя Костя» потехи ради напоил «святого Дмитрия» и затащил его в публичный дом. Произошло это осенью 1851 года. О том, что случилось с братом Дмитрием, Толстой действительно узнал на Кавказе, из письма брата Сергея. Письмо это он прочел в январе 1852 года. Но еще до этого, 21 декабря 1851 года, в то время, когда его брат Дмитрий бешено пил и гулял с девками, Лев Николаевич видел сон:
«Нынче 22 декабря меня разбудил страшный сон – труп Митеньки. Это был один из тех снов, которые не забываются. – Неужели это что-нибудь значит?…»[103]103
Дмитрий Николаевич умер через четыре года после этого.
[Закрыть]
И далее, в той же записи, даже как-то торжественно, продолжает:
«21 декабря того же года в двенадцать часов ночи мне было что-то вроде откровения. – Мне ясно было существование души, бессмертие ее – (вечность) – двойственность нашего существования и сущность воли. – Свобода сравнительна, в отношении материи человек свободен, в отношении Бога нет» (46.240).
Удивительно не столько то, что молодому Толстому во сне открылось нечто похожее на его будущее учение, и не только то, что вслед за этим он увидел другой сон о смерти брата, действительно погибавшего в это время, человека, которого он, десятилетия спустя, признает в буквальном смысле своим духовным близнецом, – удивительно то, что Толстой тогда же, сразу, одним интуитивным движением совместил эти два своих сна в одно, единое откровение-видение. Быть может, Толстой уже тогда узнал своего духовного близнеца, трагедия жизни которого была и в нем самом?…
Брат Дмитрий остался для Толстого в полном смысле умершим живым, «живым трупом». Н. Гусев как-то подметил, что образ Феди Протасова через образ Валентина в незавершенной драме середины 50-х годов восходит к Дмитрию Толстому.[104]104
Гусев Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. Т. II. М., 1957. С. 66.
[Закрыть] Вряд ли Лев Николаевич за все те двадцать лет, с 1880 до 1900 года, когда создавалась драма о Федоре Протасове, так и не просматривал свои старые дневниковые записи, а просматривая, не наткнулся на свой давний вещий сон – «труп Митеньки». Протасов в драме (фамилия которого, как мы знаем, взята из биографии Дмитрия Николаевича) и брат Дмитрий, несмотря на явное несходство характеров, столь близки между собой духовно, что, видимо, составляли для Льва Николаевича одно и то же лицо и одну судьбу. Счастливый несчастливец, Федор Протасов не мог жить в мире по чистоте духа своего. Для него быть предводителем дворянства, служить в банке, даже трудиться стыдно, грязно. «А что я ни делаю, – говорит он, – я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно…» То же чувствовал, судя по «Воспоминаниям» Толстого, и Дмитрий Николаевич. Федя Протасов не может выдержать незаметной нечистоты своей семейной жизни, на которой лежала тень неосознанной любви его жены к другому. Но и не может он принять грязь развода и связанной с этим лжи. «Живой труп» – это драма духовной чистоты в реальном мире, которая вполне могла стать драмой жизни самого Льва Николаевича.
Брат Николай Николаевич при всей его снисходительности к людям до того не разумел брата Дмитрия, до того был ему чужд духовно, что считал его «в высшей степени чудаком»,[105]105
Гусев Н.Н. Т. I. С. 179.
[Закрыть] да и только. Оно и понятно. Брат Николай, хотя и не был религиозным в церковном понимании, – человек наиполнейшей общедуховной жизни. Брат Дмитрий, несмотря на его преданность церковной вере, был человеком живой и страдающей личной духовной жизни. Между братьями не было раздора, но не было и взаимопонимания. Хотя они были не так далеки друг от друга. Сар брата Николая духовной чистотою в общедушевной жизни соответствовал воле к идеалу чистоты личной духовной жизни брата Дмитрия.
Брат Лев совмещал в себе и того и другого. Он был близок брату Николаю по Сару, по образу его общедуховной жизни. С братом Дмитрием они были близки по личной духовной жизни, по началу духовной чистоты в них.[106]106
Чернышевский писал о «первобытной чистоте» таланта Толстого.
[Закрыть] Эденское существо Дмитрия Николаевича какое-то не совсем мужское или совсем не мужское. И несмотря на это (а то и благодаря этому) Дмитрий Толстой являл эденское существо Льва Толстого, пусть и в оголенном, однобоком, женственном и в отношении земной жизни беспомощном виде. Толстой связал в своей высшей душе то, что было разведено в его братьях: Сара брата Николая в общедуховной стороне ее и эденское существо брата Дмитрия в личнодуховной стороне ее. Два этих духовных существа, из двух разных миров – один из Эдена, другой из Общей души, – жили в нем рядом, жили вместе, и не противостояли, а, напротив, трудились друг для друга и помогали друг другу.
4(28)
«Николеньку я уважал, с Митинькой я был товарищем, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался его красивой наружностью, его пением, – он всегда пел, – его рисованием, его веселеем и, в особенности, как ни странно сказать, его непосредственностью, его эгоизмом. Я всегда себя помнил, себя сознавал, всегда чуял, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие, и это портило мне радости жизни. От этого, вероятно, я особенно любил в других противоположное этому – непосредственность, эгоизм. И за это любил особенно Сережу – слово любил неверно. Николеньку я любил, а Сережей восхищался, как чем-то совсем мне чуждым, непонятным. Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная. На днях он умер, и в предсмертной болезни и умирая, он был так же непостижим мне и так же дорог, как и в давнишние времена детства. В старости, в последнее время, он больше любил меня, дорожил моей привязанностью, гордился мной, желал быть со мной согласен, но не мог, и оставался таким, каким был совсем особенным, самим собою, красивым, породистым, гордым, главное, до такой степени правдивым и искренним человеком, какого я никогда не встречал. Он был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться. С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать; с Сережей мне хотелось только подражать ему. С первого детства началось это подражание. Он завел кур, цыплят своих, и я завел таких же. Едва ли это было не первое мое вникновение в жизнь животных. Помню разной породы цыплят: серенькие, крапчатые, с хохолками, как они бегали на наш зов, как мы кормили их и ненавидели большого голландского, старого, облезлого петуха, который обижал их. Сережа и завел этих цыплят, выпросив их себе; то же сделал и я, подражая ему. Сережа на длинной бумажке рисовал и красками расписывал (мне казалось, удивительно хорошо) подряд разных цветов кур и петушков, и я делал то же, но хуже. (В этом-то я надеялся усовершенствоваться посредством Фанфароновой горы.) Сережа выдумал, когда вставлены были окна, кормить кур через ключевую дыру посредством длинных сосисок из черного и белого хлеба – и я делал то же».
Все братья Толстые – художественно талантливые люди. Николай Николаевич создавал рассказы, которые ценились самыми взыскательными критиками. Дмитрий Николаевич писал размышления и стихи, не придавая этому значения. Один Сергей Николаевич, кажется, никогда ничего не сочинял. Художественная одаренность его была другого рода. Выражаясь словами Толстого (из «Что такое искусство?»), он был гениальным «потребителем искусства». От потребителя искусства Толстой требовал умения слиться своей душою с душой художника и через эту связанность различать подлинное искусство от подделок. Сергей Николаевич был гениальным потребителем «истинного искусства», и прежде всего и более всего – своего брата Льва.
Первое произведение Толстого, его «Детство», получило полное одобрение и у критиков, и в широкой публике. Но Толстой писал брату Сергею, что он ожидал критики на «Детство» от него «с большим нетерпением, чем отзывы журналистов». И так было всегда, во все времена, во все последующие 50 лет их жизни. Толстой, как известно, не особенно жаловал литературных критиков, часто и вовсе не читал критики на себя, но всегда ждал, что скажет на новое произведение Сергей Николаевич и особенно внимательно прислушивался к его словам, к словам человека, которому он многие годы хотел подражать во всем, что касалось эстетического качества жизни.
Со времен «Детства» Толстой, став писателем, чувствовал себя ближе к брату Сергею, чем к брату Николаю. Эстетические запросы, художественные требования и вкусы Толстого полностью совпадали с потребностями, запросами и вкусами брата Сергея. Толстой знал, что Сергей Николаевич, пожалуй, единственный, кто поймет, какие творческие задачи ставил перед собой брат и, следовательно, сможет определить то, что самому Льву Николаевичу оценить трудно, – насколько он сумел выразить то, к чему он сам как творец стремился. Один Сергей Николаевич мог определять это. И не потому, что был особо взыскательным ценителем и знатоком литературы (в которых недостатка у Толстого, разумеется, не было), а потому, что в нем действовала та же, что у брата, родственная брату художественная интуиция.
До 1853 года Сергей Николаевич смотрел на младшего брата Льва с сожалением и снисходительно, считая его «пустячным малым». Но после первых же публикаций Толстого сразу разгадал, с кем имеет дело.[107]107
И в отличие от Николая Николаевича всю жизнь тщательно хранил все письма брата к нему.
[Закрыть] Вот выдержка из письма Сергея Николаевича, написанного после того, как он в том же 1853 году прочел толстовский «Набег»:
«Твой «Набег» просто, как бы его назвать… очень, очень хорош… или я давно не читал ничего, что бы мне так пришлось по сердцу. Нет, и этим я не выражаю того, что хочу тебе сказать… да ну просто… малина, да и только… Зачем он так короток?» (59.227)
Мы говорили, что Льву Николаевичу был чрезвычайно близок образ общедуховности брата Николая, его Сар, хотя в нем самом этот Сар более присутствовал, чем властно проявлял себя. Ровно так же Сергей Николаевич был конгениальным художнику Толстому человеком, хотя сам и не пытался писать романы.
Как с братом Николаем Толстой был одноцентричен по Сару и с братом Дмитрием по эденскому существу, так он был одноцентричен с братом Сергеем по своему Гению.
Понятие «гений» обременено многими значениями. От смертного духа жизненной силы в религии Древнего Рима и до демона или ангела-хранителя христианских времен. В общепринятом смысле гением называется тот, кто обладает высшими для человека творческими способностями. Но в каждом гениальном человеке есть что-то таинственное, непостижимое, даже для него самого. Какой-то таинственный, непостижимый Гений говорит в нем.
Гений – это духовное существо из особого духовного Мира, которому человек причастен так же или еще больше, как причастен Миру Эдена. Гений – это дух, духовная сущность, это высшее творящее существо, образующее центр тяготения, альтернативный центру духовного тяготения эденского существа. Если эденское существо обладает своим ликом одухотворенности, то Гений обладает своим, уникальным образом творческой одухотворенности и одушевленности.
Уникальность личностной творческой жизни – черта Гения, который узнаваем с одного движения. Чрезвычайные способности самовыражения нужны Гению для самообнаружения вовне, однако сам он, принципиально говоря, может вселиться в каждого, даже в человека, не умеющего толком изъяснить себя или, как Сергей Николаевич Толстой, пользующегося Гением (или Гений им) для процесса сотворчества.
Редкостный случай в человечестве: в своем внутреннем мире Лев Толстой носил не одно (что тоже бывает далеко не часто) и не два, а три духовных существа: Сара Общей души, существо из Эдена и Гения. Метафизическая биография Толстого есть описание истории взаимоотношений этих трех духовных существ в событийном потоке его жизни. Мы постараемся найти подходы к такого рода биографии и предоставить фрагменты ее.
Моя задача – максимально поднять планку взгляда на Толстого, чтобы дать возможность людям думать о нем (и вести разговор о нем) с достойной его высоты. Для этого необходимо попытаться, пусть в первом приближении, осмыслить роль Гения относительно эденского существа в восходящем человеке.
Духовную жизнь человека составляет встреча, зацепление и сокровенная работа двух субъектов духовной жизни: человеческого, содержащегося во внутреннем мире человека, и сверх– или надчеловеческого, включающегося в человеческую жизнь и так или иначе овладевающего ею. Жизнь Гения в человеке с точки зрения этого критерия есть духовная жизнь. Но не та, которой человек живет совместно с эденским существом, а та, которой он живет с Гением. Есть одна и есть другая личная духовная жизнь. Первая – путевая, вторая – внепутевая. Первая – редкое событие, вторая – всем достаточно знакомый (хотя бы понаслышке) случай жизни. Ни смешивать, ни путать их нельзя.
Гений входит в душу без труда со стороны человека, хотя потом и требует для себя трудов самовыражения от человека. И эденское существо ждет от человека напряженнейшей, на пределе сил работы восхождения в течение многих и многих лет жизни и воочию проявляется в нем в исключительнейших, чтобы не сказать легендарных, случаях. Полный выход эденского существа в земную жизнь – редчайший эпизод в человечестве. Человеку знаком Гений в себе, но он смутно и заочно знаком с «Богом своим», которого обычно принимает за кого-то другого.
Эденское существо тщательно и целенаправленно выбирает человека прежде, чем войти в него, и, раз выбрав, остается верным ему. В общем случае эденское существо ответственно по отношению к человеку и, вступив в него, без особой нужды не покидает его, принимает участие в его внутренних делах, не откажет в помощи, когда обратишься к нему, поддержит, когда падаешь, и научит жить.
Гений же вроде бы объявляется в ком попало, вслепую, как по капризу, лишь бы то в человеке, что приняло его, не было безнадежно бездарно. С другой стороны, мир полон в высшей степени одаренными людьми без признаков Гения.
Эденское существо приходит в человека, чтобы произвести в нем переворот. Гений же – такое впечатление, – чтобы поиграть в нем. Эденское существо заинтересовано в отдельном человеке и его судьбе. Гений – нет. Человек Гению вроде бы безразличен. Он для него – то «место», в котором можно порезвиться, повеселиться, полюбопытствовать, сорвать, что сорвется, или построить дворец и исчезнуть из него. Гений представляется залетным гостем в душе. Он по большей части играет и шалует и подвигает человека играть и шалить вместе с ним. Если человек – лошадь, а эденское существо – возница, то Гений смотрится праздным шалуном в коляске, который не знает куда и зачем править, которому все равно, куда ехать, лишь бы ехать.
На самом деле это не совсем так. Гению жизненно важно, явив себя, укорениться в мире людей. Потому он не нуждается в ином духовном существе в подвластном ему человеке, не желает существовать вкупе с эденским существом, отгоняет его или вообще предпочитает не вселяться в того, на кого претендует мощное эденское существо, с которым ему не справиться.
Другое дело, что эденское существо приходит в душу не на побывку, как Гений, а навсегда. Приписывая к себе высшую душу человека, эденское существо обеспечивает ее несмертие. Бывает даже, что эденское существо собирает многие высшие души, вяжет их друг с другом и с собой в большой узел и живит его. Гений же использует душу человеческую в своих целях, иногда дотла выжигая её, оставляя её ни с чем. Это одно из самых трагических явлений душевной жизни человека на Земле.
Работа, совершаемая душою по требованию эденского существа, – не игра, не пляска, не полет, а тяжелый труд, подъем на отвесную гору с риском в любой момент сорваться в пропасть.
Гений дарует человеку самые острые и восторженные наслаждения – наслаждения творчества, несторгической любви, работы интеллекта и прочее. Даже страдания Гения – род наслаждения для человека.
Человек с Гением счастлив. С эденским существом – благ.
Духовные наслаждения от эденского существа редки, хотя и учащаются с восхождением на Пути. Эденское существо наполняет внутренний мир человека всевозможными духовными страданиями – от уколов совести до мук покаяния и сознания своего ничтожества. В присутствии Гения человек любуется на себя и гордится собою. Во всяком случае, под воздействием Гения никто не ненавидит себя и не накладывает на себя рук.
Как эденское существо, так и Гений дает человеку ту высшую точку, с которой можно увидеть самого себя. Но увидеть по-разному. Смотря на себя от своего Гения, никогда не поймешь себя верно, напротив, обольстишься, узрев и не то, и не так. Смотря с вершины эденского существа, увидишь свою подноготную, да так, что нужно немалое мужество, чтобы видеть. Гений и польстит (от безразличия к тебе?), и поможет скрыть от себя то, что само активно не просится на яркий свет. Эденское существо все высветит, вывернет наизнанку, ужаснет тебя тобою и пригнет, дабы возвысить. С точки эденского существа человек весь виден себе, и этот обзор в верном свете побуждает его искать свое место и ставит его на место.
Гений непрочно живет земной жизнью, сам ни с кем в ней не конкурирует, появляясь в ней ненароком – бывает, на одно мгновение, – и, как только того захочет, исчезает… Надо ценить и уметь ловить мгновения своей, и не только своей, гениальности. И везде, где становится возможным. К примеру, в любви. Есть мгновения гениальной любви, растягивающиеся на многие годы. Извечный и вечно завораживающий сюжет жизни: случайная краткая встреча и затем годы пылкой взаимной любви в разлуке. Что это? Не возгонка эротической чувственности и не сторгическая любовь. Разом слившись вместе, навеки влюбленные не нуждаются ни в том и ни в другом. Конечно, это – их Песнь. Не песнь земной или эденской жизни, а Песнь, взлетающая куда-то над земной жизнью. И поет ее в них – Гений. И мы все чувствуем, что он поет её для себя, не для эрота и не для сторгии, поет поверх живущих на Земле, в надмирной высоте своего Неба.
Гениальная несторгическая любовь никому и ничему не служит. Среди людей есть носители такой надмирной любви, в которых поёт, взмывая, Гений. Это он заставлял рыцаря и поэта служить Прекрасной Даме, философа – Предвечной Софии, псалмопевца – слагать гимны Всевышнему, а девицу – стать «невестой Христовой». В подлинном рыцаре Науки, Поэзии, Театра живет Гений. Он же вдохновлял великих героев на подвиг. Он вообще – вдохновляет. Вдохновение можно понять как дыхание Гения в человеке. Человек ждет прибытия Гения в себя и вдохновенно приветствует его в себе.
Гений и эденское существо обычно не встречаются в одной и той же душе. У эденского существа и Гения разные интересы в человеке, и они так или иначе, раньше или позднее сталкиваются в нем. Чем дальше на дистанции жизни, тем менее эденское существо и Гений уживаются на Пути. И у Гения есть свой момент рождения в душу, подобный душевному рождению на Пути восхождения эденского существа. Душевное рождение от Гения совпадает или не совпадает с душевным рождением на Пути. Теоретически говоря, оно может произойти в любом возрасте. Обычно Гений пользуется путевым отливом кривой восхождения – в чистилище ли, сторгическом уступе или даже на плато Пути – и на этом уступе успевает укорениться рядом или вместо эденского существа во внутреннем мире человека. Если это происходит на уступе первой волны кривой восхождения, то под воздействием Гения душа наполняется стремлениями взлететь, взлетает и парит над собой и потому не производит впечатление попавшего в шторм корабля без руля, как это бывает с человеком на уступе чистилища. Гению ничего в человеке выжигать не нужно, напротив, он поддерживает и усиливает те личностные прельщения, которые обессиливаются в чистилище Пути.
Гениальный человек всегда живет «своей жизнью», в минимальной степени заражаясь чужими мыслями и чувствами и более стараясь воздействовать своими на других. Периода «чужой жизни» у Гения в человеке нет. Гений избежал бы и процессов чистилища, но ходовые испытания чистилищного уступа созданы на Пути для эденского существа, и помешать этому он не в силах.
Рывком входя во внутренний мир человека, Гений делает его обладателем «своей особенной творческой жизни» и своей особенной творческой воли. Для Гения это своего рода личностное рождение, для которого от человека не требуется предварительных трудов и испытаний. Гений сам решает: кто пригоден для его «личностного рождения», а кто – нет. Повлиять на него, я думаю, нельзя. Он абсолютный властелин и подозрительно легко признан таковым в нашем мире.
Гений имеет безусловную поддержку в современном мире. Эденское существо такой опоры в Мире, где более всего ценится творческая сила Гения, не имеет. Это обстоятельство с особой остротой ставит перед нашим сознанием вопрос о взаимоотношении эденского существа и Гения в человеке. Такого вопроса не было в древнем языческом мире, где человек хорошо знал Гения в себе, но почти не ведал про эденское существо. Христианский мир, наследуя языческие представления о Гении, превратил Гения в Демона и преследовал его. Что реактивно привело к «возрождению» Гения и вместе с ним античных ценностей культуры. Человек Нового времени, приноравливая себя к Гению, боготворит Гения в себе. Потребности личной духовной жизни ныне заставляют нас определиться, уяснив подлинное достоинство и значение Гения в человеке – самого по себе и в связи с его противостоянием эденскому существу на Пути. Это, конечно, важно и для уяснения проблем метафизической биографии Льва Толстого.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































