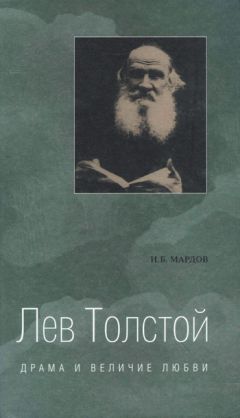
Автор книги: Игорь Мардов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 46 страниц)
«Отлично можно жить на свете, коли уметь трудиться и любить, трудиться для того, что любишь, и любить то, над чем трудишься». Эти общеизвестные слова Толстого впервые сказаны им Валерии Арсеньевой.
По-видимому, Валерия Владимировна не была и умна по-женски. По совету своей компаньонки (француженки, воспитанной сестрою Льва Николаевича) она решила поиграть с женихом, разжечь его чувства нарочитой холодностью, дать отпор его унылым моралям и не отвечать на его письма. Толстому пришлось убедиться, что она не такая, как он думал, и, хуже того, не любит его, а только обманывает себя, что любит. «Последний раз пишу Вам… Какой-то инстинкт давно говорит мне, что, кроме Вашего и моего несчастия, ничего из этого не выйдет». 12 декабря 1856 года Толстой окончательно объясняется с ней:
«Вы гневаетесь, что я только умею читать нотации. Ну вот, видите ли, я Вам пишу мои планы о будущем, мои мысли о том, как надо жить, о том, как я понимаю добро и т. д. Это все мысли и чувства самые дорогие для меня, которые я пишу чуть не со слезами на глазах (верьте этому), а для Вас это нотации и скука. Ну что же есть между нами общего? Смотря по развитию, человек и выражает любовь… Любовь и женитьба доставили бы нам только страдания, а дружба, я это чувствую, полезна для нас обоих. И я не знаю, как Вы, но я чувствую в себе силы удержаться в границах ее».
Впрочем, еще за два с половиной месяца до этого Толстой прозрел и записал в Дневник:
«А что, ежели я не знал еще любви, тогда, судя по тому маленькому началу, которое я чувствую теперь, я испытываю с ужасной силой. Не дай Бог, чтобы это было к В. Она страшно пуста, без правил и холодна как лед».
В дневниковой записи этого же дня есть еще одно прозрение – прозрение значения связи с Валерией для всей будущей его жизни:
«Я не влюблен, но эта связь будет навсегда играть большую роль в моей жизни».
Что же эта за роль?
В своих отношениях с Арсеньевой Толстой несомненно стремился образовать Сопутство. «Моя сила, за которую Вы меня любите, – ум, Ваша сила – сердце. И то и другое вещи хорошие, и будем стараться развивать с взаимной помощью и то и другое: Вы меня выучите любить, я Вас выучу думать».
Мы уже говорили, что сопутевая женщина, как правило, встречается в жизни единожды. Но и любовь личностного рождения возможна только в определенный путевой момент. Стремления этой любви осуществляются или не осуществляются. И в том и в другом случае она отрабатывается. Любовью личностного рождения можно либо выстрелить в воздух, либо попасть в цель. Второй попытки не дано. Хотя еще раз скопировать любовь личностного рождения возможно (это и будет копия, а не подлинник), но не воспроизвести ее. Трудно представить Толстого, который и другой женщине еще раз все так же «преподавал» бы (его слово) «чем заставить меня любить Вас» и как ей следует налаживать с ним сторгическую связь.
«Как я готов влюбиться, что это ужасно» (47.127), – пишет он через несколько месяцев после разрыва с Валерией. Однако повторить попытку нельзя. Так проходит и 1857 и 1858 год. «Надо жениться в нынешнем году – или никогда» (48.20) – встречает он новый 1859 год. Но летом того же года: «Мне грустно на себя. – Сердце мое так молчит нынешний год на всё. Даже грусти нет» (48.21). Еще через полгода: «И вот я дома и почему-то спокоен в своих планах тихого морального совершенствования» (48.22).
Затем, в сентябре 1860 года умирает брат Николай. «Страшно оторвало меня от жизни это событие» (48.29), – писал он А. Фету. В книге «На вершинах жизни» мы подробно останавливались на тех мыслях о смерти и смертной жизни, которые завладели им в ту пору. Какая ж тут женитьба…
Рождение эденского существа в высшей душе – чрезвычайно ответственный момент. Драма любви Льва Толстого началась не с этого момента. Но и в этот торжественный и роковой час на Пути жизни он ошибся, не попал в цель, опрометчиво запустил всю душу свою на двуединство с девушкой, для которой, как оказалось, сторгическая связь с Львом Толстым была непонятна и непосильна.
Конечно, Льву Николаевичу могло тогда повезти или не повезти. Что ж, ему просто не повезло? Но зачем он сразу бросает душу на нее так, словно это последний шанс. Или сторгия не входила в обязательное задание жизни Льва Толстого? А если входила, то как ему могло не повезти? Выходит, что эденское существо желает и требует, но само настолько слепо в земной жизни, что позволяет человеку – и какому человеку! – легко ошибаться в главнейших путевых делах его (человека) и своей (эденского существа) навигации земной жизни? Нет, это уже не драма любви личностного рождения одного какого-то человека. Как, однако, устроена человеческая жизнь… Роман 28-летнего Толстого дает всем практический урок, серьезно предупреждая нас об опасности, подстерегающей человека на личностном подъеме Пути.
В живо действующих мечтах добывания сторгической любви Толстой выработал на Валерии наиболее мощный и свежий ресурс своей души к целенаправленному обретению Сопутства. Это недоразумение в осуществлении Сопутства, как и прозрел Толстой, сыграло огромную роль в его дальнейшей судьбе. Крах любви личностного рождения – большая неудача личной духовной жизни. Чем-то она сходна сторгической катастрофе, которую Толстому придется пережить через сорок лет.
12(36)
Вновь прибывшее эденское существо проявило себя в Толстом не только «своей истиной» и любовью личностного рождения.
Служа в действующей армии, Лев Николаевич высоко чтил солдата и воинскую доблесть. Да и за несколько месяцев до личностного рождения, в апреле 1856 года Толстой считал, что «военное общество есть одно из орудий, которым осуществляется современная правда». В июле 1856 года Тургенев после разговора с Толстым сказал про него: «Хоть в щелоке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства; каким лаком образованности ни отполируй такого субъекта, все-таки в нем просвечивает зверство».
Прошло 8 месяцев. «Вся военная обстановка, – решает Толстой сейчас, – как будто выдумана для того, чтобы из разумного и доброго создания – человека сделать бессмысленного, злого зверя». «Стоит надеть на человека мундир, отдалить его от семейства и ударить в барабан, чтобы сделать из него зверя» (47.204). «Солдаты – ученые звери, чтобы кусать всех» (47.118). Мысли проповеди Толстого середины 90-х годов (когда он в воинской повинности видел главное общественное зло) зародились у него за 40 лет, сразу же после личностного рождения. Ни эденское ли существо принесло их с собой?
Взрослея на Пути восхождения, эденское существо Толстого на подъеме первого Пробуждения пройдет точку темного откровения – через эпизод суда над солдатом Шабуниным к откровению темного ОНО Пьера Безухова, сыгравшего основополагающую роль в духовной жизни и проповеди Льва Толстого. Мы видим, что направление развития мысли к этому темному откровению было взято за 10 лет до него, сразу же после вхождения эденского существа в высшую душу Льва Николаевича. Каждое эденское существо обладает своим особенным «разумным сознанием», своим исходным сознанием жизни, которое по мере восхождения на Пути становится сознанием жизни человека, его носителя.
На Кавказе и в Севастополе Толстой видел столько крови, страданий, убийств и смерти, что, казалось бы, никакая гибель человека не могло испугать его. Но вот 6 апреля 1857 года Толстой, будучи в Париже, пошел смотреть казнь преступника, ограбившего и убившего двух своих приятелей. Толстой, как пишет он в «Так что же нам делать?», «ахнул и понял – не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха…». Против смертной казни Толстой теоретически возражал и в 19 лет. Но то были политические суждения. 29-летний Толстой осудил смертную казнь Совестью, которая вошла в столкновение с политическими взглядами как таковыми. «Я не политический человек», – понял Толстой после казни. «Я понимаю законы нравственные, законы морали и религии, не обязательные ни для кого, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность; я чувствую законы искусства, дающие счастье всегда; но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего». «Я во всей этой отвратительной лжи вижу одну мерзость, зло и не хочу и не могу разбирать, где ее больше, где меньше» – в республике ли, или в монархии, или в каком другом государственном устройстве. И наконец, вывод:
«Уж верно с нынешнего дня я не только никогда не пойду смотреть этого, – никогда не буду служить нигде никакому правительству».
Некоторые государства нашего времени не применяют смертную казнь, но это никак не изменило бы решение Толстого, живи он сегодня, не служить никакому правительству. Юридический запрет смертной казни вызван общими рассуждениями и обусловлен даже не общедушевной совестью (основанной на нравственном чувстве Общей души данного народа), а ныне принятой нормой общественной морали, которая не имеет прочных оснований в человеке, каков он на сегодня есть, и легко может измениться в любой момент, как только общества, поставленные Историей в иные обстоятельства, решат отменить эту норму.
Лев Николаевич вдруг стал смотреть на дело не с общественной точки зрения, а совсем с другой, личнодуховной стороны, и обнаружил абсурд происходящего. В Дневнике он объясняет, чему он так ужаснулся: «Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие и потом – смерть, что за бессмыслица! – Сильное и не даром прошедшее впечатление». Толстой не пылал в моральном негодовании, как может на первый взгляд показаться. Но и не разум его выявил абсурд казни после целования Евангелия, и не разумом Толстой ужаснулся, а, как он объяснял, «всем существом своим». «Бессмыслица» для Толстого тут вообще не нонсенс, а ложь, нравственная ложь. Зрелище казни породило прозрение, откровение, в результате которого он испытал ужас перед нравственной ложью как таковой.
Откровение потому и откровение, что возникает не от человека, а от того, кто сверх человеческого существа. Только-только явившееся эденское существо озарило Толстого новым Светом сознавания и, взглянув на мир наш через него, открыло ему зло политической морали и тем привело его в состояние нравственного ужаса и духовного отвращения. Эденское существо Толстого прежде всего заработало в нем Правдой-Совестью. Это особенная персоналистическая черта его эденского существа. Потому-то режим правды и совести стал с тех пор (со времен личностного рождения) постоянным рабочим режимом высшей души Льва Толстого.
Зрелище парижской казни привело Толстого и к другому откровению того же ряда.
«Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, – пишет Толстой Боткину, – но ежели бы при мне изорвали на куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. Там есть… человеческое чувство страсти, а здесь до тонкости доведенное спокойствие и удобство в убийстве и ничего величественного». «Искусно и элегантно» сделанная гильотина явила Толстому духовное состояние людей той цивилизации, в которой это орудие было изобретено.
На следующий день он уехал из Парижа, в котором намерен был жить долго. И с дороги написал Тургеневу: «Вчера вечером, в 8 часов, когда я после поганой железной дороги пересел в дилижанс на открытое место и увидал дорогу, лунную ночь, все эти звуки и духи дорожные, всю мою тоску и болезнь как рукой сняло или, скорей, превратило в эту тихую, трогательную радость, которую Вы знаете. Отлично я сделал, что уехал из этого содома. Ради Бога, уезжайте куда-нибудь и Вы, но только не по железной дороге. Железная дорога к путешествию то, что бордель к любви, – так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно».
Толстой не был заранее предубежден против западной цивилизации. «За два месяца до первого путешествия за границу, – отмечает Н.Н.Гусев, – он был еще такого высоко мнения о заграничной жизни, что в письме к В.В. Арсеньевой 19 ноября 1856 года, строя планы их будущей совместной жизни, считал необходимым зимние месяцы проводить «непременно в Петербурге или за границей, для того, чтобы не отставать от века». Пробыв же, в общей сложности, около полутора лет за границей, его уже не тянула туда более, и он ни разу ни в одном сочинении не помянул Европу добрым словом».[181]181
Гусев Н.Н. Толстой в молодости. М., 1927. С. 379.
[Закрыть]
Толстой увидел Запад не со славянофильской позиции, не с позиции русской Общей души и не с высоты дворянской культуры, презирающей культуру буржуазную, а исключительно с личной духовной точки зрения. В какой-то момент эденское существо его пришло в ужас от того, куда оно попало. Эденское существо устанавливает в человеке идеал «инстинктивной и любовной ассоциации людей». В полную противоположность этому Толстой обнаружил «себялюбивую ассоциацию людей, которую называют цивилизацией» и которая сама выставляет себя высшим достижением человечества. Подлинную духовную ценность западноевропейской жизни определило своего рода прозрение Толстого в ее подноготную. Толстого интересует не то, что происходит в сфере юридического закона, а то, что происходит «вне его, в сфере нравов и воззрения общества», что и составляет подлинную жизнь людей. Через неделю после отъезда из Парижа он пишет о «разврате и мерзости биржи, железных дорог и т. п.», которыми «умеют пользоваться» «только шельмы и дурные люди» (47.204).
Вместо свойственного человеку выражения духовного благосостояния Толстой видит на лицах одно застывшее выражение «сознания собственного благосостояния», несомненно происходящее от ненавистного ему состояния духовного равнодушия. «Всем им, казалось, так было спокойно, удобно, чисто и легко жить на свете, такое в их движениях и лицах выражалось равнодушие ко всякой чужой жизни и такая уверенность в том, что швейцар им посторонится и поклонится, и что, воротясь, они найдут чистую, покойную постель и комнаты, и что все это должно быть, и что на все это имеют полное право». «Отчего эти развитые, гуманные люди, способные в общем на всякое честное, гуманное дело, не имеют человеческого, сердечного чувства на личное доброе дело? Неужели нет этого чувства, и место его заняли тщеславие, честолюбие и корысть, руководящие этих людей в их палатах, митингах и обществах?»
Знающие люди говорят, что в русской подцензурной печати того времени толстовский «Люцерн»,[182]182
Панаев – вечный тип человека русского культурного общества. Вот что пишет он в письме Боткину о «Люцерне»: «Видно, что это писал благородный и талантливый, но очень молодой человек, из ничтожного факта выводящий Бог знает что и громящий беспощадно все, что человечество выработало веками потом и кровью».
[Закрыть] из которого мы приводим цитаты, был единственным художественным произведением, в котором выражалось такое отношение к западной цивилизации. Толстой же остался верен своему взгляду до конца жизни. «Очень чиста материально эта европейская жизнь, – писал он полвека спустя, – но ужасно грязна духовно» (76.128). С тех пор прошел целый век, и европейская жизнь стала еще чище материально и еще грязнее духовно – особой мнимодуховной и мнимонравственной грязью, из которой выбраться куда труднее, чем прежде, во времена Льва Толстого.
Надо сказать, что Лев Николаевич не почувствовал облегчения и тогда, когда возвратился летом 1857 года в Россию. «Но Россия противна, и чувствую, как эта грубая, лживая жизнь со всех сторон обступает меня» (47.150). Он долго боролся с чувством отвращения к родине и понял, «что в России жизнь – постоянный, вечный труд и борьба со своими чувствами» (60.22). Ничего похожего с Толстым раньше не было. Недаром Некрасов, которому Толстой сообщил свои российские впечатления, ответил ему: «Ну, теперь будете верить, что можно искренно, а не из фразы ругаться».
Эденское существо человека предназначено править в его личной духовной жизни. Выглянувшее же на свет эденское существо Толстого, ужасаясь на жизнь людей друг с другом, то есть их общедушевной и общедуховной жизнью, вроде бы вошло не в свою сферу, а в ту, где духовно правит Сар. Но не Сар брата Николая, воспринятый душой его брата Льва, прозрел зло общедушевной нравственной лжи и духовную пустотелость западной цивилизации, – Сар этот вообще не способен на обличение, – а эденское существо Толстого, которое в некотором роде замещало его функции. Отметим эту уникальную черту духовной жизни Льва Николаевича. Эденское существо его высшей души постоянно стремилось в подмену или в поддержку Сара участвовать в общедуховной жизни. И прежде всего и более всего в русской общедуховной жизни.
Подъем личностного рождения продолжался в Толстом весь 1858 год и, возможно, первую половину 1859 года. В середине этого года Толстой почувствовал упадок духовных сил. Наступили сумерки.
«Мне так гадко, грустно теперь в деревне. Такой холод и сухость в душе, что страшно. Жить нечем. Вчера мне пришли эти мысли с такой силой, как я стал спрашивать себя хорошенько: кому я делаю добро? Кого люблю? – Никого! И грусти даже, и слез над самим собой нет. И раскаяние холодное. Так, рассуждения. Один труд остается. А что труд? Пустяки, – копаешься, копаешься, хлопочешь, а сердце суживается, сохнет, мрет» (60.294). Это сказано в мае. Через месяц: «Я забавляюсь или, скорей, стараюсь отуманиться делами, хлебопашеством…Дни убавляются с нынешнего дня. А для меня без пользы и без счастья уж сколько убавилось дней и все еще убавляются, а все кажется, что на что-то можно бы их употребить» (60.300–301). Еще через четыре месяца: «Беспорядочен, желчен, скучлив, безнадежен, ленив» (47.160).
В октябре 1859-го сошла с ума любимая жена друга Толстого, а затем неожиданно умерла молодая племянница другого его друга Александры Андреевны Толстой. «Да, мой друг, – пишет ей Толстой, – Ваше горе – и это горе, и с таким злым, изысканным горем велит Бог жить людям» (60.312).
Нелишне вспомнить, что и весною 1856 года, то есть незадолго до его личностного рождения, была пора, когда Толстой, тяжело живя с самим собою, «совсем впал в праздность и материальность» (47.70). Такой момент предрассветной мглы непременно присутствует перед всяким духовным подъемом или путевым рождением или переключением души на другое поприще духовной жизни и свидетельствует о наступление либо того, либо другого, либо третьего. Вслед за Толстым эти моменты можно называть «остановками жизни».
13(37)
Откровением Толстой называл «то, что открывается перед разумом, дошедшим до последних своих пределов, – созерцание Божественной, то есть выше разума стоящей истины». На каждом духовном подъеме есть момент наибольшего ускорения духовного роста, в котором и возникают самые значительные откровения. Такое откровение, – одновременно откровение-истина и откровение-видéние, – раскрылось перед Толстым на пике подъема личностного рождения, в конце ноября 1857 года, и было зафиксировано им в форме небольшого этюда под названием «Сон». В нем три части и три откровения. В первой части представлено состояние величия и счастья, даруемое человеку воздействующим на толпу Гением его.
«Я во сне стоял на белом, колеблющемся возвышении. Я говорил людям все то, что было в моей душе, и чего я не знал прежде. Мысли мои были странны как во сне, но невольно облекались вдохновенным, размеренным словом. Я удивлялся тому, что говорил, но радовался, слушая звуки своего голоса. Я ничего не видал, но чувствовал, что вокруг меня толпились незнакомые мне люди и все мои братья. Вблизи они дышали. Вдали бурлило море, темное, как толпа. Когда я говорил, от моего говора по всему лесу пробегал ветер. И этот ветер возбуждал восторг в толпе и во мне. Когда я замолкал, море дышало. И море, и леса была толпа. Глаза мои не видели, но все глаза смотрели на меня, – я чувствовал их взгляды. Я бы не мог устоять, ежели бы они не держали меня своими взглядами. Мне было тяжело и радостно. Они двигали мною, также как я двигал ими. Я чувствовал в себе власть и власть моя над ними не имела пределов».[183]183
В первой редакции этого отрывка: «Я мгновенно угадывал все, что думала и желала толпа и сразу словом отвечал на все желания, а толпа неистовыми рукоплесканиями и рабской покорностью отвечала на мое слово. Я был Царь, и власть моя не имела пределов. Безумный восторг, горевший во мне, давал мне власть, и я плавал в упоении своей власти. Я счастлив был своим безумием и безумием толпы».
[Закрыть]
Кроме первоначального сохранились еще два варианта «Сна». Написанная через месяц вторая редакция помещена в письме В.П. Боткину от 4 января 1858 года. Еще через пять лет, весной 1863 года, Толстой в последний раз редактирует этюд и отправляет его в печать, подписавшись именем подруги тетушки Ергольской. Первая часть «Сна» во всех редакциях примерно одна и та же. Смыслы второй части меняются от редакции к редакции.
В варианте письма к Боткину:
«Вдруг я почувствовал сзади себя чужое счастье и принужден был оглянуться.[184]184
В прежней черновой редакции 1857 года менее отчетливо: «Я почувствовал сзади себя неясную, но спокойную силу, настоятельно разрушающую мое очарование и требующую к себе вниманья».
[Закрыть] Это была женщина. Без мыслей, без движений, я остановился и смотрел на нее. Мне стало стыдно за то, что я делал. Сжатая толпа не расступалась, но каким-то чудом женщина двигалась медленно и спокойно посередине толпы, не соединяясь с нею. Не помню, была ли эта женщина молода и прекрасна, не помню одежды и цвета волос ее; не знаю, была ли то первая погибшая мечта любви или позднее воспоминание любви матери, знаю только, что в ней было всё, и к ней сладко и больно тянула непреодолимая сила.[185]185
В прежней редакции: «В ней была та неясная спокойная сила, которая требовала внимания и разрушала очарованье».
[Закрыть] Она отвернулась. Я смутно видел очертания полуоборотившегося лица и только на мгновение застал на себе ее взгляд, выражавший кроткую насмешку и любовное сожаление.[186]186
В сравнении с прежним вариантом тут пропущена важная фраза: «В этом мгновенном взгляде я все прочел, и все мне стало ясно».
[Закрыть] – Она не понимала того, что я говорил; но не жалела о том, а жалела обо мне. Она не презирала ни меня, ни толпу, ни восторги наши, она была прелестна и счастлива».
Б.И. Берман, всесторонне исследовавший этот этюд, отметил, что здесь «на «возвышение» поставлен сам статус творчества», что «Толстой испытывает внутреннюю ценность состояния творчества»[187]187
Берман Б.И. Сокровенный Толстой. М., 1992. С. 46, 47.
[Закрыть] или, что то же самое, достоинство величия и жизнедеятельности (восторга вдохновения) Гения в человеке. И, конечно, прежде всего в себе самом. Гений не только меркнет перед ликом женщины «Сна», но и изображается лживым духом, взобравшимся на шаткое возвышение.[188]188
В первой редакции «Альберта» так и сказано: «Искусство – борьба с Богом» (Гусев Н.Н. Т. II. С. 184).
[Закрыть] Таково откровение истины толстовского этюда. Сама же женщина «Сна» есть откровение-видение некого духовного существа. Какого?
Во всех редакциях женщина «Сна», возникает не изнутри человека, а «сзади», из среды толпы. «Сжатая толпа не расступалась, но каким-то чудом женщина двигалась медленно и спокойно посередине толпы, не соединяясь с нею». Чуть ниже мы найдем четкое подтверждение тому, что она представлялась Толстому общедуховным существом. В первом варианте этюда видение общедуховного «духа простоты и правды»[189]189
В этом варианте: «она была проста, спокойна…»
[Закрыть] сходствует Сару брата Николая.[190]190
Свое маленькое произведение Толстой сначала так и назвал – «Николенькин сон».
[Закрыть] В двух последующих редакциях она превращается в видение общедуховного духа совести и милосердия, перед ликом которого Толстой вершит нравственный суд над собою и своим Гением: «Мне стало очень стыдно… Я не мог обманывать себя… Она не презирала меня. Она видела наш восторг и жалела… Она ничего не понимала из того, что я говорил, и не жалела о том, что не понимает, а жалела обо мне». «Она равнодушно отвернулась, и я только на мгновенье застал на себе ее ясные глаза, на которых готовились слезы. Во взгляде ее была жалость и любовь, на устах была легкая улыбка».
От редакции к редакции видение женщины «Сна» все яснее обретает черты исполненного высокого спокойствия женского христианского Божества, в котором счастье, добро, любовь и «все, что любят». Она – «светла, блаженно-равнодушна, как подобает Божествам»[191]191
«Весна» Тютчева в то время – в числе самых любимых стихотворений Толстого.
[Закрыть] и «своим законам лишь послушна». Основное событие этого произведения: свободный взгляд «ее» вошел в авторское Я и навсегда остался в нем. «Я не мог вынуть из себя ее взгляда… Она была полна счастья. Ей никого не нужно было, и по этому я чувствовал, что без нее нельзя жить». Все во внутреннем мире рассказчика, в том числе и жизнь его Гения, теперь должно вершиться под воздействием «Ее» величественно-спокойного, преисполненного надмирной любви взгляда.
Вскоре после написания этюда Толстой отказался от литературной работы. Может сдаться, что «Сон» свидетельствует об этом перевороте в душе Толстого, и, следовательно, есть символическое выражение его отречения от своего Гения. Это не совсем так. Ни тогда и ни потом Лев Толстой не отступался от своего Гения. Откровение «Сна» – откровение «своей жизни» и его блага. Оно – в ряду откровений личностного рождения.
Года два-три назад (еще до личностного рождения) Лев Николаевич определился в жизни, решив отдать себя литературе и обрести славу. Откровение «Сна» запретило Льву Николаевичу служить своему Гению, а тем более признавать его власть над собой. Видение женщины «Сна» в буквальном смысле слова дало Толстому «взгляд» (который остался в нем) и высшую точку этого взгляда. Глядя с этой точки, Толстой открыл для себя, что его Гений должен не бездействовать, а работать, но непосредственно пред взором некоторого высшего духовного существа в себе.[192]192
«К началу 60-х годов, – объясняет И.Б. Берман, – искусство для него уже перестало быть средством для счастья, творящего его, и тем более источником наслаждения, и стало служить целям отыскания той духовной инстанции, от которой можно было бы судить самого себя и жизнь».
[Закрыть] И что же в результате?
Финальную часть этюда можно разбить на три положения.
Первое положение: под действием «ее» взгляда «все исчезло: и толпа, и мысли, слова, и восторг».
Второе положение: «Но и она не осталась со мною. Осталось одно жгучее, безжалостное воспоминание» (вторая редакция). «Осталась одна сила, одно желание… Одного желало все существо мое – еще раз проникнуться этим взглядом, понять его и жить его жизнью, но она незаметно неподвижно удалялась от меня. Я звал ее, умолял хоть еще раз оглянуться на меня и сказать мне… Она удалялась… Она исчезла» (первая редакция). «Дрожащий мрак закрыл от меня ее всю» (окончательная редакция).
Третье положение – плачь. В варианте ноябре 1857 года: «Я заплакал о невозможном счастья, но слезы, эти были мне слаще прежних восторгов». В варианте января 1858 года: «Я заплакал во сне, и слезы эти были мне слаще прежних восторгов. Я проснулся и не отрекся от своих слез. В слезах этих и наяву было счастье». В окончательной редакции 1863 года: «Я сбросил с себя стыд и плакал о прошедшем, невозвратимом счастье, о невозможности будущего счастья, о чужом счастье… Но в слезах этих было и счастье настоящего…».
Мы пытаемся разобрать очень серьезный текст. «Сон» схож с сакральным религиозным текстом, хотя и имеющим чрезвычайное значение только для автора и никого больше. Тут каждое слово или его изменение исполнено смысла. Смысл первого положения финальной части этюда более или менее ясен. Незаконная деятельность Гения на «колеблющемся возвышении» остановлена. Но и автор вроде бы остался ни с кем. Каков смысл в том, что «она» прошла мимо, исчезла, не осталось с ним, как он желал? Вопрос неправомерен, будь он обращен к стихотворению в прозе. Но эта «штука» (как называл свой этюд сам Толстой) определенно выражает состояние жизни автора – его состояние полуоставленности тем духовным существом, присутствие которого совершенно необходимо для его внутренней жизни. Но к какому времени отнести это его состояние: к прошедшему, настоящему, грядущему?
В первом варианте сказано о «невозможном счастье» (с нею? вообще?), хотя его слезы о ней «слаще» того, что «она» сама разрушила – «прежних восторгов». Результат вроде бы положительный. Во втором варианте добавлено, что «в слезах этих и наяву было счастье», – надо полагать, счастье воспоминания о ее мимолетном присутствии в его жизни. Последний вариант отличается от предыдущих тем, что в нем говорится не о «невозможном счастье» вообще, без привязки ко времени, а о бывшем когда-то, но уже «невозвратимом счастье» и «о невозможности будущего счастья», то есть в каком-то смысле не «своем», а «о чужом счастье», в слезах о котором «было и счастье настоящего…». И все это прямое следствие того, что «Я сбросил с себя стыд», который вызван был тем, что он принял в себя взгляд прошедшего мимо него видения женщины «Сна». Не подводит ли Толстой черту под своею жизнью, в том числе и под откровением «Сна»?
Самое простое объяснение состоит в том, что если первые два варианта «Сна» написаны тогда, когда Толстой стал отходить от литературной деятельности, то последний – тогда, когда он уже возвратился к ней и приступал к «Войне и миру». Гений, нравственно осужденный женщиной «Сна», вновь реабилитирован им. Положим, это так. Но ведь так потому, что счастье быть с «нею», счастье в себе нести «ее» могучие духовное существо объявлено «чужим счастьем», ему не свойственным и для него невозможным. Что совершенно не похоже на Льва Толстого. В тексте «Сна» есть какая-то тайна, до конца вряд ли разгаданная самим автором. Льву Николаевичу что-то чудится в прошлом, настоящем и будущем своей жизни и глубинах своей души, он старается угадать, что именно, и не может вполне угадать. Сакральный текст и предназначен для изъяснения такого рода невнятных тайн. Отметим только, что сам уход женщины «Сна» в сознании Толстого так или иначе связан с темой несостоявшегося или «чужого счастья».
Впрочем, и после 1863 года Толстой пытался использовать «Сон» в «Войне мире», и никак не в значении «чужой жизни» и сброшенного стыда, а как раз наоборот.[193]193
Надо сказать, что уже первая редакция «Сна» была тотчас использована в «Альберте», герой которого, безумный музыкант, испытал «невыразимое счастье», которое вдруг «прошло и никогда не воротится». Несколько схожее со «Сном» видение строит повесть «Казаки». Это и «горы», и образы спокойствия и величия Природы. Это и героиня повести, казачка Марьяна, про которую как раз в варианте 1858 года Оленин говорит: «Она выше меня, она счастлива, она, как природа, спокойна, ровна, сама в себе» – и которая, навсегда уходя от него, посмотрела «молча и величаво». На вид Марьяна, быть может, и ассоциируется с женщиной «Сна», но надо помнить, что героиня «Казаков», в отличие от женщины «Сна», есть фигура чисто языческая.
[Закрыть] В 1864 году в одном из черновиков «Войны и мира» юный Николай Ростов переживает то же потрясение поругания чистоты, которое некогда испытал Толстой в Казани. После этого, по плану автора, Ростову должен был сниться известный нам сон. Немаловажный для восприятия «Сна» штрих: роль женщины «Сна», роль женского христианского Божества отдана Соне, то есть молодой Татьяне Александровне Ергольской.
Б.И.Берман понимает «Сон» «как род исповедания перед кем-то и как установление высшей точки душевного зрения». Он убедительно показывает, что и то высокое, спокойное, торжественное и бесконечное небо, которое раскрылось перед раненым князем Андреем на поле Аустерлица в противовес тому, как он перед тем бежал в атаку, восходит к образу женщины «Сна». Перед лицом Неба для князя Андрея «все пустое, все обман», «ничего нет, кроме него» и «кроме него ничего не нужно».
В ранних вариантах перелом в миросозерцании Пьера должен был наступить в результате его встречи со стариком. То было «олицетворение старости – спокойствия, отрешения от земной жизни, равнодушия. Взгляд его, звук и смысл его речей – все говорило это. Пьер в восторженном созерцании стоял перед ним» (14.358). Вариант оставлен, и место этого старика в романе занимает «Сон». Пьер видит сон: «Он стоит на возвышении и говорит, и она пришла; и ему стало стыдно» (14.298).
Написанный десять лет назад этюд Толстой предполагает использовать в несколько ином осмыслении. Теперь в первой части «Сна» нравственно испытывается не статус человеческого творчества, а статус земного человеческого величия как такового, величия не Гения, а Героя – Наполеона или того, кто собрался, как Пьер, спасая мир, убить великого полководца. Во второй части «Сна» – видение подлинного небесного величия, величие носительницы небесной Любви, Совести и Милосердия. Переворот в Пьере должен был произойти под воздействием этого видения «Ее». Но вместо «Сна» в «Войне и мире» возникает Платон Каратаев. Пьер, как и герой «Сна», никогда не смог вынуть из себя его взгляда.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































