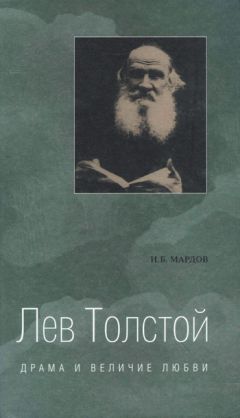
Автор книги: Игорь Мардов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 46 страниц)
12(54)
Утром 31 марта 1888 года сорокачетырехлетняя Софья Андреевна родила Льву Николаевичу последнего отпрыска – сына Ванечку.
Роды длились два часа. «Два часа эти я неистово кричала почти бессознательно, – пишет она сестре через 10 дней. – Никогда я так не безумела от страданий. Левочка и няня рыдали оба – они только и были при мне, но потом всё пошло отлично, и я уже теперь поправилась. Родился мальчик без четверти девять. Левочка взял его на руки и поцеловал; чудо, еще невиданное доселе! – и рад, что мальчик, и относится к нему как-то особенно ревниво и заботливо».[327]327
Из письма Кузминской от 11 апреля 1888 года (см.: Жданов В. С. 200).
[Закрыть]
Высшая душа в человеке (по твердому убеждению Льва Толстого) не связана с зачатием человека и его плотским рождением. По наследству и воспитанием отец может передать сыну свои таланты, сообщить ему чувство жизни своей высшей души, но не свой духовный образ, не свой Свет. Такое дается не человеком человеку, получаемо не от людей и решается не ими.
Уже к пяти годам стало ясно, что Ванечка Толстой не просто особой духовной высоты и чистоты ребенок,[328]328
Ванечка, видел Толстой, «исключительный по своим духовным свойствам мальчик» (87.319).
[Закрыть] но что он наследник духовного образа Льва Толстого на этой земле,[329]329
Когда Софья Андреевна, как рассказывает Александра Львовна, внушала Ванечке, что Ясная Поляна – его собственность, то он отвечал ей: «Всё – всехнее».
[Закрыть] что произошло чудо, что Бог через Ванечку послал Льву Николаевичу еще одну навигацию земной жизни. Это видели все. Свое особенное глубинное сходство с отцом отчетливо сознавал даже сам Ванечка.
Лев Николаевич знал, кто пришел, когда взял только что родившегося младенца на руки, поцеловал его и с первых же дней его жизни относился к нему «как-то особенно ревниво и заботливо». Из приведенной чуть ниже цитаты видно, что он просил Бога о даровании ему такого сына. После Лев Николаевич признавался жене: «…мечтал, что Ванечка будет продолжать после меня дело Божье!»[330]330
Жданов В. С. 231.
[Закрыть] Иван Толстой должен был стать достойным преемником и продолжателем миссии Льва Толстого. Быть может, и восполнить упущенное отцом – стать Саром Совести. Просто так, по игре случая, такого не бывает.
Невероятное в человечестве явление: в семье великого человека в след ему рос еще один великий человек. Софья Андреевна родила мужу второго Толстого, наследника его великого духа. Пусть деторождение не главное и вообще незначительное дело, не имеющее высшей ценности, как говорит он. Но рождение и воспитание Ванечки – все окупает, все обеспечивает смыслом: и разнообразные муки Софьи Андреевны, и никчемность других сынов ее (на которых «природа решила отдохнуть», по ее словам), и все ее заботы и тревоги, и вообще всю ее жизнь. Она подарила миру Ванечку! Это ее заслуга. Она его мать. Она, как ни смотри, выполнила великое предназначение. Это ставило ее вровень с Толстым.
Софья Андреевна Толстая через 26 лет после замужества оказалась рядом с мужем и вместе с ним с самой неожиданной стороны. Она подарила ему и миру то, что только может дать великая жена великому мужу, то, о чем он и мечтать не мог.
Ванечка со всех сторон оправдывал и наполнял высшим смыслом жизнь Софьи Андреевны. Даже с точки зрения ее мужа.[331]331
«Очень мил, больше чем мил – хорош», – писал о сыне Толстой жене, когда Ване было всего 4 года.
[Закрыть] Проповедь – проповедью, а дарованный свыше через нее наследник его духа – совсем другое, одновременно личное и всемирное дело. Теперь, чтобы там ни было, как ни расценивай ее жизнь, ее отношение к мужу и ее борьбу против него, ее женское, материнское величие с рождением Ванечки уже никому и никогда нельзя поколебать. Она с лихвой выполнила свою женскую миссию спутника жизни Льва Толстого. Все остальное – уже не в счет. Ванечка значил для нее все. Он – ее защита, ее величие, ее неприкосновенность. Не мог это не понимать и Толстой. И это заново приковывало («зашнуровывало», как он говорил) его к жене.
Ванечка скрепил души своих родителей как раз тогда, когда сторгическая связь между ними ослабла окончательно, и, казалось бы, невозвратимо. Вот две выписка из Дневника Толстого. Запись от 19 декабря 1891 года; Ванечке через три с половиной месяца будет четыре года:
«Был в Москве. Радость отношения с Соней. Никогда не были так сердечны. Благодарю Тебя, Отец. Я просил об этом. Все, все, о чем я просил, дано мне. Благодарю Тебя. Дай мне ближе сливаться с волей Твоею. Ничего не хочу, кроме того, что Ты хочешь. Здесь работа идет большая. Загорается и в других местах России. Хороших людей много. Благодарю Тебя» (52.59).[332]332
Подтекст этой записи: ничего не хочу, кроме того, что хочешь Ты, работа же на Тебя идет большая, работы – и для меня, и для сына – много, благодарю Тебя.
[Закрыть]
Запись в Дневнике от 15 мая 1894 года; Ванечке идет седьмой год:
«Целую неделю и больше нездоров. Началось это, мне кажется, с того дня, как меня расстроила печальная выходка Сони о Черткове.[333]333
С.А., как известно, чрезвычайно ревниво относилась к дружбе мужа и Черткова. Но тут особый случай. Л.Н. неосторожно противопоставил незабалованного сына Черткова Диму, у которого не было игрушек, и своего Ванечку, у которого игрушек было много. С.А. возмутилась и в сердцах написала Черткову резкое письмо.
[Закрыть] Все это понятно, но было очень тяжело. Тем более что я отвык от этого и так радовался восстановившемуся, даже вновь установившемуся доброму, твердому, любовному чувству к ней. Я боялся, что оно разрушится. Но нет, оно прошло, и то же чувство восстановилось» (52.117).
Слава Богу, что то, что я скажу сейчас, уже не дойдет до слуха Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Всякий читатель «Анны Карениной» ощущает, что, несмотря на «Мне отмщение», несмотря на правомерность и законность кары Божьей за разрушение супружеской сторгии, Толстой любил свою героиню и сам глубоко сочувствовал ей. В темном прозрении «Анны Карениной» и в самой смерти Анны для автора есть нечто личное и пророческое. Это знала Софья Андреевна:
«И если спасение человека, спасение его духовной жизни состоит в том, чтобы убить жизнь ближнего, то Левочка спасся. Но не погибель ли это двум?»[334]334
Жданов В. С. 215.
[Закрыть] (запись 11 декабря 1890 года). Мудрая, конечно, мысль. Но Софья Андреевна и думать не думала, кто эти двое, которые так должны пострадать.
5 января 1895 года Ванечка заболел, но быстро выздоровел. «Левочка говорил, что он часто, глядя на то, как поправляется Ванечка, захлебывается от счастья» – сообщает Софья Андреевна своему постоянному адресату, сестре Татьяне Андреевне. Через полтора месяца Ванечка «пошел гулять с Сашей, – пишет Софья Андреевна в том же письме,[335]335
Там же. С. 230.
[Закрыть] – очень вспотел, но отлично обедал. Вечером Маша им читала вслух переделанный Верой Толстой рассказ Диккенса «Большие ожидания»… Когда Ванечка пришел со мной прощаться, я спросила его о чтении. Он ужасно глядел и говорит: «Не говори, мама, так все грустно ужас! Эстела вышла замуж не за Пипа!» Я его хотела развеселить, но вижу лицо у него ужасное… Я положила градусник – 38 и 5. Ночью он очень горел, но спал. Утром послали за доктором, он сейчас же сказал, что скарлатина. Уже жар был больше 40 гр… К вечеру стало гораздо хуже. Ночью, в три часа, он опомнился, посмотрел на меня и говорит: «Извини, милая мама, что тебя разбудили». Я говорю: я выспалась, милый, мы по очереди сидим. – «А теперь чей будет черед, Танин?» – Нет, Машин, – я говорю. «Позови Машу, иди спать». И начал меня целовать так крепко, нежно, вытягивая свои сухие губки, и прижимался ко мне. Я спросила его, что болит. Он говорит: «Ничего не болит» – Что же, тоска? – «Да, тоска». После этого он уже почти не приходил в сознание. Весь день, среду, он горел, изредка стонал… Жар достиг до 42 градусов. Сыпь с утра скрылась. Его обвертывали в простыню, намоченную в горчичную холодную воду; потом сажали в теплую ванну, – ничего не помогало. Он всё тише и тише дышал, стали холодеть ножки и ручки, потом он открыл глазки и затих. Это было 23 февраля в 11 часов вечера. При нем были: Маша, Машенька (сестра Левочки)… няня – и больше никого. Таня все убегала. Я сидела в другой комнате с Левочкой, и мы замерли в диком отчаянии… Три дня он стоял, не изменяясь ни капельки… На третий день, 25-го, его отпели, заколотили и в 12 часов отец с сыновьями и Пошей[336]336
Бирюковым.
[Закрыть] вынесли его и поставили его на наши большие 4-местные сани… Да, подумай, Таня, естественно ли нам, седым, хоронить всю самую светлую нашу будущность в этом ребенке?»[337]337
Жданов В. С. 230–231.
[Закрыть]
В общем случае люди приходят в мир наш случайно, кто когда, в порядке природного самодвижения. Пришедший сюда случайно, обычно и уходит отсюда случайно или по истечении отпущенного природой срока. Но есть редкие люди, которые специально выпущены в этот мир и несут в нем свое особое задание. Эти люди не умирают просто так, как все остальные, по несчастному стечению обстоятельств или от скарлатины. Смерть их имеет особенный смысл и содержит в себе неразрешимую загадку, особо мучительную потому, что, мы чувствуем: разгадка есть. Мы, люди, только не знаем ее. И гадаем – за что?! В ком или в чем вина? На трагедию невосполнимой потери навешивается анонимная вина. Что им или всеми нами или кем из нас сделано не так, против Высшей Воли?
Всего мучительнее и безответнее: за что умирают дети? В особо трудную минуту Толстой пытается отвечать на этот вопрос:
«Смерть детей с объективной точки зрения: Природа пробует давать лучших и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперед. Это запрос. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ванечка. Но это объективное дурацкое рассуждение. Разумное же рассуждение то, что он сделал дело Божье: установление Царства Божия через увеличение любви – больше, чем многие, прожившие полвека и больше» (53.12).
Со смертью Ивана Толстого человечество потеряло многое и потеряло то, что могло и не терять. И всё же: можно ли проникнуть в тайну его ранней смерти? Возможно, прав Толстой, он прилетел слишком рано, как, впрочем, и сам Лев Николаевич. Но есть и другое. Прежде, чем стать наследником духа и дела отца, ему предстояло окрепнуть, обитая в любви, в надышанной семьею атмосфере душевного счастья и здоровья, затем войти в полную духовную силу и принять на себя громадный груз или, как сказал бы его отец, крест свой, и понести его. Даже при той «вновь установившейся» любви между родителями, этот восприимчивый и чистейший ребенок со дня рождения произрастал в атмосфере семейного разлада, обитая в которой нельзя было состояться тем, кем должен был стать Ванечка – великим человеком и преемником духовной мощи Льва Толстого. И он был снят с дистанции жизни.[338]338
Это знала Софья Андреевна и говорила мужу: «Соня начала говорить вчера ночью про то, что смерть Ван[ички] есть величайшее несчастие, страдание и что смерть эта сделана Богом. Часто люди говорят так о зле, кот[орое] причиняет Бог людям» (запись в Дневнике Толстого от 15 мая 1895 года. – 53.31).
[Закрыть]
Впрочем, если это правда, то не вся.
Своим пришествием в мир Ванечка поддержал душевную связь родителей, не дал ей разрушиться окончательно. Софья Андреевна сломалась на смерти Ванечки. Толстой в 1910 году уходил не от той жены, которая родила ему Ванечку, а от той, которая потеряла Ванечку и, быть может, не могла простить себе его смерть.
После смерти Ванечки ничто уже не могло предотвратить супружескую катастрофу в родительском доме.
13(55)
Не женитьба, не рождение первенца и не раздоры на переломах жизни, а смерть Ванечки – главное событие всей супружеской жизни Льва Николаевича и его жены. То был удар, от которого невозможно оправиться. Всякое исключительное потрясение способно производить двоякое воздействие. Одну, духовную сторону человека, его высшую душу, оно возносит, другую, животную личность его, заставляет невыносимо страдать. Но и последнее, как и первое – значительно и свято в человеке в это время.
7 марта, через 12 дней, Софья Андреевна о муже и о себе:
«Левочка совсем согнулся, постарел, ходит грустный с светлыми глазами, и видно, что и для него потух последний луч светлой его старости. На третий день смерти Ванечки он сидел, рыдал и говорит: «В первый раз в жизни я чувствую безвыходность». Как больно было смотреть на него, просто ужас! Сломило и его это горе…» Надо ли говорить, что и для самой Софьи Андреевны «вдруг кончилась жизнь».[339]339
Жданов В. С. 232.
[Закрыть]
8 тот же день Лев Николаевич пишет друзьям о состоянии жены:
«Под влиянием этой скорби в ней обнаружилось удивительное по красоте ядро души ее» (68.43). «В особенности первые дни я был ослеплен красотою ее души, открывшейся вследствие этого разрыва. Она первые дни не могла переносить какого-нибудь к кому-нибудь выражение нелюбви» (87.320). «Боль разрыва сразу освободила ее от всего того, что затемняло ее душу. Как будто раздвинулись двери и обнажилась та Божественная сущность любви, которая составляет нашу душу» (53.10).
И о себе:
«Мне бывает минутами жаль, что нет больше здесь с нами этого милого существа, но я останавливаю это чувство и могу это делать (знаю, что жена не может этого), но основное, главное чувство мое – благодарности за то, что было и есть, и благоговейного страха перед тем, что приблизилось и уяснилось этой смертью» (87.320).
«Для меня эта смерть была таким же, еще более значительным событием, чем смерть моего брата.[340]340
Об этом см. ч. 3 «Лев Толстой. На вершинах жизни».
[Закрыть] Такие смерти (такие в смысле особенно большой любви к умершему и особенной чистоты и высоты духовной умершего) точно раскрывают тайну жизни, так что это откровение возмещает с излишком за потерю» (68.43).
Еще через 10 дней о себе и о ней:
«И хотя как будто перед людьми совестно, радуюсь и благодарю Бога, – не страстно, восторженно, – а тихо, но искренне, за эту смерть (в смысле плотском), но оживление, воскресение в смысле духовном, – и ее и мое» (68.52).
Лев Николаевич убежден: его жена наконец-то на подходах к духовной жизни и Сопутству с ним. Это означало бы кардинальный перелом в их отношениях.
«И она невольно приведена к необходимости подняться в другой духовный мир, в котором она не жила до сих пор… Она поражает меня своей духовной чистотой – смирением, особенно. Она еще ищет, но так искренне, всем сердцем, что я уверен, что найдет. Хорошо в ней то, что она покорна воле Бога и только просит Его научить ее, как ей жить без существа, в которое вложена была вся сила любви. И до сих пор еще не знает как» (68.70).
Впервые за 33 года супружеской жизни между ними начали устанавливаться равные и полноценные сторгические взаимоотношения.
«Никогда мы все не были так близки друг другу, как теперь, и никогда ни в Соне, ни в себе я не чувствовал такой потребности любви и такого отвращения ко всякому разъединению и злу. Никогда я Соню так не любил, как теперь. И от этого мне хорошо» (68.71).
«И удивительно, как ее материнство сохранило ее чистой и способной к восприятию духовных истин», – писал Лев Николаевич о ней 31 марта. И – через месяц, в конце апреля:
«Страшно трагично положение матери… Женщина, хорошая женщина, полагает всю свою душу на детей, отдает всю себя, усваивает душевную привычку жить только для них и ими (самый страшный соблазн; тем более, что все не только одобряют, но восхваляют это); проходят года, и эти дети начинают отходить – в жизнь или в смерть; первым способом медленно, отплачивая за любовь досадой, как на привешенную на шее колоду, мешающую жить, или вторым способом, смертью, мгновенно производя страшную боль и оставляя пустоту. Жить надо, а жить нечем. Нет привычки, нет даже сил для духовной жизни, потому что все силы эти затрачены на детей, которых уже нет» (53.24).
Пока что это сказано не о жене, это мысли к «роману матери», который в те дни обдумывал Толстой. Мне думается, что он непременно написал бы его. Но прошел еще месяц и «все то прекрасное духовное, что открылось тотчас после смерти Вани, и от проявления и развития чего я ждал так много, опять закрылось, и осталось одно отчаяние и эгоистическое горе» (68.89).
Софье Андреевне «все стало все равно, и только жду, жду, с болезненным нетерпением, что кончится когда-нибудь моя мучительная жизнь, жизнь тела, томящегося без души, а душу унес с собой Ванечка».[341]341
Жданов В. С. 236.
[Закрыть]
Пусть Ванечка унес с собой ее душу, но вследствие этого в ее жизни проявилось нечто столь ценное, что для нее, как и для мужа в другом отношении, могло «возместить с излишком за потерю» сына.
Октябрь 1895 года. «Сейчас уехала Соня с Сашей. Она сидела уже в коляске, и мне стало страшно жалко ее: не то, что она уезжает, а жалко ее, ее душу. И сейчас жалко так, что насилу удерживаю слезы. Мне жалко то, что ей тяжело, грустно, одиноко. У ней я один, за которого она держится, и в глубине души она боится, что я не люблю ее, не люблю ее, как могу любить всей душой, и что причина того – наша разница взглядов на жизнь. И она думает, что я не люблю ее за то, что она не пришла ко мне. Не думай этого. Еще больше люблю тебя, всё понимаю и знаю, что ты не могла, не могла придти ко мне,[342]342
Нужно было, как ни странно, чтобы прошло 33 года супружеской жизни и 12 лет после разрыва с женою, чтобы Толстой понял это…
[Закрыть] и оттого осталась одинока. Но ты не одинока. Я с тобой, я такую, какая ты есть, люблю тебя и люблю до конца, так, как больше любить нельзя» (53.64).
Никогда еще Толстой не кричал ей так пронзительно и с такой болью любви.
Через несколько дней Лев Николаевич рассказывает жене о своем возникшем исключительном чувстве к ней:
«Чувство, которое я испытывал было странное умиление, жалость и совершенно новая любовь к тебе, любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя и испытал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это, и знаю, что от того, что я выскажу его, оно не изменится. Напротив, начавши писать тебе, испытываю то же. Странно это чувство наше, как вечерняя заря» (84.242).
Вот так, под конец жизни, на вечерней заре ее проявилось истинно сторгическое чувство, в силу которого «я совершенно перенесся в тебя и испытал то самое, что ты испытывала».
После утраты Ванечки Лев Николаевич предлагает ей себя, свою душу и такое единение душ, выше которого нет на свете. И в ответ на его призыв в Софье Андреевне возникла сторгическая тяга в душу мужа:
«Письма твои, ласковые и добрые как свет изнутри, мне всё освещают». «Точно ты мне открыл свои душевные двери, которые долго были заперты от меня крепким замком; и теперь мне все хочется входить в эти двери и быть душевно с тобой. В прежних наших разлуках нам часто хотелось сойтись для жизни совместной материальной;[343]343
Такое признание многого стоит…
[Закрыть] теперь же естественно и непременно должно прийти к тому, чтоб нам врозь было душевно одиноко, и чтоб душевно хотелось жить одной жизнью».[344]344
Письма С.А. от 4 и 8 ноября 1895 года (Жданов В. С. 237).
[Закрыть]
Множество раз они писали друг другу о своих чувствах и только теперь, на склоне дней, объясняются друг другу в стремлении к подлинной сторгической любви. Это не декларация и не декорация. Такая любовь – их вечерняя заря, запылавшая после смерти Ванечки. Она могла бы вознести их вместе на вершины Сопутства. Смертью своей Ванечка, как не страшно сказать, «спасал» или, лучше сказать, «воскрешал» своих родителей. Но не спас и не воскресил.
Софья Андреевна, которая всю жизнь говорила о ценности взаимной любви,[345]345
Иногда даже может показаться, что Софья Андреевна понимала в этой жизни что-то такое, что не понимал ее муж. «Вот чего не пойму никогда, почему истина должна вносить зло и разлад?» (запись в дневнике С.А. 1885 года. См.: Жданов В. С. 187). «Одно для меня невозможно и несправедливо, это то, что отречение от личной жизни должно быть во имя любви всего мира, а я думаю, что есть обязанности несомненные, вложенные Богом, и от них отречься не в праве никто, и для жизни духа они не помеха, а даже помощь» (запись в дневнике С.А. 1887 года).
И под конец жизни Льва Николаевича, в 1908 году:
«Нет, каково же мне было прожить с ним 46 лет, когда он считает, что любовь – низменное чувство!.. Самое лучшее в жизни есть любовь, не будь любви, я бы давно повесилась с тоски» (Жданов В. С. 287). Мы видим, что ей предлагали все то, что она желала, но она «не могла» (как сказал Толстой) взять.
[Закрыть] не смогла жить подлинной сторгической жизнью, когда ей, наконец, предложили ее. Быть может, потому, что в ней, как и боялся Толстой, «нет привычки, нет даже сил для духовной жизни, потому что все силы эти затрачены на детей, которых уже нет».
Когда в особые моменты возникает потребность в сторгической любви, но нет для нее у человека сил (уже нет или не было никогда), тогда эта потребность реализуется в суррогатах сторгической жизни. В «Крейцеровой сонате» Толстой вплотную подошел к этой теме. Мельком знакомым с биографией Толстого людям вполне может показаться, что «Крейцерова соната» написана не за 5 лет до смерти Ванечки и не за 6 лет до событий в его семейной жизни, о которых у нас пойдет сейчас речь, а после того и другого.
14(56)
«Крейцерова соната» оказалась пророчеством. Как и жена Позднышева, так и жена Толстого изменяла мужу не сексуально, а душевно, и изменяла именно с музыкантом и «его музыкой», как сказано в повести. Трудно поверить, что это только совпадение, что Толстой, зная свою жену и работая над повестью, не предчувствовал подобную ситуацию в своей собственной жизни.
То, чего так стремился избежать 43-летний Толстой, догнало его на 68-м году жизни. Но не по сценарию «Анны Карениной», а почти по сценарию «Крейцеровой сонаты». Как только жена его прекратила рожать и потеряла сына Ванечку, так ей – при многих детях, требующих ее внимания, – нечем стало жить, и она изменила так, как смогла в свои 52 года – влюбилась в известного композитора Сергея Ивановича Танеева, который был на 12 лет моложе ее и по своей сексуальной ориентации был равнодушен к женщинам. Толстой пережил то, что пережил герой его повести. Но не по причине эротического «свинства» своей жизни (так утверждает Позднышев), а потому, что в свое время ничего направленно не предпринял для духовного воспитания своей молодой жены, а подделывал ее под себя и специально исключал из их жизни условия, в которых возможна была супружеская измена. Но рок настиг. Про этот рок говорит и Позднышев.
«Но, странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить».
«Мучался я особенно тем, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прорываемого привычной чувственностью, а что этот человек, и по своей внешней элегантности и новизне, и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему из совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а несомненно без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно. Но, несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним».
«Это своего рода помешательство, – понимает Софья Андреевна, – но чего же и ждать от моей разбитой души? Я так и не пришла в нормальное состояние после смерти Ванечки, а жила и живу изо дня в день, не интересуясь ничем, а убиваю время и, главное, развлекая себя, чтоб забыться в чем-нибудь, увлечься, хотя бы самым диким образом».[346]346
Письмо С.А. сестре от 24 октября 1896 года (Жданов В. С. 242).
[Закрыть] И в другом письме: «Душа продолжает томиться, искать утешения, новых ощущений совсем в других областях, чем те, в которых я жила при жизни моего милого мальчика. Куда меня вытолкнет, совсем не знаю».[347]347
Письмо С.А. Анненковой Л.Ф., осень 1896 года (Жданов В. С. 241).
[Закрыть]
Софья Андреевна решила, что муж не любит ее за то, что она не пошла за ним и… пошла к другому.
Сначала Толстой относился к «музыкальным увлечениям» жены со снисхождением. Но Софья Андреевна чем дальше, тем больше вела себя вызывающе. «Сейчас разговор об искусстве, – пишет Лев Николаевич в Дневник 20 декабря 1896 года, – и рассуждение (Софьи Андреевны. – И.М.) о том, что заниматься искусством можно только для любимого человека. И пожелание сказать это мне. И мне не смешно, не жалко, а больно. Отец, помоги мне».
И дальше: «Впрочем уже лучше. Особенно успокаивает задача, экзамен смирения, унижения. Совсем неожиданного, исключительного унижения. В кандалах, в остроге можно гордиться унижением, а тут только больно, если не принимать его, как посланное от Бога испытание». На следующий день: «Гадко, что хочется плакать над собой, над напрасно губимым остатком жизни. А может быть, так надо. Даже наверное так надо» (53.127).
Дело доходит до отвращения к своему, созданному ими гнезду:
«Бывает в жизни у других хоть что-нибудь серьезное, человеческое: ну, наука, служба, учительство, докторство, малые дети, не говорю уж заработок или служение людям, а тут ничего, кроме игры всякого рода и жранья и старческий flurtation или еще хуже, – отвратительно. Пишу с тем, чтобы знали, хоть после моей смерти».
Настали времена, когда «еще хуже» не зависит от него.
Могучий человек, Лев Толстой, до того теперь обессилел от унижения, до того исстрадался, что ищет сочувствия и поддержки, и у кого – у дочери, у Маши. Такого с ним никогда не было.
Письмо Толстого дочери Марье Львовне не принято цитировать. Я приведу его целиком.
«12 января. Утро.
Читай одна.
Милая Маша, хотя, когда ты тут, я редко говорю с тобой, теперь, когда мне очень скверно на душе, хочется твоего сочувствия. Из всех семейных ты одна, как ни сильна твоя личная жизнь и ее требования, ты одна вполне понимаешь, чувствуешь меня. Жизнь, окружающая меня и в которой я по какой-то или необходимости, или слабости, участвую своим присутствием, вся эта развратная отвратительная жизнь с отсутствием всяких не то что разумных или любовных к людям, но просто каких-либо, кроме самых грубых животных интересов нарядов, сладкого жранья, всякого рода игры и швыряния под ноги чужих трудов в виде денег, и это даже без доброты, а, напротив, с осуждением, озлоблением и готовностью раздражения на всё, что против шерсти, до такой степени временами становится противна мне, что задыхаюсь в ней и хочется кричать, плакать, и знаешь, что всё это бесполезно и что никто ни то, что не поймет, но даже не обратит внимания на твои чувства, – постарается не понять их, да и без старания не поймет их, как не понимает их лошадь. Вчера, сидя за обедом, слушая эти разговоры без единого живого слова, с невеселыми шутками и недобротой друг к другу, эти бессвязные монологи, я взглянул на M-lle Aubert[348]348
Гувернантка.
[Закрыть] и почувствовал, что мы с ней одинаковы лишни и нам одинаково неловко оттого, что мы чувствуем. Ужасно гадко, и гадко то, что я не могу преодолеть себя и не страдать и не могу предпринять что-нибудь, чтобы порвать это ложное положение и последние года, месяцы или дни своей старости прожить спокойно и не постыдно, как я живу теперь. Не знаю что от чего: от того ли, что я не могу увлечься работой, чтобы не так больно чувствовать это, или оттого, что я так больно чувствую, я не могу работать, но мне тяжело, и хочется сочувствия, чтоб меня поняли и пожалели. Таня бедная хотела бы жить ближе ко мне, но она ужасно слаба и вся завлечена этим безумным водоворотом: Дузе, Гофман, красота, выставка, старость подходит, Сухотин, скверно. Сережа, Илюша, Миша все то же. Даже нет детей, чтоб на них отдохнуть, Черткова и Поши[349]349
П.И. Бирюков.
[Закрыть] тоже нет. Ты сама вся изломана и измучена своими делами, а я тебе еще свою выставляю болячку. Давай болеть вместе. Ты мне свое все скажи. Я приму близко к сердцу, потому что это может быть и страдание в будущем, но это серьезное. Мучает же напряженность пустяков и мелких гадостей» (70.16–17).
Тут, как видите, нет ни слова о жене, о старческом флирте ее матери, только чувство постыдности и гадости происходящего в своей жизни и сознание того, «что никто ни то, что не поймет, но даже не обратит внимания на твои чувства».
Толстой не выстрелил в свою жену из пистолета и не ударил ее ножом, как сделал Позднышев. Он хотел сделать другое. Через пять месяцев после письма Маше он совсем уже собрался уйти из дома и оставил серый пакет с двумя письмами жене. Одно – для объяснения миру своего ухода. Другое – исключительно для нее. Лев Николаевич наметил дату ухода (4 августа 1897 года), но не ушел, а только записал в Дневнике: «Пережил очень много. Экзамена не выдержал. Но не отчаиваюсь и хочу переэкзаменовки. Особенно дурно держал экзамен потому, что имел намерение перейти в другое заведение. Вот эти мысли надо бросить, тогда будешь лучше учиться» (53.384).
Серый пакет передали Софье Андреевне после смерти мужа. Прочтя второе письмо, Софья Андреевна тут же, при всех, боясь промедлить и мгновение, не желая перечитывать слова умершего мужа к себе, в клочки разорвала его письмо. Этим прощальным письмом Толстой, надо полагать, и «выстрелил» в свою жену. О чем же он тогда писал ей? И что так перепугало ее? Какую ее тайну раскрыл Толстой в нем?
«Это было самое обыкновенное нормальное увлечение, – со всеми теми особенностями, какие имеет «последняя любовь». Недаром Софье Андреевне так нравилось это стихотворение Тютчева, – писал впоследствии Н.Н. Гусев семидесятилетней дочери Толстого Татьяне Львовне. – И как вы объясняете то, что чувство С.А., продолжавшееся до последнего года жизни Л.Н., со смертью его, по-видимому, совершенно прекратилось?»[350]350
Толстовский ежегодник. М., 2001. С. 141.
[Закрыть] Татьяна Львовна ответила ему, что, по ее впечатлению, «уже давно об этом (о чувстве матери к Танееву. – И.М.) не было и речи». Н.Н. Гусев два года и не наездами, как дети, а изо дня в день изнутри наблюдал семейную жизнь Льва Николаевича и, надо думать, знал, что говорил. Что, если он прав? Горячо любивший Льва Николаевича Гусев не слишком сочувствовал Софье Андреевне и, по-видимому, полагал, что «последняя любовь» ее использовалась ею (или даже возникла в ней) в пику мужу. О чем свидетельствует и приведенная чуть выше цитата из Дневника Толстого от 20 декабря 1896 года. Но это еще не то, обнародование чего могло так испугать Софью Андреевну и что, надо думать, и составляло то «совсем неожиданное, исключительное унижение», от которого страдал Толстой.
Уходу Толстого из дома и написанию тех писем, одно из которых разорвала Софья Андреевна, предшествовал ночной разговор Льва Николаевича с женой. Толстой записал этот свой разговор для только что уехавшей из Ясной Поляны Татьяны Андреевны Кузминской, которая неделю пыталась примерить супругов. Дело происходило в ночь с 28 на 29 июля 1898 года, а за две недели до этого Софья Андреевна по дороге в Киев к сестре заехала к знакомым специально для встречи с С.И. Танеевым.
«Нынче ночью был разговор и сцена, которая подействовала на меня еще гораздо более чем последняя ее поездка». Так начинается запись этого документа, который в толстоведении принято называть «Диалогом».
Толстой очень устал и не хотел разговаривать. Но Софья Андреевна ждала в Ясную Танеева, и ей нужно было обговорить его приезд с мужем. «Ты будто приготавливаешь меня к неприятному ожиданию», – понимает Толстой. «Что же мне делать? – отвечает С.А. – Я не звала».
«Заедет он или не заедет, не важно, даже твоя поездка не важна, важно, как я говорил тебе, два года назад говорил тебе, твое отношение к твоему чувству. Если бы ты признавала свое чувство нехорошим, ты бы не стала даже и вспоминать о том, заедет ли он, и говорить о нем».
Спор в Диалоге идет не о поведении Софьи Андреевны и не вокруг приезда Танеева, а вокруг ее чувства к музыканту. Лев Николаевич в очередной раз призывает ее «обсудить самой с собой, хорошо ли то чувство, которое ты испытываешь к этому человеку, или дурное». Софья Андреевна сначала утверждает, что у нее нет никакого чувства, «ни хорошего, ни дурного», потом, что «чувство это так неважно, ничтожно», потом, что «нет в нем ничего дурного», потом, что «у меня нет чувства к мужчине, есть чувство к человеку», затем, что «он для меня не мужчина. Нет никакого чувства исключительного, а есть то, что после моего горя мне было утешение музыка, а к человеку нет никакого особенного чувства»[351]351
Так, разумеется, говорили бы многие женщины, почти так говорила и жена Позднышева.
[Закрыть] и, наконец, пытается перевести разговор со своих чувств на свое поведение и признает, что она «сделала дурно, что заехала, что огорчила тебя. Но теперь это кончено, я сделаю всё, чтобы не огорчать тебя».
Толстой возвращает разговор на прежние рельсы:
«Ты не можешь этого сделать потому, что всё дело не в том, что ты сделаешь – заедешь, примешь, не примешь, дело всё в твоем отношении к твоему чувству». Нет никакого чувства, возражает она. «И вот это-то и дурно для тебя, что ты хочешь скрыть это чувство, чтобы удержать его… Если ты признаешь, как ты признаешь теперь, что чувство это хорошее, то никогда не будешь в силах не желать удовлетворения этого чувства, т. е. видеться, а, желая, ты невольно будешь делать то, чтобы видеться. Если ты будешь избегать случаев видеться, то тебе будет тоска, тяжело». «Ты раскаиваешься в поступках, а не в том чувстве, которое ими руководит».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































