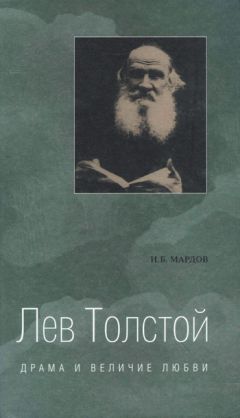
Автор книги: Игорь Мардов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 46 страниц)
11(71)
Мы выбрали метафизическую точку зрения и, глядя с этой точки, видим, что до 70 лет Лев Толстой неудачник, несмотря на всю славу его и величие.
Прежде всего Толстой – несчастливец в сторгическом отношении. Лев Николаевич всегда желал Сопутства, целую жизнь мучительно ждал его, но ему так никогда не удалось войти даже в благосостояние своей сторгии. Единственную видимую исследователю возможность осуществления своей сторгии с Зинаидой Молостовой Толстой странным образом упустил. Она слишком рано и слишком неопределенно вошла в его жизнь. Время от времени возникавшее в нем стремление связать жизнь то с казачкой, то с крестьянкой вряд ли могло принести Льву Толстому то, что он хотел. И встреча с Валерией Арсеньевой, на которую истрачена его любовь личностного рождения, оказалась недоразумением.
В 34 года Толстой экспромтом женился и потом раскусил: «не она». Год промучившись, Лев Николаевич понял, что «ничего не сделаешь против сложившегося», и решил из нее же делать себе жену. И вроде бы вполне преуспел в этом. Счастливая семейная жизнь продолжалась лет семь, затем «лопнула струна» и сторгический рост прекратился. Из-за сокрытого противостояния чужая сторгия стабильна постольку, поскольку супруги совместными усилиями активно поддерживают установившийся порядок течения жизни. Духовное рождение Толстого взорвало ситуацию. Чуждость двух сторгически связанных людей предстала им же со всей очевидностью. Но Толстой не ушел, а после двадцати лет супружеской жизни решил переделать совершившуюся чужую сторгию в свою сторгию. Как свидетельствуют многие наблюдатели, Лев Николаевич все отдал бы, чтобы Софья Андреевна в его духовной жизни стала рядом, вместе с ним; многие годы он не желал смириться с невозможностью этого. В результате Льву Толстому пришлось пережить сторгическую катастрофу.
Неудачи собственно метафизической биографии Толстого не столь очевидны. Посланцу из Эдена, поселившемуся в высшей душе Толстого, было явно не впервые восходить на Пути жизни человека. Несмотря на срывы в начале Путепрохождения, Толстой с легкостью преодолел и подъем личностного рождения, и подъем Пробуждения. Трудности начались только на подъеме духовного рождения, в результате которого эденскому существу Толстого предстояло явить себя Саром Совести. Оно, по-видимому, исходно было нацелено на духовное рождение и Сара Совести. И потому на метафизическую биографию Льва Толстого прежде всего надо смотреть с позиции того, насколько те или иные моменты ее вписываются в движение к заданной цели – к Сару Совести.
Почти два десятилетия Толстой вынашивал тему, которая, несомненно, имела непосредственное отношение к указанной цели. Это не столько «мысль народная», сколько мысль о векторе душевного развития русского народа. Она лежит в основании замысла, который привел Толстого к «Войне и миру». Где этот замысел исполнен не был. Затем – роман о Петре Первом, задуманный как произведение об истоках движения русской Общей души в Новой истории. И опять неудача.
Перед взводом духовного рождения, в путевом затишье, на плато Пути, Толстому необходимо было несколько лет усиленной художественно-исследовательской работы для уяснения духовных основ русской Общей души и исторических процессах в ней происходящих. Вместо этого он написал «Анну Каренину», предельно значимое лично для Толстого и – в силу масштаба его личности – для человечества произведение. Но в метафизической биографии Толстого этот гениальный труд занял не свое место. На предварительную работу о русской Общей душе и ее общедуховных основах, работу, в итог которой всецело мог вписаться и Сар Совести, времени до подъема духовного рождения у Толстого не осталось. В этом смысле его Сар Совести явился не подготовленным, не опирающийся на добытое и достаточно глубоко пережитое общедушевное и общедуховное знание. Многие огрехи первоначальной проповеди Толстого, должно быть, от этого.
Идеалы Сара Совести не требуют нетерпимости к какому-либо вероисповеданию, принятому Общей душою, в духовные начала которой эти идеалы должны внедриться. Любая конфессия необходима для духовного единения людей в общедушевных рамках. Средствами вероисповедальческих постулатов Общая душа духовно консолидирует вокруг себя и, что нам здесь особенно важно, осуществляет духовную связь поколений. Если Толстой, как он хотел, все-таки потратил бы многие годы жизни на художественное исследование общедушевных процессов, идущих из поколения в поколение, то он куда с большей осторожностью сокрушал традиции и догматы Веры, которые исповедовали его предки. От вероисповедальческих постулатов требуется не достоверность, а веро-достаточность, в том числе и для обеспечения духовной власти.
Носители духовной Власти в сакральном общедуховном мире – Сары Власти. Среди них рано или поздно должен стать и Сар Совести, держатель духовной власти Совести во все-общедуховном поле и в какой-либо отдельной Общей душе. Сар Совести – это Сар Власти и в ином качестве выступать не может. Толстой в проповеди теоретически боролся за власть Сара Совести против действующих Саров Власти, а не включал его в их состав.
Если предположить, что Лев Толстой ниспровергал наличную духовную власть для того, чтобы расчистить дорогу к власти Сару Совести, то это крайне неудачный маневр. Таким способом он не только воздвигнул на его пути трудно проходимые заслоны, но и вызвал на него их ответный огонь. Впрочем, Сар входит в Общую душу не по проповеди, а как-то иначе. Одно дело тексты, в которых отчетливо зафиксирован голос Сара Совести, а другое практика мистического делания нового Сара, которая не зависит от стрельбы вероучительскими обличениями и вообще от религиозных писаний любого рода. И все же нельзя не отметить тактическое несоответствие проповеди Толстого начала 80-х годов и общедуховных задач, стоявших тогда перед его эденским существом. В конце концов Толстой (хотя бы в умозрении) вывел общедуховного носителя Совести из сферы собственно человеческого существования к Божественным высотам. Этим Сар Совести исключался и из Общей души.
Религиозная критика Толстого не уместна постольку, поскольку он сам оставался на общедуховных позициях. С личнодуховной точки зрения она законна. Ненасилие как принцип общедуховной жизни использовался Толстым по тому же назначению – в качестве орудия против Власти как таковой. Во времена «В чем моя вера?» это переводило его мысль во внутренне несвойственную Толстому плоскость общественного учения, по внешности напоминающего анархизм. Интересно, что через полвека после смерти Толстого ненасилие стало одним из знамен мнимодушевности; это еще раз указывает на причины, по которым Сар Совести не мог войти в общедуховный пласт многих и многих Общих душ.
Когда Толстой перешел на поприще личной духовной жизни, то то же орудие ненасилия и вся толстовская критика светской и духовной власти вошла в свое русло. Оказалось, что Толстой проламывал и, хотелось бы думать, проломал стену общедушевной и общедуховной жизни для того, чтобы через этот пролом выпустить на простор личную духовную жизнь человека. Именно поэтому мы сейчас имеем возможность войти в этот пролом и попытаться освоить кое-что из того, что в нем открывается.
Однако не состоявший в Сопутстве Толстой не мог достигнуть вершины личной духовной жизни. После того как толстовское эденское существо, готовое стать Саром Совести, не смогло стать им, у него осталась одна дорога – обратно в Эден по почти непроходимому одиночному Пути восхождения. Быть может, после неудачи с Саром Совести Лев Николаевич совершал нечто сверх того, что ему назначено, а может быть, ему в начале 80-х годов не удалось совершить то, что лишь первым на очереди было назначено ему. Второе вероятнее, так как то, что Толстой выработал, работая на и для Сара Совести, осталось в нем и когда его эденское существо свернуло с общедуховной стези и через личную духовную жизнь взяло курс в метачеловеческую Обитель существования.
На поприще личной духовной жизни Толстой переходил постепенно с середины 80-х годов. Нельзя сказать, что и это поприще его жизни с метафизической точки зрения было целиком и полностью успешное.
Толстой всю жизнь шел к осмыслению и выявлению личной духовной жизни, но созрел для проповеди ее только к 60 годам, во второй половине 80-х годов. Повторим то, что говорили не раз: Лев Толстой – пророк личной духовной жизни, возможно, первый ее пророк. Это еще одно великое назначение его и его жизни. Он пробивал заслоны общедуховной жизни и обличал то, что тормозит или сгоняет человека с поприща личной духовной жизни. Но не этого, не всяческих разоблачений человека, его общественной и общедуховной жизни, а религию и мировоззрение личной духовной жизни ждал от пророка Толстого Тот, Кто послал его. Как положено пророку, Толстой должен был возвестить, но он не возвестил начало эры личной духовной жизни в человечестве. Да и поприще личной духовной жизни Льва Николаевича длилась недолго, всего-то лет десять.
Толстой, очевидно, мог оставить нам, людям, полноценное учение о личной духовной жизни, но не сделал этого. «Царство Божие внутри вас», основное произведении той поры, имеет подзаголовок, указывающий на то, что это произведение призвано предъявить «новое жизнепонимание». В действительности же личная духовная жизнь лишь обозначена в нем, возвещена в принципах, и только. Общая картина учения личной духовной жизни у Толстого смазана. В «Царстве Божьем внутри вас» есть и многостраничная критика критиков учения ненасилия, и изобличение воинской повинности, которую Толстой в ту пору счел основным злом общественной жизни, и многое другое, в чем тонут основы учения о личной духовной жизни.
Впрочем, в архиве Государственного музея Толстого в Москве хранится огромный неопубликованный и неисследованный материал – рукописи к «Царству Божьему внутри вас». Судя по тому отрывку, который опубликован в 28 томе 90-томного собрания сочинений, в этих рукописях содержатся, пусть и в черновом виде, бесценные мысли Толстого о личной духовной жизни и о философии человеческой жизни с точки зрения «нового жизнепонимания».[397]397
В ныне издающемся стотомном собрании сочинений Толстого, план которого составлялся литературоведами, не предполагается публикация этих рукописей. По «Царству Божьему» необходимо издать отдельную книгу, которая, бесспорно, обогатит человечество новой и высшей мудростью.
[Закрыть] Но почему-то Толстой не стал разрабатывать его, а вместо этого в «Христианском учении» занялся проработкой псевдообщедоступного линейного самосовершенствования. Принцип «Христианского учения» – постепенный рост, постепенное, пошаговое самосовершенствование. Но последних шагов этого совершенствования в трактате нет и, главное, нет сюжета духовного роста на Пути жизни. Все основано на теоретически доступном всякому, но несвойственном мысли Толстого лобовом усилии воли и духа.
Эденское существо Толстого не было, видимо, нацелено на восхождение одиночного Пути. Он словно сам останавливал себя. Поприще личной духовной жизни, как и предыдущее, оказалось проходным в метафизической биографии Льва Толстого. Он установил некоторые наиважнейшие принципы личной духовной жизни, стал ее пророком, но не создал стройное и более или менее развернутое религиозное учение о ней. Не был он и на ее вершинах, не стал достигать их, а устремился к вершинам жизни всемирно духовной. Это новая ступень в его метафизической биографии. На прежних ступенях одно из центральных мест было отведено Софье Андреевне. На новой ступени важнейшее место принадлежит Марии Александровне Шмидт.
Глава 7
Эденская любовь (Мария Александровна и Лев Николаевич)
– Все-таки все хорошо, милая Мария Александровна, – говорил в конце концов Лев Николаевич.
– Все хорошо, милый Лев Николаевич, – говорила Мария Александровна, и у обоих стояли на глазах слезы умиления.
Е.Е. Горбунова-Посадова «Друг Толстого Мария Александровна Шмидт».
1(72)
Гроб с телом Льва Николаевича установили в яснополянском доме внизу, в комнате, где стоял бюст брата Николая Николаевича. Пустили публику. Потом прощались свои. «В доме было множество съехавшихся родных и друзей, – рассказывает А.Б. Гольденвейзер.[398]398
Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. Т. II. М., 1923. С. 364.
[Закрыть] – Когда сняли крышку, все близкие вошли в комнату. В комнате и прихожей было тесно. Вдруг кто-то тихо сказал: «Мария Александровна». Я стоял близко к двери и оглянулся. По лестнице сверху шатающейся походкой медленно сходила Мария Александровна. Все невольно расступились… Мария Александровна тихо вошла в комнату, где лежал в гробу Лев Николаевич, и поклонилась ему до земли. Все вышли из комнаты, затворили двери и оставили ее у Льва Николаевича на несколько минут».
Не сговариваясь, все близкие Толстому люди в час прощания с ним дали вошедшей женщине – только одной ей и никому другому – великую привилегию: в последний раз остаться с Львом Толстым наедине. У закрытой двери на страже встал Андрей Львович. «Подождите, там Мария Александровна, вошла проститься», – строго предупреждал он. Пусть таким останется он в памяти нашей.
Мария Александровна Шмидт последние 18 лет жизни постоянно жила «трудами рук своих» в крохотной избушке, в пяти верстах от Ясной Поляны, на хуторе, расположенном на месте давно сгоревшей усадьбы близ деревни Овсянниково. Для друзей Толстого, на лето селившихся в деревне и на хуторе, это место было особенно привлекательно тем, что здесь заведомо можно было встретить самого Льва Николаевича, который часто, бывало и ежедневно, бывало и в осеннее ненастье, наведывался к Марии Александровне.
«Толстой, совершая после завтрака свои верховые прогулки, при которых я нередко его сопровождал, – свидетельствует секретарь Толстого Вл. Ф. Булгаков, – часто навещал Марью Александровну. Помню, как, бывало, сойдя с лошади, он шел навстречу к завидевшей его издали старушке, одетой обычно в скромную темную кофточку и в короткую, домашнюю, посконную юбку. Старички помаленьку «спешили» на согнутых ногах навстречу друг другу и, сойдясь, целовались. Прощался Лев Николаевич с Марьей Александровной тоже поцелуем. Нельзя было без умиления смотреть на них».
Жена И.И. Горбунова-Посадова Елена Евгеньевна рассказывает:
«Объехавши длинный овраг, мы подъехали к усадьбе, огороженной старыми ветлами. Вправо виднелся совсем еще молодой фруктовый сад, посаженный Л. Н-чем. Обогнувши заросль высоких акаций, мы выехали на большую, залитую солнцем поляну. Первое, что бросилось нам в глаза, – это Л. Н. с лошадью в поводу и М. А. в короткой серой юбке, без верхней кофты, в белой рубашке с длинными рукавами и в белом бумазейном лифике. На голове белая пикейная панама, привезенная ей кем-то из друзей из Италии. Так одевалась М. А. только в самую жару и на работу… Старики так были заняты своим разговором, что заметили нас только, когда мы подъехали к самому дому».
И в другой раз, несколько лет спустя:
«Но вот густая зелень сада, вот и дорожка, обсаженная по одну сторону акациями. Мы огибаем акации и видим на поляне перед старенькой избенкой в два окна – двух залитых солнцем стариков, Льва Николаевича с лошадью в поводу и Марию Александровну.
Как жаль, что я не художник и не могу зарисовать по памяти этих двух, может быть, самых лучших людей, с которыми меня столкнула жизнь, – нарисовать эту лужайку, которая и до сих пор кажется мне и моим детям самым лучшим местом на земле: так много счастья, ласки, любви мы здесь видели, так много здесь было пережито, передумано, перечувствовано. Зарисовать и эту бедную хатку, теперь давно погибшую в огне пожара, и акации, теперь вырубленные, и огород, и старый сад, и самое солнце, заливавшее все в этот день своими сверкающими весенними лучами.
Старики разговаривали между собой и не сразу заметили нас. И такой взаимной дружеской любовью были полны их фигуры».
В последние годы Мария Александровна не на шутку опасалось, что Толстому стало не по силам ездить к ней.
«Голубка, дорогая моя, – пишет она Татьяне Львовне, – попросите папа не ездить, видимо, я скоро поправлюсь и сама вас всех навещу. Я очень боюсь дороги на Козловке. Сохрани Бог, да он упадет… Спасибо за любовь ко мне…».
Овсянниково принадлежало дочери Толстого Татьяне Львовне. Ей слово:
«От времени до времени Мария Александровна выходит из своей избушки и поглядывает на бугор, ведущий к деревне. Она знает, что почти всегда, когда к ней приезжает кто-нибудь из Ясной Поляны, то, наверное, и отец не вытерпит и тоже верхом приедет к ней.
И действительно, она видит, что из-за деревенских сараев показывается всадник. Мария Александровна бросается ко мне в избу и кричит: «Папа!»
Потом выбегает его встречать.
Иногда он слезает с лошади, привязывает ее и входит к нам в избу. Чаще же он разговаривает с Марией Александровной, не слезая с лошади. А Мария Александровна стоит около него, положив руку на плечо лошади, и восторженными, любящими глазами глядит кверху к нему в лицо.
Отец, немного наклонившись к ней, рассказывает ей что-нибудь о том, какие он получил письма, какие были у него посетители…
Когда он уезжает, мы возвращаемся в избу и некоторое время молчим. Мария Александровна полна впечатлений от свидания и разговора, и я не хочу нарушить ее настроения. Потом и я уезжаю, чувствуя, что на сегодня, по крайней мере, я сделалась лучше».[399]399
Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М., 1976. Очерк о М.А.Шмидт.
[Закрыть]
Каждый год, двенадцать лет подряд, с весны до поздней осени Елена Евгеньевна Горбунова-Посадова жила в Овсянникове, рядом с Марией Александровной и хорошо знала атмосферу ее дома.
«Редко где еще так хорошо, так просто, так тепло чувствовали себя люди всех классов, всех состояний, всяких направлений, как у М. А-ны. Нигде, может быть, так не раскрывали душу, нигде не обсуждались самые глубокие вопросы жизни, как здесь.
Здесь и Л. Н. был не только дорогим гостем, но и сам находил успокоение и отдых. Он так часто заезжал сюда, чтобы поделиться своими мыслями, своими радостями и горестями, поделиться новыми сведениями, полученными со всех концов мира. Он знал, что здесь не только поймет его старый друг и оценит все то, чем он живет, но, что гораздо важнее и редко бывает, этот друг любит его за самое лучшее, что есть в нем, стоит зорко на страже того, чтобы это лучшее ярко горело и светило людям».
Почти теми же словами Толстой говорил о достоинстве настоящих женщин в Послесловии к «Душечке». Чеховская героиня обнаруживала эти качества по отношению к Кукину и Пустовалову. В 1905 году, когда Толстой писал это Послесловие, Мария Александровна являла те же качества в личной жизни самого Льва Николаевича.[400]400
В конце жизни Толстой, как мы знаем, записал, что не дети предназначение женщины. Но тогда – какое? Не сказано. Почему-то мне думается, что он писал эти слова и перед собой видел Марию Александровну.
[Закрыть]
«Здесь, во «дворце» старушки Шмидт, – свидетельствует дочь Толстого, – находил Толстой простоту жизни, душевный отдых и внутреннее тепло, которого он был лишен в своей домашней обстановке».[401]401
Александра Толстая. Отец. Т. II. М., 2001. С. 255.
[Закрыть]
Здесь был другой и подлинный дом Толстого. Тот, который был нужен ему.
«Л.Н. знал, что М.А.-не он может спокойно высказать и свои тайные и семейные горести, так как они не вызовут в ней чувства негодования и раздражения на его родных, на людей, живущих с ним. Он знал, что она всех их прекрасно знает и любит и прощает им все то тяжелое, что в них есть. Он знал, что его жалоб не узнает никто, что его самого она поддержит в его чувстве любви, смирения, терпения, что крик боли и негодования, вырывавшийся порою у него, она облегчит своей любовью и лаской и напомнит ему, что все хорошо, все к лучшему, все минуется, одна любовь останется.[402]402
И Татьяна Львовна вспоминает, что отец «часто приезжал к Марии Александровне, чтобы излить ей свою душу».
[Закрыть]
Сколько раз помню Л. Н-ча, уходящего от нее со слезами умиления на глазах.
– Все хорошо, Мария Александровна, – говорит он.
– Все хорошо, милый Лев Николаевич, – отвечает старушка и с глубокой любовью смотрит на него».
Бывало, что Мария Александровна пересказывала случаи жизни Льва Николаевича, которые он поведал, но никогда не передавала другим его мысли. Вслед Толстому она считала, что многие беды происходят от пересказывателей мыслей религиозных учителей. Лев Николаевич знал это и потому мог быть с ней безоглядно раскрыт в мысли, даже еще не выверенной. Все его мысли и чувства оставались только между ними. Толстому было очень важно, что он мог делиться с нею всем, в том числе и сомнениями мысли.
«Л.Н., замученный, истерзанный, приезжал к М. А-не отдышаться, посидеть в тихом уголке, среди любящих его людей, поделиться своими мыслями, виденным, слышанным, полученными письмами, – вспоминает Е.Е. Горбунова-Посадова. – М.А. удваивала свою ласку, и видно было, как старик отходил под ее спокойным, любящим взглядом, под ее чуткими расспросами и ободрениями.[403]403
«Пополудни уехала Мария Александровна, – записывает Маковицкий, – с ней уезжает спокойствие и мир, которые вносит ее присутствие» (ЯЗ. Кн. 3).
[Закрыть]
– Все-таки все хорошо, милая Мария Александровна, – говорил в конце концов Лев Николаевич.
– Все хорошо, милый Лев Николаевич, – говорила М.А., и у обоих стояли на глазах слезы умиления».
А.Б. Гольденвейзер:
«Как-то сидели после обеда в саду за столом. Была Мария Александровна. Лев Николаевич сказал ей:
– Хорошо, Мария Александровна?
– Хорошо, Лев Николаевич, очень хорошо.
– А я, Мария Александровна, счастливей вас.
– Почему?
– Вас никто не ругает, а меня ругают».[404]404
Гольденвейзер А.Б. Т. II. С. 233 (эпизод 1908 года).
[Закрыть]
«Что можно сказать о Марии Александровне? Святая! Сгорбленная, худая – кожа да кости, глаза горят,[405]405
«Вся она была цельная, чистая, горящая внутренним духовным огнем», – вспоминала Александра Львовна.
[Закрыть] в чем душа держится?! Истинно святые всегда радостны. Радостна была и Мария Александровна. Вся светилась. Душа чистая, наивная. Льва Николаевича она бесконечно любила и чувствовала изнутри по-настоящему. Приедешь с Львом Николаевичем к ней в Овсянниково верхом или на шарабане – она выскочит, увидит Льва Николаевича, задохнется от радости, закашляется… Залает ее шавочка. Лев Николаевич войдет и скажет:
– Хорошо, Мария Александровна!
– Хорошо Лев Николаевич, – ответит она. И чувствуешь, что это у них не слова».[406]406
Гольденвейзер А.Б. Т. II. С. 391.
[Закрыть]
И еще из воспоминаний Е.Е. Горбуновой-Посадовой: «И потекла, дни за днями, год за годом, наша летняя жизнь в Овсянникове, где каждый клочок земли, каждый куст хранит память о Льве Николаевиче. Вот молодой сад, весь посаженный его руками или под его руководством. Вот изба Марии Александровны, на починку которой привозил он лес из Ясной. Вот огромная ветла над старым деревянным столом, врытым в землю, с такими же скамейками вокруг него. Так часто здесь пил он чай, рассказывал все, что волновало, захватывало его, чем он жил в те дни, шутил, смеялся. А сколько было им прочитано здесь писем, просмотрено корректур и т. д… Вот мы сидим под огромной ветлой, закрывающей нас от солнца. Лев Николаевич рассказывает, и, когда говорит о человеческих страданиях, о людях, живущих по велению совести, о торжестве добра в чьей-нибудь душе, голос его дрожит, срывается, глаза заволакиваются слезами.
Но как бы тяжело ни было самому ему, Лев Николаевич всегда скажет в конце концов:
– А ведь хорошо, душенька Марья Александровна. Правда, хорошо?
– Хорошо, милый, уж так хорошо! – отзывается Мария Александровна».
Этот всегдашний диалог, помеченный обоюдной сторгической счастливостью общения, – своего рода пароль. Пароль двуединства их душ и их общей благости.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































